Диалектика и проблемы анализа социальных процессов. Часть 2
Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции «Культура и проблема цивилизационного выбора», посвященной юбилею доктора философских наук, профессора Гусевой Нины Васильевны (25-26 ноября 2020). Часть II.
Под общей редакцией председателя правления НКО «Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова», ректора, PhD, профессора, академика Академии педагогических наук М. Толегена.
Редакционная коллегия Гусева Н. В., Кабдрахманова Ф. К., Колчигин С. Ю., Лобастов Г. В., Майданский А. Д., Мужчиль М. Д., Оскембай А. А., Ровнякова И. В., Рякова Е. Г., Савчук Е. В., Сагикызы А.
Диалектика және әлеуметтік процестерді талдау мәселелері = Диалектика и проблемы анализа социальных процессов = Dialectics and problems of analysis of social processes: материалы VII Международной научно-практической конференции «Культура и проблема цивилизационного выбора», посвященной юбилею доктора философских наук, профессора Гусевой Нины Васильевны (25-26 ноября 2020): в двух частях.— Часть II.— Усть-Каменогорск: Берел, 2021.— 236 с.
Данный сборник создан на основе материалов докладов, представленных на Международной научно-практической конференции «Культура и проблемы цивилизационного выбора» (заседание №7, 2020 г.), на Международном философско-методологическом семинаре «Проблема человека: история и современность» (заседание No 7, 2020 г.), а также на Международном круглом столе «Идеи и обоснования к программам инноваций» (заседание №2, 2020 г.).
В первой части находятся статьи, посвященные рассмотрению диалектики как логики, теории познания и методологии, а также осмыслению потенциала других исследовательских подходов и форм рефлексии. Вторая часть содержит материалы, касающиеся анализа социальных процессов и нравственных коллизий в бытии человека, а также, образования и инноваций в контексте их философского осмысления. Авторами представляемых в сборнике материалов являются ведущие ученые вузов и Академий наук Казахстана, России, Беларуси и Украины.
Материалы данного сборника рекомендуются ученым гуманитарного профиля студентам, аспирантам, магистрантам, докторантам, а также всем, кто интересуется актуальным состоянием и перспективами развития диалектики, общества и образования в современном мире.
3. Параметры анализа бытия человека и общества в социальной философии: актуальные подходы и дискурсы
3.1. Морозов М. Ю. История логики и логика истории: от «малого бытия» к движению по логике целого
Название настоящей статьи не есть игра слов на заданную внешним образом тему с претензией на умствование, которое по форме порою так напоминает диалектику, что иной читатель (а иногда и сам пишущий), не обремененный развитой способностью суждения, принимает одно за другое. Оно лишь выражает попытку проследить бытие этих противоположностей в единстве и различить свое-иное в каждой из них, притом задача эта, оставаясь сугубо философской, имеет прямой выход в общественное бытие; по справедливому указанию Маркузе, «опосредование прошлого и настоящего открывает движущие силы, которые творят факты и определяют ход жизни, которые создают господ и рабов,— таким образом, оно открывает перспективу пределов и альтернатив»[1]. Однако мы так часто берем понятие «общественного бытия» как само собой разумеющееся, что не лишне будет — коль уж позиция Сократа признается еще действительным основанием философии — не лишне будет спросить: каково само это «общественное бытие»? Как верно замечает Д. Гутов[2], известное положение Маркса об определении сознания общественным бытием, можно прочесть по-разному: «Малое бытие (определенный класс, к которому я принадлежу, мое физическое состояние, детские травмы и прочее) определяет мою ограниченность. Но как вменяемое существо я могу отвлечься от своей личности и посмотреть на мир в целом: на соотношение всех классов в обществе и, шире, на связь всего космоса как целого. И в этом случае мы имеем дело уже с принципиально иным сознанием, границы которого совпадают только с границами всего мира».
Логическое и историческое есть, по словам Ильенкова, «типичнейший случай диалектических противоположностей»[3]. Для сложившегося состояния дел небесполезно отметить как их различие, касающееся способов осмысления и количества предпринятых за время их существования попыток это сделать, так и выступающее через это различие единство: множество концепций истории сводятся, в конечном итоге, к двум линиям, которые в логике научились различать довольно давно. История частных наук для частичных ученых — лишь потенциально небезынтересный факультатив, логика же для историков — странный предмет, оставшийся — слава богу! — позади на далеком первом курсе университета; по своему незавидному наличному положению и та, и другая — яркие примеры превращенных идеальных форм.
Начиная с кандидатской диссертации, где вопросу о связи логического и исторического был посвящен один из разделов, Ильенков неоднократно возвращается к этой теме: отдельная глава в «Диалектике абстрактного и конкретного» (вызвавшая критику со стороны В. А. Вазюлина[4]; критика эта, хотя и послужила основанием для развития его собственной «логико-исторической школы», не свободна от абстрактного понимания метода Маркса, а также содержит ряд ошибок в критике по существу, однако это тема для отдельной работы), ряд статей в 60-х и 70-х годах, очерк в «Диалектической логике», а также историческое, по собственному признанию[5], исследование в докторской диссертации дают право говорить о том, что вопрос о диалектике логического и исторического был для Ильенкова одним из важнейших. И не только для него одного: «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории»,— пишет Маркс[6]. Сегодня вопрос о наличии логического основания в движении истории встает с новой силой постольку, поскольку обнажаются противоречия существующего мира, шатко балансирующего в положении неустойчивого равновесия. Противоречия эти электризуют безразличные «умы» (это слово по необходимости приходится ставить в кавычки), замкнутые до этого в рамки ближайших целей и потребностей, чаще всего не доходящих до подлинно человеческого порядка. Такая наэлектризованность, по законам общественной «электродинамики», сосредотачивается на двух полюсах — положительном и отрицательном, левом и правом — напряжение растет. Растет потому и интерес к образу будущего — и для того, чтобы грамотно ответить на вопрос, поставленный еще Р. Люксембург (который она сформулировала в форме дихотомии), нам требуется обратиться к богатству культурного наследия прошлого во всей полноте; в философии — к трудам тех мыслителей, которых нельзя занести в апологеты существующего порядка. Поэтому вернемся к Ильенкову.
На его докторской диссертации следует остановиться особо. Исторический характер этого исследования, как следует из стенограммы защиты[7], немало озадачил оппонентов — не этого ждали от сотрудника сектора диалектического материализма. Представляется верным, что это было связано с устоявшимся на тот момент «разделением труда» среди философов, которое следовало из общепринятого понимания предмета философии отнюдь не в духе классиков марксизма; забавным образом — двояко, выворачивая наизнанку смыслы — проявлялась диалектичность такой ситуации. Проявлялась, во-первых, в том, что позиция Ильенкова, имеющая своим основанием позицию Энгельса и Ленина, была объявлена «антимарксистской» и идеалистической, а во-вторых — в том, что диалектика, будто бы ограниченная в злополучных тезисах только областью мышления (по утверждению критиков), проявляла себя в самой что ни на есть реальной жизни. Из этой же стенограммы мы можем почерпнуть и происхождение следующего обвинения, что тиражируется сегодня как прямыми противниками Ильенкова и его наследия (что неприятно, но ожидаемо), так и его названными «друзьями» (что неприятно особенно). Речь идет об «искажении истории философии» (Г. А. Давыдова: «Автор искажает историю философии»[8]) и о «подделке позиций отдельных философов» (например, Спинозы. Й. Элез: «Диалектика Спинозы» — это слишком широко. Марксова оценка Спинозы передана, как мне кажется, однобоко. Марксизм не есть вид спинозизма. И я согласен здесь с Богдановым»[9]). Знакомые для читателей статей А. Д. Майданского[10] замечания о «придуманном Спинозе», имеют, разумеется, объективные основания. Впрочем, утверждают они совсем не то, что хотелось бы опирающимся на них авторам, а возражения, на этих основаниях построенные, неизбежно бьют мимо цели, если учитывать, по меньшей мере, высказанные самим Ильенковым положения о своем понимании сущности историко-философской работы, хотя и «…необходимо … различать то, что какой-либо автор в действительности дает, и то, что дает только в собственном представлении. Это справедливо даже для философских систем: так, две совершенно различные вещи — то, что Спиноза считал краеугольным камнем в своей системе, и то, что в действительности составляет этот краеугольный камень»[11].
Позиция Ильенкова основывается на идее совпадения логики, диалектики и теории познания; именно в этом «ключ к ленинскому, к диалектико-материалистическому пониманию вопроса о том, как, зачем и почему надо изучать философию, что в ней можно и нужно искать коммунисту, что может и должна дать философия человеку, поставившему своей высшей целью творческое преобразование Природы и общественных отношений с таким расчётом, чтобы людям всего мира обеспечить все условия для свободного, творческого труда»[12]. Именно эта «суть дела» и позволяет обнаружить «богатства, неисчерпаемые сокровища — те самые сокровища, к которым остаётся слепым любой буржуазный философ и теоретик, каким бы субъективно талантливым он ни был»[13]; любой другой «угол зрения», в том числе строгий текстологический, «историко-философский» в общепринятом смысле, анализ не позволит к ним прикоснуться: «за чем пойдешь, то и найдешь». К этому же относится и так любимая Ильенковым цитата из Маркса о «ключе к анатомии обезьяны»: у марксистов и у их критиков разные «истории философии» (ср., например, позицию Рассела с позицией Ленина), разные науки, разные предметы этих наук, различные исследуемые целостности, стороны которых они отмечают в истории человеческой мысли. Об этом упоминает и М. Семек (более всего ценивший в «Диалектической логике» именно второй очерк) в своей рецензии: «Основное отличие от традиционной философии заключается здесь в различном понимании самого «мышления». Ильенков указывает на эту разницу с самого начала: «…мышление мы понимаем как идеальный компонент реальной деятельности общественного человека, преобразующего своим трудом и внешнюю природу, и самого себя»[14]. Именно поэтому непонятно с любой иной точки зрения, что же искали в истории философии «увлекшийся делом Логики» Ильенков, «сделавший» Спинозу материалистом, и Ленин, «сделавший» материалистом самого последовательного идеалиста всех времен, а также то, как они к таким выводам пришли. Последнюю мысль, что кажется парадоксальной — о материализме Гегеля — замечательно развивает Г. В. Лобастов в своей статье[15]. Какую бы позицию не занимали оппоненты Ильенкова в этом вопросе, суть спора сводится к известному положению, которое обязывает делать выбор: «есть только два класса», и тут уж либо Ленин, либо Богданов.
Работа Ильенкова как «историка логики» достигает своей главной цели — приобщения ко всеобщности исторического развития, к пониманию логики истории. Диалектика стала благодаря его работам «тем, чем всегда была для самого Маркса: живой, подлинной теорией человеческого мира обобществлённой историчности — мира науки и техники, культуры и обычаев, экономии и политики»[16]. Исторические очерки Ильенкова, как показывает опыт работы теоретических самообразовательных сообществ, переживающих сейчас бурный рост, обеспечивают исключительно ясное понимание «включенности в контекст», остроту повседневной, совершающейся на наших глазах и касающейся каждого, борьбы — в том числе борьбы за наследие Спинозы[17] и наследие самого Ильенкова[18]. Г. Маркузе предельно точно формулирует значение и роль такой борьбы: «Отношение к прошлому как к настоящему противодействует функционализации мышления в существующей действительности. Оно становится препятствием для замыкания универсума дискурса и поведения, так как открывает путь развитию понятий, дестабилизирующих и трансцендирующих замкнутый универсум через осознание его историчности. Сталкиваясь с данным обществом как объектом своей рефлексии, критическое мышление становится историческим сознанием»[19]. Таким образом проблема истории и логики на современном этапе ставится как проблема коллективности.
Это отмечают и наши польские товарищи: «Основная проблема как самого Семека как личности, так и судьбы его наследия, это проблема коллективности. Эта же проблема неизбежно будет мощнейшим образом определять оценку наследия Ильенкова»[20] Говоря о значении Ильенкова и Семека для современности, авторы предельно точно видят «центр тяжести» их действительных заслуг: «…они сберегли логику коллективзации в свою эпоху действия противоположных тенденций. <…> Причём Ильенков сберёг логику обобществления сознания и индивида в куда более практичной форме чем Семек, не имевший столь яркой педагогической практики над почти растительными человеческими существами. Это действительно основа дальнейшего создания новых форм коллективности, пусть абстрактная».
Переход от проблемы форм бытия логики в истории к проблемам психолого-педагогическим кажется надуманным сведением всеобщей проблематики к практической проблеме «более низкого порядка». Стоит, однако, учесть разницу между узко-прагматической постановкой, где проблема является только тем, что «наиболее лезет в глаза», и проблемой, поставленной как практическая в марксистском понимании практики, что включает в себя теорию как свой момент[21], выступает как проблема действительная (единая в сущности и существовании при сохранении их противоположности). Иными словами, эта проблема минует опосредования и затрагивает самое «существо дела»: из «малого бытия» прокидывает мост к проблемам всеобщего исторического движения. Именно такой проблемой сегодня является проблема коллективности истинной и мнимой.
Этот вопрос по существу является одной из черт фундаментальной ленинской проблематики «построения нового общества старыми людьми» — каким образом возможно построение истинного коллектива в обществе, где и индивиды, и коллективы в силу господствующей товарной логики воспроизводятся и существуют фрагментарно? Действительные трудности сегодня очевидны: это понимание теории на уровне фраз (заучивание слов) вместо понимания предмета; это низкая вовлеченность людей из-за того, что отсутствует понимание общей цели и конкретной задачи, своей включенности во всеобщий процесс — непреодоленное отчуждение; неумение теоретическую работу сделать ориентиром своей деятельности; наличие людей в коллективах при неумении их включить в работу сочетается с острой нехваткой людей при решении конкретных задач и вопросов; отсутствие коллектива как целого, вместо этого — совокупность фрагментарных индивидов. Для решения этих задач необходимо сформулировать проблему на общем логическом уровне — это проблема «самого строящего себя пути», целого, являющегося причиной самого себя; проблема, получившая, помимо прочих, разработку у Спинозы, Фихте и Ленина. В общих чертах решение, данное Лениным, таково: «Ленинское практическое продолжение этой логики было основано на том, что самый испорченный человек старого мира будет весьма практичен и полезен себе и другим если именно в этот момент морального по Канту и политического по Ленину выбора он будет вести себя не как испорченный данной эпохой индивид а как представитель всего человечества»[22].
Но как фрагментарному индивиду, заключенному в рамки своего «малого бытия» осознать себя представителем всего человечества? Здесь и не обойтись без мысленного вхождения в историческую проблематику. Сегодня необходимо организационно-педагогическое осмысление проблем, поставленных в абстрактно-философской форме: так, «Что делать?», по существу, представляет собой организационный перевод «Феноменологии духа». Но для этого необходимо осмыслить собственно педагогическое в своем основании. Как совершенно справедливо замечает Ильенков, «все искусство педагога должно быть с самого начала направлено не на внушение готовых правил, рассматриваемых как орудие, как инструмент действия, а на организацию внешних, объективных условий деятельности, внутри которых эта деятельность должна совершаться. Иными словами, педагог должен в первую очередь заботиться о создании системы условий действия, властно диктующих человеку такой-то и такой-то способ действий»[23]. Необходимо изучение форм работы, ведущих к истинно коллективной деятельности, положенной в своих существенных определениях, осмысление форм деятельности не как рядоположенных, но как движения коллективности (педагогического, творческого, организационного) от абстрактного к конкретному. Иными — Ильенкова же — словами, необходим поиск условий, в которых невозможно не стать личностью; условий где совершается формирование субъективной способности творческой деятельности. Относительно связи творчества с коллективностью, В. А. Босенко пишет: «Творчество по своей природе все больше становится делом коллективности (опирающейся на основы общественной собственности). И именно делом. Благодаря этому социалистической стране удалось опередить капиталистические страны в развитии науки. Практика коллективная имеет решающее значение. Сейчас, когда коллективистские основания фактически аннулируются, уничтожаются и заменяются товарными, частнособственническими отношениями, творчество упало до предела. Более того, оно переходит в противоположность — анти-творчество. Как заметил Маркс в экономических рукописях, чем лучше работает работник, тем хуже для человека и общества. В эпоху империализма существует не только эрзацтворчество, но и антитворчество — превращение производительных сил в разрушительные силы, не творение, не творьба, а творня, годная быть товаром, пребыванием в роли товара (как и сам творец). Отсюда главным становится маркетинг, соблазн для обладания, а не общественно-культурная значимость созданной вещи»[24].
Производство истинного коллектива есть производство собственно свободной деятельности в интересах развития общества в целом и каждого индивида в частности. Но чтобы понять, в чем заключается суть превращения царства необходимости в царство свободы, необходимо понять также — что такое свобода как момент абсолютного в субъективности человека. Глубокое понимание этого вопроса может быть достигнуто изучением философии (в том числе через ее историю, которая выступает лишь особой формой бытия философии вообще) при ее полагании не как чего-то внешнего, не как отвлеченного знания, которое может «помочь при применении его к объекту исследования», а как деятельностной формы самого сознания[25], как самого процесса борьбы, развития; процесса, который продолжается по сей день и в который включен каждый участник коллектива, каждую секунду непосредственно участвуя в этой борьбе каждым своим поступком, каждым действием. Здесь и именно здесь совершается переход на уровень понимания собственно фихтеанской проблематики: от тебя самого, от твоего «Я» зависит дальнейшее движение всего целого.
Это осмысление — творение и придание смысла своей деятельности — и позволяет решить практическую проблему включения участников самообразования в общую деятельность. Оно есть результат действительного «сдвига мотива на цель»; в противном случае будет иметь место лишь эмоциональная «накачка» участников без совпадения сущностных определений человека с логикой развития самой действительности на пути перехода современного общества в свое-иное. Такая «накачка» неизбежно истощается, т. к. не получает «подпитки» из глубины самой субъективности, из ее основания — и это сплошь и рядом происходит в самообразовательных группах, что резонно вызывает критику самой формы такой работы.
Ильенков отмечает, что «если исходной точкой является реальное действие с предметом, сопровождаемое наблюдением над способом действия («рефлексией»), то правило усваивается непосредственно как требование, предъявляемое к действию со стороны предмета. Иными словами — непосредственно как форма вещи. Знание при этом и выступает для человека именно как знание вещи, а не как особая, вне вещи находящаяся структура, которую еще нужно как-то к этой вещи «прикладывать», «применять», совершая для этого какие-то особые действия. Тут происходит очень серьезная психическая переориентация личности, получается совсем иной тип психического отношения и к знанию, и к предмету»[26].
Следовательно, подобная переориентация методологически должна быть обеспечена соответствующей организационной формой, прежде всего дающей понимание включенности в целостность всеобщей проблематики: понимание действия на ограниченном участке, как действия по логике всеобщего, действия, включенного в общее движение. Организационная форма выступает здесь как общее дело, крайне небезразличное для участников коллектива, этим делом занятого, что и выступает мотивом действия; отсутствие такого дела и заинтересованности в нем является источником проблем, описанных выше: «Загвоздка — в отсутствии потребности в деловом общении с другим человеком. Эта специфически человеческая потребность формируется лишь там, где налажено и систематически осуществляется реальное деловое общение взрослого и ребенка. Именно деловое общение, то есть общение в рамках и по поводу совместно совершаемого дела»[27]. Поиск и обоснование такой организационной формы, обеспечивающей действительное движение по логике целого, организующей само движение по критерию непосредственного (не-безразличного), прорывающей «малое бытие» индивида, выводящей его за свои границы с помощью формирования потребности в деловом общении и должно стать содержанием исследовательского поиска при решении проблемы коллективности. Совместное освоение истории логики в таком случае является предпосылкой, а совместная борьба за такую историю — первым шагом, началом становления такой формы. Восхождение же этой формы от абстрактного (наименее развитого организационно, а потому общего всем разрозненным коллективам) к конкретному есть воплощение самой логики истории, в которой первоначально надо, подобно Ильенкову, работать лишь с общезначимым; нам представляется, что восхождение это может быть обеспечено повышением общедоступности, распространенности этого общезначимого, предполагающего также (и реализующего себя через) межсубъектное коммуникативное действие, которое несет в себе потенцию действия в интересах общества в целом в ограниченных актуальным пространством-временем условиях.
3.2. Адуло Т. И. Постижение онтологии кризиса бытия — ответственная миссия социальной философии
В последнее время в общественном сознании пессимистические установки стали доминирующими. Они усилились в связи с Covid-19 и его потенциальными угрозами человечеству, для чего имеются веские основания. Мы стали свидетелями кризиса социума во всей его полноте, начиная с кризиса мышления отдельных индивидов и заканчивая кризисом финансово-экономического фундамента общества.
Для уяснения сущности кризиса современного бытия (индивида и общества в целом) необходимо отыскать его глубинные корни, его онтологические основания — объективные и субъективные.
Сразу возникает вопрос о правомерности онтологического подхода применительно к обществу, состоящему из индивидов, обладающих сознанием и самосознанием и действующих в русле собственных потребностей и целевых установок. На этот вопрос уже дан ответ К. Марксом, Г. В. Плехановым, П. А. Сорокиным и др. В частности, Г. В. Плеханов призывал исследователей к тому, «чтобы изображать великие и медленные движения экономических условий и социальных учреждений, составляющих действительно интересную и непреходящую часть человеческого развития,— ту часть, которая в известной мере может быть сведена к законам и подвергнута до известной степени точному анализу»[28].
Безусловно, в данном случае мы имеем дело не с объектами, лишенными активности, что характерно для природы, а, наоборот, с субъектами, отличающимися такой активностью, преследующими свои цели. Но из отдельных, казалось бы, свершено не совместимых друг с другом воль, желаний и действий людей, формируется общая результирующая, не совпадающая с индивидуальными целями и желаниями. Эту результирующую деятельности людей, обозначенную категорией «социальность», можно представить в качестве объективной онтологии социальных кризисов. Задача философии, если ее трактовать не как «роскошь» (высказывание Гегеля), а как инструмент познания и практического действия, сводится к тому, чтобы в процессе анализа социальности отыскивать те изначально зарождающиеся противоречия, которые в дальнейшем превратятся в социальные антагонизмы и породят социальные кризисы, прогнозировать их динамику и возможные последствия их функционирования.
Социальность — это «система исторически складывающихся и постоянно воспроизводящих себя на новой ступени взаимосвязей и взаимоотношений между людьми в процессе их жизнедеятельности, определяющая типы и формы организации общества, а также характер и направленность исторического процесса»[29]. Считаем важным отметить чрезмерную динамичность социальности в нашу историческую эпоху. Скажем, применительно к Беларуси она претерпела существенные изменения буквально за последний год под воздействием внешних политических сил, ориентированных на разрушение белорусской государственности и организовавших для реализации этой цели так называемую цветную революцию. Наряду с перманентными факторами динамики социальности, к которым следует отнести названный выше, имеют место устойчивые объективные основания социальности, представляющие собой онтологию самих общественных процессов, и ее субъективные основания, связанные с деятельностью самих участников социальных процессов — людей, начиная с рядовых граждан и заканчивая политиками и государственными деятелями, руководствующихся в своих поступках мировоззренческими установками, которые выступают в качестве своеобразных имманентно присущих в содержании индивидуального сознания ориентиров, заданных программ поведения и деятельности.
«Переходные эпохи» в научном плане интересны тем, что они обнажают обычно спрятанные для внешнего взора глубинные пласты социальности с ее внутренними противоречиями, являющимися источником социальной активности огромных масс людей и их политических лидеров, способных повести за собой эти массы то ли вперед, то ли вспять.
Наряду с объективными онтологическими основаниями социальных кризисов имеют место и их субъективные онтологические основания, связанные с сознательной, или же неосознанной деятельностью политиков, преследующих свои интересы. Это те же феномены сознания человека, обретшие надындивидуальную форму своего бытия (существования) в виде обычаев, традиций и т. д., а также внутренние структуры сознания и самосознания личности (убеждения, привычки, установки), выступающие своего рода регулятором ее поведения и деятельности. И если эти привычки и установки входят в противоречие, в конфликт с внешними обстоятельствами, идущими вразрез с ними, кризис индивидуального бытия неизбежен.
Таким образом, объективные онтологические основания социального кризиса — это продукты деятельности человека, которые обрели надындивидуальную форму и выступают в виде самостоятельных агентов, оказывающих воздействие на ход исторического процесса, или даже определяющих его поступь. Например, современный глобальный капитализм является продуктом деятельности людей XX века. Но он выступает уже в виде самостоятельного, в значительной степени неподконтрольного человеку феномена, определяющего судьбу мирового сообщества, в том числе постсоветских государств. Произошедшие в Беларуси осенью 2020 года политические события служат тому подтверждением. Объективные онтологические основания кризиса социального бытия — это все то, что человек при всем его желании не в состоянии отменить (запретить) здесь и сейчас.
Субъективные онтологические основания кризиса социального бытия связаны с деятельностью политических субъектов, преследующих свои цели. К онтологическим основаниям их следует отнести в силу того, что такого рода деятельность, опять же, имеет сою объективную логику развития, несмотря на то, что она осуществляется людьми, наделенными сознанием и преследующими свои цели. Политики в данном случае выступают не от собственного лица, не с целью решения своих личных задач, а как представители (субъекты) конкретной исторической эпохи, конкретной социальности, диктующих им логику поведения и действий.
Отметим органичную связь бытия и сознания. На постсоветском пространстве имеет место кризис и бытия, и сознания. Кризис бытия состоит в том, что образовавшиеся новые государства повернули свою историю вспять — вопреки логике исторического процесса реанимировали в какой-то степени доиндустриальную эпоху. При этом, думается, кризис сознания доминирует над кризисом бытия, поскольку в нем превалируют его превращенные формы. Ведь, начиная со второй половины 1980-х годов, в СССР на государственном уровне решалась задача разрушения у советских людей сформированных за годы советской власти мировоззренческих устоев и стереотипов мышления. Взамен им внедрялись в сознание в качестве мировоззренческих установок восприятия мира либеральная идеология, религиозное мировоззрение, позитивная оценка капитализма. Этой масштабной разрушительной работой занимались государственные институты под руководством ЦК КПСС, средства массовой информации. Объективное социальное бытие перестроечной и постперестроечной эпох радикально разошлось с той иллюзорной картиной бытия, которая активно пропагандировалась и внедрялась идеологами перестройки в сознание масс. Это и стало главной причиной кризиса сознания.
Каким видится выход из сложившейся ситуации? Безусловно, начинать надо с преобразования социального бытия — выстраивать новый экономический курс, отвечающий нуждам и интересам не олигархов, не отдельных корпоративных, узких групп населения, а нуждам и интересам всех граждан, что позволит преодолеть кризис и бытия, и сознания. Попытка преодолеть кризис сознания без радикального изменения социального бытия обречена на провал. Если двадцать процентов российских граждан живут, по признанию В. В. Путина, за чертой бедности, то попытка изменить их сознание, убедить их в правильности проводимого руководством страны экономического и политического курса не увенчается успехом.
Нынешняя Россия, и не только она, допустила те же ошибки, что и царское правительство на рубеже XIX–XX веков. Ошибки дооктябрьской Росси всесторонне проанализированы крупным русским ученым Д. И. Менделеевым. Им же были внесены конкретные предложения по улучшению состояния российского государства, которые вполне применимы для обустройства современной России и других постсоветских государств.
Будучи истинным патриотом России, Д. И. Менделеев предлагал укрепить ее могущество путем активного развития отечественной естественной науки и максимального внедрения ее результатов в социальную практику. В отличие от многих дворян и государственных чиновников, он не сомневался в промышленной отсталости России по сравнению с европейскими государствами и считал, что для «блага народного» надо заботиться «не столько о развитии у нас одного земледелия, сколько об росте всех видов промышленности и на первом месте о росте горной, обрабатывающей, перевозочной и торговой промышленности»[30]. Д. И. Менделеев прекрасно осознавал незаинтересованность Европы и США в промышленном развитии России, их намерении и впредь использовать Россию лишь как сырьевую базу для развития собственного производства. Как неизбежное следствие такой позиции Европы и США — потенциальные экономические войны в отношении России. Впрочем, и в наши дни Запад в отношении к России, Беларуси использует те же апробированные средства. Но если государство станет ориентироваться лишь на экспорт сырьевых ресурсов, не развивать отечественную промышленность, то оно не в состоянии будет защитить свою территорию. Еще один важный момент, на который следует обратить внимание. Д. И. Менделеев пришел к выводу о необходимости индустриализации России, главным образом, за счет собственных ресурсов, тем более, что такой опыт уже имелся,— речь шла о бакинских нефтяных промыслах, в наладке которых он принимал непосредственное участие.
Практику индустриального преобразования страны ученый считал необходимым выстраивать на базе просвещения. Особое внимание он уделял высшему образованию, исходя из все более возраставшей потребности отечественной промышленности в высококвалифицированных специалистах. Вузы предлагал укомплектовать опытными педагогами, обладающими, к тому же, весомыми научными достижениями, поскольку «дело развития и роста народного просвещения немыслимо без широкого развития науки вообще»[31]. Таким образом, просвещение трактовалось в широком смысле этого слова — не только как образование, но и как сфера научно-исследовательской работы.
Особо отметим то, что Д. И. Менделеев был активным сторонником протекционизма по отношению к отечественному товаропроизводителю, создал фундаментальный труд, посвященный тарифам, посредством которых стремился его защитить. Он утверждал: «…я считаю уместным обратить внимание на очевидные, уже достигнутые, результаты существующей покровительственной таможенной охраны, чтобы через эти примеры показать, сколь благотворны могут быть плоды разумного и выдержанного таможенного покровительства (соединенными с другими мероприятиями) для России в целом ее хозяйстве, как народном, так и государственном»[32].
Д. И. Менделеев внес целый ряд новаторских, отвечающих интересам государства предложений по реформированию управленческой сферы. Заслуживает положительной оценки предложение ученого об усилении регулирующей роли государства в банковской сфере и обращении капиталов в интересах «всех своих подданных», поскольку «государство, приняв участие в банковых операциях, может руководиться не только фискальными интересами казны, но и общегосударственными экономическими интересами»[33].
Таким образом, для благополучия граждан и поступательного развития России Д. И. Менделеев предложил систему преобразований, охватывающих просвещение, включая науку, промышленность и управление. При этом он негативно относился к резким, революционным скачкам, отнеся себя к числу сторонников эволюционных социальных преобразований. Квинтэссенция же теоретической и практической деятельности Д. И. Менделеева может быть сведена к следующему, фактически главному положению: только экономическая независимость является действительной независимостью государства.
Главный экономическо-политический вывод Д. И. Менделеева в дальнейшем подтвердился. Не развив в достаточной мере промышленный сектор, Россия потерпела поражение в Первой мировой войне. Вероломное нападение Германии на СССР в 1941 году преследовало те же цели европейцев — не дать возможности СССР быть экономически независимым государством. «Перестройка» в СССР 1990-х годов, опять же, осуществлялась по разработкам и сценариям Запада с той же целью. И поставленной цели Запад достиг. Автор нашумевшей масштабной программы «500 дней» Г. А. Явлинский отмечает, что восприятие России «все больше отражает ее нынешнее состояние пусть и весомой, но периферийной и сравнительно малозначимой части мирового хозяйства…»[34].
Начиная с древних времен, философами проделана масштабная работа в раскрытии объективной онтологии социальных кризисов, причем многие схожие идеи и продуктивные предложения воспроизводились ими в различные исторические эпохи. Как тут не напомнить идею формирования среднего класса, о важности практической реализации которой вещают политики на постсоветском пространстве. Оказывается, что эта идея вовсе не нова. Ее обосновывал и отстаивал еще Аристотель, ссылаясь на афинского архонта Солона. Он отмечал: «…когда в государстве много людей лишено политических прав, когда в нем много бедняков, такое государство неизбежно бывает переполнено враждебно настроенными людьми»[35]. Почему же, спрашивается, эту идею не приняли древние греки, почему она не реализована на постсоветском пространстве? Все дело оказывается в том, что объективные обстоятельства — та же объективная социальность — нередко тому препятствуют. На постсоветском пространстве в процессе радикального преобразования экономической базы общества под контролем западных кураторов, перевода ее в максимально сжатые сроки на капиталистические рельсы решалась задача первоначального накопления крупного капитала. Поэтому средний класс не имел возможности сформироваться. Но без среднего класса и при наличии массы граждан, оказавшихся за чертой бедности, крупный капитал в национальных государствах даже при активной поддержке его международным капиталом не может чувствовать себя уверенно. Это один из онтологических факторов нестабильности постсоветских государств.
Задача современной философии — продолжить сциентистское направление мировой философской мысли. Именно на нее ложится ответственная миссия постижения сущности кризиса бытия и поиска выхода из него. Для этого она обладает соответствующим этим задачам теоретико-методологической базой и богатым аналитическим опытом.
На Западе в XX веке проблемой общественных устоев в основном занимались социологи и политологи. В советской науке начиная с 1920-х годов разработка теоретических вопросов обеспечения устойчивости общества велась философами в рамках дисциплины «диалектический и исторический материализм», базирующейся на теоретическом наследии классиков марксизма. К этой научно-исследовательской работе пытались подключиться социологи, но социология в тот исторический период находилась на стадии становления и не в состоянии была дать объективную картину социальности, на что указывал П. А. Сорокин[36]. В конце 1980-х годов, уже на закате СССР, диалектический и исторический материализм упразднили как специальность и взамен ей создали две новые специальности — «онтология и теория познания» и «социальная философия». Специальность «социальная философия» получилась «размытой» в содержательном плане. Исторический материализм при всех его изъянах решал, или, скажем точнее, стремился решить задачу теоретического осмысления человеческой истории как таковой, то есть выступал в качестве философии истории в гегелевском понимании этой дисциплины. Социальная философия изначально не ставила перед собой столь масштабную задачу, даже не закрепила за собой права на ее научное решение, а социология, взявшая на себя эту миссию, пока не дотянула до уровня философии истории (в данном случае речь идет о постсоветском интеллектуальном пространстве, не более). Серьезная ошибка в процессе реформирования философии состояла в том, что в качестве базовой модели исторического процесса философам была задана, с подачи секретаря ЦК КПСС А. Н. Яковлева, цивилизационная концепция. Правда, В. С. Степин ставил себе в заслугу то, что в процессе обсуждения с А. Н. Яковлевым проекта переформатирования советской философии отстоял идею сохранения своеобразного синтеза формационного и цивилизационного подходов «по принципу дополнительности в смысле Н. Бора»[37], что в дальнейшем и было заложено в вузовские учебные программы. Однако, возглавив Институт философии АН СССР, В. С. Степин, по собственному признанию, стал развивать идею именно цивилизационного подхода. Примечательно то, что на Западе, в лоно которого стремилась встраиваться Россия, в то время не было особого интереса к цивилизационному подходу. Западные философы, экономисты и политологи выстраивали свои концепции постиндустриального общества в основном на базе формационного учения К. Маркса. Попытка соединить несоединимое — формационный и цивилизационный подходы — при объяснении человеческой истории изначально закладывала основу эклектичности социальной теории.
Цивилизационная концепция, разработанная русским мыслителем Н. А. Данилевским, а затем углубленная применительно к общественным процессам XX в. А.-Дж. Тойнби, имеет право на существование. Она способна объяснить причины и уловить динамику противостояния Запада и Востока в наши дни, но при этом не объясняет истоки, сущность и последствия финансовых и экономических потрясений мирового сообщества, периодически охватывающих одновременно как Запад, так и Восток, вступивший на путь капитализма, в том числе Россию. Между тем формационное учение позволяет дать этим социальным кризисам объяснение. В отличие от цивилизационного учения, которое основывается главным образом на сравнительном анализе духовных устоев народов, типологии их культур, формационное выстраивается на основе выявления сущности материальных основ общества, в данном случае — «экономической клеточки буржуазного общества», которая есть «товарная форма продукта труда, или форма стоимости товара»[38]. Как указывал К. Маркс, «предметом моего исследования в настоящей работе («Капитале».— Т. А.) является капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения производства и обмена»[39]. Анализ «экономической клеточки» современного глобального капитализма, отношений обмена, способа производства в целом позволяет раскрыть истинные причины современных социальных кризисов. Объяснение их природы коронавирусом есть либо плод иллюзорного воображения, либо специально заготовленный информационный вброс с целью манипулирования общественным сознанием. Не коронавирус, а «экономическая клеточка» глобального капитализма порождает ежедневно современные социальные кризисы и потрясения. И не тектология А. А. Богданова, которую в 1990-е годы попытались представить чуть ли не квинтэссенцией научной методологии, не синергетика, а диалектика позволяет постичь социальность в ее онтологической сущности, исторической динамике и современной модификации как базе потенциальных вызовов XXI века. Мы стали очевидцами такой социальной реальности: явного расхождения взятой на вооружение россиянами, вернее, российским истеблишментом, философской цивилизационной концепции и самой социальной практики, идущей в русле формационного учения — встраивания России в глобальную систему капитализма на условиях его ядра.
Начиная с конца 1980-х годов и фактически до настоящего времени на всем постсоветском пространстве идет непрерывный процесс реформирования философии, то есть всего корпуса философских дисциплин, а также вузовского учебного курса по этой дисциплине. Постсоветская философия до сих пор так и не обрела системности. Это касается ее теоретической и практической частей, проблемы ее трансляции в учебных заведениях. Подтверждением тому может служить последний вариант учебного курса по философии в Беларуси «Интегрированный модуль для учреждений высшего образования», охватывающий учебные дисциплины «Философия» и «Основы психологии и педагогики»[40], согласно которому на курс философии отведено лишь 42 часа, из них 20 часов — лекции и 22 часа — практические (семинарские) занятия.
Нынешняя вузовская практика свидетельствует о том, что советская философия, которая базировалась на критически переосмысленной гегелевской диалектике и формационном учении К. Маркса, при всем ее кажущемся догматизме была более продуктивной в качестве инструмента формирования индивидуального мышления студента. Она обладала наряду с диалектическим методом другими разработанными методами научного познания. Это касалось познания и исторического процесса. В сознание индивида, усвоившего логику «Капитала», не представлялось возможным внедрить в качестве абсолютной истины тезисы о бесконфликтности социума, общечеловеческих ценностях и другие метафизические идеи. А вот мозг выпускников вузов перестроечной и постперестроечной эпох оказался идеально подготовленным для восприятия алогичных идей. Он не застрахован от разного рода манипуляций современных политтехнологов, ибо не усвоил объективную диалектику (понимание диалектического характера социального бытия) и в такой же степени субъективную диалектику — умение диалектически мыслить при оценке социальных процессов.
На наш взгляд, требуется более системное философско-теоретическое понимание механизмов функционирования социума для прогнозирования общественных процессов. Осуществить это можно путем диалектического синтеза двух планов исследования социума — абстрактно-теоретического и конкретно-исторического. Абстрактно-теоретический план предполагает разработку понятийно-категориального аппарата философии истории. В этом плане к числу приоритетных задач следует отнести задачу создания системы понятий и категорий, которая бы позволила на принятом в научном сообществе языке излагать авторское видение решения той или иной проблемы общественного бытия, дискуссировать с оппонентами и т. д. Но абстрактно-теоретическое исследование общества базируется на конкретно-историческом материале. Поэтому нужен диалектический синтез абстрактно-теоретического и конкретно-исторического планов исследования, который позволит ученому раскрыть сущность социума и на базе этого спрогнозировать его динамику.
С позиции философии истории важно уяснить и сам ход человеческой истории, и способы ее воспроизведения (отражения) в мышлении человека. В наше время явно недооценен интеллектуальный и образовательный потенциал социальной философии. Посему необходимо значительно повысить уровень самой социальной философии, решить важные вопросы трансляции философской культуры. Просчеты в этой сфере, как показывает практика, негативно сказываются на общественном сознании, уровне мыслительной деятельности граждан и являются идеологическим основанием нестабильности общественных устоев.
В современную драматичную историческую эпоху значительно возросла роль диалектики как орудия мыслящего духа. Диалектическое мышление в состоянии вскрыть основные противоречия современного глобального мира, выявить их сущность, потенции и динамику, отыскать адекватные способы их разрешения. Именно диалектический метод нацеливает философов на познание не внешних, вербально воспринимаемых социальных явлений и процессов, а внутренних, скрытых от внешнего наблюдения механизмов общественного развития, постигаемых посредством абстрактного мышления, что позволяет понять природу и сущность современных социальных кризисов, рисков и угроз, дает возможность выработать конкретные предложения по их предотвращению. Диалектическая философия в состоянии оказать помощь политикам, но лишь тем, которые на самом деле стремятся беспристрастно глядеть на окружающий их мир и предпринимают всяческие усилия для обустройства его на гуманных основаниях, пытаясь сделать его справедливым, а следовательно, устойчивым.
Одна из причин недостаточно высокого уровня философского осмысления социальности — недооценка исследователями формационной теории К. Маркса, а точнее, чрезмерно критическое отношение к ней. В процессе критики формационного учения К. Маркса обычно акцентируют внимание на якобы имеющую место в его теории «жесткую привязку» общественного сознания к общественному бытию и тем самым обвиняют классика в чрезмерном детерминизме. Точка зрения К. Маркса на взаимоотношение общественного бытия и общественного сознания приемлема и в нашу эпоху. В то же время есть веские основания признать то, что содержание общественного сознания и общественного бытия в нашу историческую эпоху претерпело существенные изменения. В XIX в., в годы разработки материалистического учения об обществе социальность выглядела для исследователя боле осязаемой, более зримой, чем в наши дни, хотя и в то время К. Маркс отмечал возникающие трудности в процессе постижения ее сущности абстрактным мышлением. Главное, что определяло ее в ту эпоху, состояло во взаимоотношениях между основными достаточно четко выраженными основными социальными классами, а именно между рабочим классом (пролетариатом) и капиталистами (буржуазией). На селе картина была схожей: там тоже постепенно сформировалась капиталистическая форма хозяйствования с вытекающими следствиями.
В наш век социальная структура социума, а следовательно, и социальные связи между социальными атомами сложнее на много порядков. Скажем, рабочий класс, хотя и имеется, но по своим качественным характеристикам он значительно отличается от рабочих XIX в., он не столь однороден, как это имело место в прошлом. Тем не менее, как отмечает известный российский ученый В. Т. Рязанов, «при всех крупных переменах в капиталистическом хозяйственном устройстве его базовые основания, ключевые противоречия, неблагоприятные социальные и экологические последствия и ограничения сохранились. Более того, они приобрели еще больший размах в условиях развертывания глобализации»[41].
Признав возросшую роль философии в раскрытии сущности современной социальности, мы вместе с тем должны отметить значимость и других наук в решении этой задачи, в особенности политической экономии, хотя эта дисциплина практически прекратила свое существование на постсоветском пространстве. Ее предстоит воссоздавать. «Необходимость восстановления в правах классической школы политэкономического анализа,— отмечает В. Т. Рязанов,— конечно, не сводится к “реабилитации” самого этого термина. Значительно сложнее достойно вернуть ее в современную систему теоретического знания в сфере экономики…»[42]. В целом задачу теоретического обеспечения приемлемой общественной стабильности в состоянии решить социальная философия сообща с другими гуманитарными и социальными дисциплинами, но лишь при условии переформатирования ее проблематики с микрона макропроцессы социума.
3.3. Мухамбетжан А. Ж. К вопросу социальной определенности человека и вещей
В исследовании проблем социальной реальности реализуются различные подходы. Как справедливо отмечается в литературе, в современном «бытовом и научном сознании преобладает схема "вещи и процессы", т. е. существуют вещи, а между ними или "вокруг" них происходят процессы… пока они (вещи — М. А.) устойчивы, сохранны, процессы трактуются как нечто внешнее по отношению к ним. Зависимость устойчивости вещей от их включенности в процессы и зависимость процессов от «процессности» вещей обычно либо не учитывается, либо не принимается во внимание»[43].
Такая же логика действует в объяснении отношений между людьми и процессами. «Зависимость бытия человеческих индивидов от их "вписанности" в процессы, так же как и зависимость процессов, образующих социальное бытие, от "процессности" бытия личностей, если и учитывается, то лишь самым поверхностным образом»[44]. Такая схема объяснения дает соответствующие результаты при анализе природы и сущности определенностей личных и вещных носителей социального. Утверждается механическая трактовка сущности происходящих в обществе изменений. Появляются всякого рода соблазны "по-своему" объяснять природу и сущность социального бытия и основных его структурных образований: личности, вещей, идей, организаций и отношений. Изначальное игнорирование их коррелятивности приводит к реализации рассудочного подхода при определении их характеристик, диалектики взаимоотношения, тенденций и закономерностей развития. Социальные определенности каждого из этих элементов рассматриваются изолированно от определенностей других, что приводит к фиксации их характеристик лишь в состоянии покоя. Недоступными для познания остаются их свойства и качества в движении, механизм самодвижения. Наука и общественная практика рискуют остаться без системного знания об объекте своего воздействия. Идеологическая и менталитетная сферы получают дополнительные рычаги для обработки и манипулирования общественным сознанием.
Следовательно, необходимо пересмотреть саму логику и методологию познания социальных форм. При этом важно подчеркнуть: «не то существенно, что люди или вещи рассматриваются в процессах, а то, как способ бытия вещей воплощает процессы, как способ бытия людей реализует и модифицирует социальный процесс, как характеристики вещей и людей выражают ход процессов и определяют их логику (выделено нами — М. А.)»[45]. Тем самым, изучая определенности специфических социальных форм, каковыми являются вещи и люди, мы получаем возможность проследить диалектику и логику исторического процесса. Установление же модальности этих определенностей позволяет раскрыть сущность социальной механики в целом и внутренний механизм становления, возникновения, функционирования, обновления и развития единичных, групповых и совокупных социальных субъектов, в частности. Для социально-философского анализа социальной реальности существенно важным является учет многообразия форм проявления общественных отношений в материальных телах. «Воплощаясь в материальных объектах, эти отношения наделяют их социальными качествами, не имеющими ничего общего с их природными качествами»[46]. Таким образом формируются и приобретают статус особого рода определенностей социальные качества людей и вещей.
Личные и вещные носители социального по-разному обеспечивают ход общественного процесса. Так, в общественном процессе производства «все, что имеет прочную форму, как, например, продукт и т. д., выступает… лишь как… мимолетный момент. Сам непосредственный процесс производства выступает здесь только как момент. <…> В качестве его субъектов выступают только индивиды, но индивиды в их взаимоотношениях, которые они как воспроизводят, так и производят заново. Здесь перед нами — их собственный постоянный процесс движения, в котором они обновляют самих себя в такой же мере, в какой они обновляют создаваемый ими мир богатства (выделено нами — М. А.)»[47]. Поэтому разными являются возможности индивидов и вещей в объяснении диалектики общественных процессов. Акцент на характеристики «прочной формы» в той или иной мере ведет к элиминации субъекта из состава детерминант исторического процесса. Значение «прочных форм» в жизнеобеспечении человека и общества поднимается до уровня решающего фактора общественного развития. Владение ими превращается в смысл жизни, основную цель человеческого существования. Орудия труда, техника объявляется главной движущей силой социального прогресса. Машина возвышается над человеком.
Да, истинный субъект общественного процесса — только индивид, причем во взаимоотношениях с другими индивидами, т. е. он может выступить социальным субъектом лишь в системе общественных отношений, приобретая и реализуя свои социальные определенности. Поэтому, изучение, исследование и описание его социальных качеств способствуют познанию исторически развертывающуюся сущность человека различных порядков, а также определить параметры различных форм его существования. Однако все это не исключает известного значения «прочных форм». И, прежде всего потому, что в них мы должны заметить, увидеть, обнаружить и осознать результаты реализации сущностных сил человека. Результаты эти могут быть получены на уровнях «овещнения», «овеществления», «опредмечивания», определенным соотношением в них объективирования и субъективирования. В них можно обнаружить характер и качество соединения потенций личных и вещных носителей социального, для чего требуется реализовать соответствующие уровни распредмечивания. Если в социальных вещах воплощаются, проявляются и закрепляются определенные моменты общественных процессов, то в социальных субъектах, их деятельностях реализуются общечеловеческий опыт, приобретенные ими социальные свойства и качества. Отсюда следует, что ведущая роль в воспроизводстве и трансформации социального процесса, а значит, в обеспечении социального наследования принадлежит социальным качествам субъектов, а не «прочных форм». Последние обладают «скрытыми» возможностями предоставлять информацию о своих «творцах», однако их актуализация может происходить лишь в том случае, если есть субъект, имеющий доступ к этой информации, умеющий обработать ее и сделать всеобщим достоянием.
Логика познания социальной реальности должна исходить из интегральной природы социального субъекта. В нем не только представлены определенности социума, он сам и является их носителем, хранителем и создателем. Первая функция указывает на всецело социальную сущность человека. Здесь интегральность природы субъекта проявляется в том, что она в интегрированном в социальную сущность виде, включает в себя социализированные природные и биологические свойства и качества. Благодаря такому многообразию своих определенностей, индивид и проявляет себя по-разному, стабильно и неожиданно в однозначных ситуациях, возобновляя и обновляя при этом имманентные характеристики. Вторая функция представляет его в качестве субъекта социального наследования, посредника между прошлым и будущим. Здесь он выступает как представитель определенного времени, поколения, как историческая ценность, наставник. Качество выполнения этой функции непосредственно сказывается в результатах его деятельности, личных воспитательных усилий по формированию у своих современников тех или иных социальных качеств. Поэтому осознание субъектом значимости этой функции и своевременная предварительная подготовка себя к успешному ее осуществлению — важная задача воспитания и самовоспитания. Третья функция определяет социального субъекта единственным источником и причиной системообразующих характеристик совокупного субъекта, а также утверждает его в статусе высшей ценности социума. Данная функция подчеркивает деятельностную сущность человека. Приобретение человеком своих социальных определенностей и «наделение» социума собственными человеческими определенностями осуществляются единственным способом — посредством предметной деятельности. Поэтому, действительный творец социальных определенностей — всегда деятель. Чем выше позитивно-целенаправленная, деятельная активность субъекта, тем выше уровень утверждаемых в обществе социальных качеств. Следовательно, создание необходимых условий для раскрытия каждым субъектом своей творческой энергии, своевременная поддержка и поощрение позитивных инноваций, целенаправленная работа по внедрению их в общественную практику — залог постоянного совершенствования социума.
Социальная реальность — система живой и опредмеченной деятельности не «одномерного», а «многомерного» человека. Его многомерность — закономерный результат антропосоциогенеза. Животное «тоже производит <…> Но животное производит лишь то, в чем непосредственно нуждается…, оно производит односторонне, тогда как человек производит универсально; <…> животное производит только самого себя, тогда как человек воспроизводит всю природу… Животное формирует материю только сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит, тогда как человек умеет производить по меркам любого вида и всюду он умеет прилагать к предмету соответствующую мерку»[48]. Подобный универсализм — атрибут объема и содержания деятельности как самого человека, так и результатов его деятельности. Поэтому многомерны социальные определенности самого субъекта, а также результаты опредмечивания его сущностных сил. Причем, это не оторванные друг от друга, абсолютно самостоятельно существующие многомерности. Их функционирование и развитие коррелируемы, изменения в одних необходимым образом отражаются в других. Конкретное состояние данного взаимодействия и есть функционирование социума в определенном социальном пространстве и времени. Оно дает своеобразный «срез», мгновенный снимок наличного социального бытия, позволяет рассматривать, изучить каждый его кадр, определить и описать характеристики каждой его детали. При этом важно понять и учитывать: каждый кадр и весь снимок фиксируют лишь одно, а именно покоящееся состояние социума. Приостановление процесса — не означает отрицания процессуальности социума. Поэтому задача исследователя не сводится изучению каждого кадра, получению достоверного знания о нем. Самая сложная и трудная задача заключается в том, чтобы соединить все полученные данные, как бы прокрутить ленту с нужной скоростью, дабы увидеть реальную, живую картину социальной жизни в определенном временном промежутке. В этом, теперь уже «видеоряде», можно обнаружить функционирование не одного, а нескольких свойств и качеств вещей и человека, разные их проявления в различных ситуациях, в разных системах связей и т. д. Таким образом получается целостная картина социальной реальности, в воссоздании которой немалая роль принадлежит многокачественности личных и вещных носителей социального. Разумеется, главным «героем» этой картины по праву является «беспокойный», действующий социальный субъект. В разное время, в различных ситуациях ему приходится добровольно и по принуждению играть различные роли, проявляя при этом в истинном или искаженном виде свои или же выдаваемые за свои, чужие, социальные качества. Своеобразная метаморфоза происходит и с социальными качествами вещей. Значение и смысл вещей всегда проявляется соответственно их назначению, которое определяется субъектом. Значение вещи обнаруживается при рассмотрении ее как орудия или средства для достижения определенной цели. Обнаруженные при этом свойства и качества вещи могут за ней закрепиться как ее общепринятая функциональная характеристика. Изменение цели может привести к замене этого функционального качества другим свойством вещи, которое в новой ситуации может проявить себя в статусе качества. Социальная жизнь складывается из деятельности многих субъектов. Каждый из них находясь в составе той или иной социальной группы исполняет свои функциональные обязанности, круг которых определяется объемом и содержанием выполняемой группой общей функции. Субъект при исполнении этих обязанностей пользуется определенными социальными вещами, которые должны обладать необходимыми для решения общей задачи качествами. Наличие высокого уровня социальных качеств субъекта и вещей — залог успешной деятельности группы. Состав как самой социальной группы, так и используемых ею социальных вещей не бывает однородным. Так, в любом трудовом коллективе могут работать люди разных возрастов, квалификаций, с разными жизненными ориентациями, интересами, потребностями и т. д. Состав необходимых социальных вещей включает в себя основные и вспомогательные средства. Скажем, орудия труда, здания, сооружения, соответствующая инфраструктура и т. д. Качественная работа трудового коллектива зависит от многих факторов. Главные из них — такие социальные качества работников и группы, как солидарность членов коллектива, взаимопонимание, взаимопомощь и взаимовыручка. Первостепенное значение этих качеств объясняется тем, что, как правило, членами трудовых коллективов являются люди с разными социальными качествами. Поэтому для обеспечения эффективной деятельности коллектива требуется мобилизация всех нужных качеств, принадлежащих разным субъектам на решение общей актуальной задачи. Как, например, об этом писал Ленин в первые годы Советской власти, размышляя о подборе кандидатов на должность членов ЦКК: «…Вероятно, придется предпочесть разнообразный состав этого учреждения, в котором мы должны искать соединения многих качеств, соединения неодинаковых достоинств <…> Например, более всего было бы нежелательным, если бы новый наркомат был составлен по одному шаблону, допустим, из типа людей характера чиновников, или с исключением людей характера агитаторов, или с исключением людей, отличительным свойством которых является общительность или способность проникать в круги, не особенно обычные для такого рода работников, и т. д. (выделено нами — М. А.)»[49].
Оптимизация отношений между многокачественными субъектами и социальными вещами должна носить непрерывный, постоянный и системный характер, не ограничиваясь пределами определенного социального коллектива. Разумеется, определенная специализация работников необходима. Она позволяет целенаправленно решать вопросы специальной подготовки, совершенствования квалификации кадров. Происходит своеобразная интеграция общих, частных человеческих и социальных качеств. В результате формируется мастерство работника, обеспечивающее исполнение функциональных обязанностей на высоком уровне. С учетом специфики специальности, значения оптимального набора определенных социальных качеств для определенной профессии составляется перечень требований, предъявляемых к работникам данного профиля. Так появляются различные профессиограммы, квалификационные требования, профессиональные кодексы, нормы корпоративной этики и т. д. В соответствии с ними проводятся социальная диагностика, профориентационная работа, подготовка, подбор и ротация кадров, популяризация отдельных профессий и профессиональных династий т. д. Однако траектория развития личности не может ограничиться пределами одной определенной профессии. Богатство природы и сущности человека позволяет ему в течение жизни несколько раз пересмотреть жизненную программу и заново реализовывать себя в других направлениях деятельности. Подобного рода универсализм имеет не только личностный, но и глубокий социальный смысл, ибо способствует преодолению сложившейся или заданной мерности социального процесса. По существу, «духовная жизнь человека выступает <…> прежде всего как "переоценка ценностей", переосмысление жизни, истолкование, новые акценты, переакцентирование, переинтонирование»[50]. Осознание личностью своей способности к практически безграничной самореализации приближает ее к пониманию сущности многомерности собственного «Я», «Тела» и «Мира». Эта многомерность в онтологическом плане обеспечивается многокачественностью психики, социализированной биологии и мира опредмеченных сущностных сил человека. В свою очередь, интегральная сущность индивида формируется и реализуется как многомерный процесс в течение всей его жизни. Тем самым личность становится активным участником воспроизводства общественной жизни. Благодаря ее продуктивной предметной деятельности, преследующей общественно значимые цели, происходит обогащение гуманистичного содержания определенностей социальных форм.
Взаимодействие личных и вещных носителей социального, которое носит постоянный и непрерывный характер, вызывает в них определенные изменения. В онтологическом плане эти изменения могут проявляться как: 1) потеря прежних или обнаружение новых, ранее неизвестных свойств и качеств субъекта и вещи; 2) приобретение ими новых характеристик; 3) совершенствование прежних свойств до уровня качеств. В аксиологическом аспекте как: 1) совершенствование или деградация личности, возрастание или снижение уровня ее положительной социальности; 2) улучшение или ухудшение качеств вещей. В гносеологическом плане все эти изменения будучи своевременно изучены и познаны способствуют расширению границ человеческих знаний о качественных определенностях различных социальных форм, общества в целом.
Взаимодействие субстратов социального осуществляется в рамках определенного социального комплекса, куда кроме людей и вещей входят также те или иные общественные образования — организации, учреждения, социальные институты, общественные объединения и т. д. То есть, реально данное взаимодействие не ограничивается противопоставлением субъекта и вещи. Между ними имеется социальный посредник. Он не выступает в качестве внешней силы по отношению к субъекту и вещи, ибо, как сказано выше, все они являются элементами одного социального комплекса. Социальный акт, факт, событие могут совершаться лишь при наличии данного комплекса. Поэтому вышеуказанные изменения в социальных качествах людей и вещей коррелируются изменениями в социальном посреднике. К тому же, изменения эти носят разноуровневый характер. Так, если изменения в первых двух элементах комплекса носят индивидуальный характер, то изменения в посреднике — социальны, ибо их наступление обусловлено участием многих субъектов. Этим, в частности, объясняется необходимость проявления субъектом большей меры ответственности за свои поступки по отношению к третьему элементу социального комплекса, т. к. их последствия не ограничиваясь пределами конкретной вещи и личности, затрагивают интересы всей «социальной среды» в целом.
В социальных вещах раскрывается деятельностная сущность человека. Поэтому вещи — не просто результат овеществления человеческих сил. Главное заключается в том, что они являются предметными формами самоутверждения личности. Следовательно, сущность социальных качеств вещи в ней не содержится, она находится за пределами самой вещи, а именно в человеческой деятельности, где реализуются его социальные качества. Тем самым деятельность конкретно-исторического субъекта не только творит, преобразовывает, совершенствует вещь, но и является единственным средством познания и понимания ее сущности в определенной системе общественных отношений. В этом смысле человеческая история есть непрерывная цепь функционирования социальных качеств сменяющих друг друга социальных субъектов. Каждое новое поколение, осваивая предметные формы самоутверждения представителей предшествующего поколения, получает возможность для совершенствования собственной деятельности, которое осуществляется как: 1) обеспечение и расширение доступа к общечеловеческому опыту; 2) модификация существующих и создание новых вещей; 3) подготовка молодого поколения к успешному выполнению миссии следующего субъекта социального наследования. В основе подобного анализа сущности социальных качеств вещей лежит Марксова концепция предметной самореализации человека в процессе трудовой деятельности: «труд постоянно переходит из формы деятельности в форму бытия, из формы движения в форму предметности»[51]. Она позволяет исследовать бытие не на абстрактно-общем уровне, а на уровне конкретного социального, человеческого бытия. Здесь социальная реальность рассматривается как система живой и опредмеченной деятельности человека. Поэтому ни одно общественное явление не может быть познано без непосредственного или опосредованного присутствия человека. Данный акцент на «человеческий фактор» весьма заметен у Хайдеггера: «спрашивая, кто? Или что?, мы заранее уже ориентируемся на что-то личностное или на какую-то предметность. Но личностное минует и одновременно заслоняет суть бытийно-исторической экзистенции не меньше, чем предметное»[52]. Соответственно развитие человека как совершенствование его социальных качеств осуществляется как освоение и приращение опредмеченной человечности и очеловеченной предметности.
3.4. Косиченко А. Г. Религиозные основы цивилизации[53]
Каково место религии в культурно-цивилизационной проблематике? Вот центральный вопрос, ответ на который помогает понять в какой мере религия может восприниматься в качестве одного из важнейших оснований цивилизации. Предварительно и тезисно ответим на данный вопрос так: религия лежит в основании традиционной культуры, а традиционная культура является духовным стержнем цивилизации, на ней построенной. Тем самым роль религии предельно значима; религия имеет основополагающее значение и для культуры, и для цивилизации. Хотя верно и иное: при демократическом выхолащивании культуры роль религии в ней падает, и тогда и цивилизация, основанная на этой культуре, становится мало религиозной. Что, кстати, сказать, мы и наблюдаем сегодня. Итак, религия выступает в качестве основы цивилизации не всегда: Такую роль религия играет на первоначальных этапах цивилизационного развития, в эпохи классического развития данной цивилизации и в переломные периоды этого развития. Значение религии в составе культур и цивилизаций меняется в связи со спецификой взаимоотношения культур и цивилизаций на разных этапах их развития.
Для конкретизации высказанных тезисов обратимся к взаимоотношению культуры и цивилизации, заодно коснувшись проблематики множественности цивилизаций, что требует краткой характеристики самих понятий культуры и цивилизации. Эти характеристики в целом таковы. В культуре проявляется душа народа, его видение смысла жизни, в культуре получают оправдания его способы жизнедеятельности. Культура концентрирует в себе жизненный импульс народа. Культура носит всеобъемлющий характер, и потому являет себя и в обыденной практической деятельности, и в высочайших образцах творения духа. Отсюда видно, что культура не является неким довеском к более важным сферам государства и общества — экономике, политике и т. д. Культура — важнейшая из всех сфер жизни государства, общества и человека. Она, в конечном счете, наделяет ценностным содержанием все остальные формы жизнедеятельности. Поэтому культура так важна народу и потому государства и общества «держатся» за свои культуры, оправдано считая культуру основой своей идентичности.
Цивилизация — и это доказано трудами выдающихся мыслителей, философов, культурологов — является «предметным телом» культуры, т. е. тем, во что воплощается культура. Не всякая культура порождает свою цивилизацию, культура должна быть мощной, чтобы воплотиться в цивилизацию. Поэтому культур намного больше, чем цивилизаций. Цивилизации помещены как в историческое измерение: (например, древнекитайская, древнеиндийская, древнегреческая), так и в современное нам: западная, восточная, исламская, православная, латиноамериканская и т. д. В последние десятилетия исследователи стали выделять и локальные, региональные цивилизации. Так возникли, например, представления о современной цивилизации Центральной Азии, о цивилизации Кавказа и т. д.
Цивилизации и культуры связаны между собой сложной взаимосоподчиненной связью. Культура лежит в основе цивилизации, но цивилизация предоставляет возможности для развития культуры. Нет смысла доказывать, что из них первично. Культура — внутренний стержень цивилизации, ее духовная основа, и в этом смысле культура первична. Но цивилизация являет силу культуры, отстаивает ее перед лицом «внешнего» мира — и в этом смысле цивилизация обеспечивает бытие культуры. Вопросам взаимоотношений культуры и цивилизации много внимания уделял Н. Бердяев, и мимо его позиции нельзя пройти.
Суть бердяевской концепции соотношения культуры и цивилизации заключается в следующем. Культура, по Бердяеву, духовна, а цивилизация — бездуховна. «Культура и цивилизация — не одно и то же. Культура родилась из культа. Истоки ее — сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью религиозной. Так было в великих древних культурах, в культуре греческой, в культуре средневековой, в культуре раннего Возрождения. Культура — благородного происхождения. Ей передался иерархический характер культа. Культура имеет религиозные основы. Это нужно считать установленным и с самой позитивно-научной точки зрения. Культура — символична по своей природе. Символизм свой она получила от культовой символики. В культуре не реалистически, а символически выражена духовная жизнь. Все достижения культуры по природе своей символичны. В ней даны не последние достижения бытия, а лишь символические его знаки. Такова же и природа культа, который есть прообраз осуществленных божественных тайн. Цивилизация всегда имеет вид parvenu. В ней нет связи с символикой культа. Ее происхождение мирское. Она родилась в борьбе человека с природой, вне храмов и культа. Культура есть явление глубоко индивидуальное и неповторимое. Цивилизация же есть явление общее и повсюду повторяющееся. Переход от варварства к цивилизации имеет общие признаки у всех народов, и признаки по преимуществу материальные, как, например, употребление железа и т. п. Культура же древних народов на самых начальных ступенях своих очень своеобразна и неповторимо индивидуальна, как культура Египта, Вавилона, Греции и т. п. Культура имеет душу. Цивилизация же имеет лишь методы и орудия»[54].
Все бы хорошо, принципиальные различия культуры и цивилизации Н. Бердяев выделил и обосновал. Но статус культуры к середине XX века существенно изменился. И уже сам Н. Бердяев видел, что при победной поступи демократии и культура становится бездуховной. «Давно уже происходящая в мире демократическая революция не оправдывает себя высокой ценностью и высоким качеством той культуры, которую она несет с собой в мир. От демократизации культура повсюду понижается в своем качестве и в своей ценности. Она делается более дешевой, более доступной, более широко разлитой, более полезной и комфортабельной, но и более плоской, пониженной в своем качестве, некрасивой, лишенной стиля. Культура переходит в цивилизацию. Демократизация неизбежно ведет к цивилизации»[55]. Все это имеет самое непосредственное отношение к анализу религиозных оснований цивилизации: если культура теряет духовность, то и религии не место в такой культуре. «При адекватном понимании культуры именно религия предстает в качестве истока и основы традиционной культуры. И потому, казалось бы, религия всегда может «напомнить» культуре свое «первородство» и оказывать ощутимое воздействие на культуру. Но нет. Современная культура скорее стоит в оппозиции религии, чем сотрудничает с ней. Это хотя и странно, но симптоматично. Здесь можно усмотреть глобальный тренд на вымывание из культуры сколь-нибудь значимого духовного содержания»[56]. Так что соотношение культуры и духовности крайне непросто.
Нисколько не проще и с рассмотрением основ цивилизации. Цивилизация в некотором отношении является абстрактным (чересчур общим) понятием. В него входят самые разные фрагменты жизни человечества. Иногда прямо противоположные. Цивилизация обладает многими основаниями. Почти все можно рассматривать в этом качестве; цивилизация основана и вбирает в себя и материальные основы (мы можем увидеть их и в артефактах археологии и в стремлении к материальному обогащению наших современников), и идеальные проекции бытия в самых разных формах, и в характере международных отношений современности, и в чем-угодно ином, что «помещено» в «тело» цивилизации. Это многообразие основ цивилизации — объективная данность, и мы можем сузить спектр оснований цивилизации только в целях специальных исследований тех или иных граней ее. Но вместе с тем имеются такие основания, глобальность которых и значение их для понимания сущности цивилизации не подлежат сомнению. К таковым относится религия, как бы мы не понимали последнюю: то ли как вымысел человека, то ли как истину в последней инстанции, религия неустранима из содержания цивилизации и присутствует в ней от начала (присутствует мощно) до конца (на грани исчезновения), если таковой предстоит.
В истории нет цивилизаций, не имеющих в своих основаниях религии. Все они: от Шумера до сегодняшнего дня в той или иной мере содержат религиозные представления в базовых для цивилизации основаниях. Это говорит, по крайней мере, о двух важнейших обстоятельствах. Во-первых, религия присуща почти всем формам человеческого бытия и, во-вторых, религия лежит в основании этих форм, во многом задавая парадигмы и параметры исторического развития этих форм, самыми крупными из которых являются цивилизации. Итак, религиозные представления присутствуют в числе оснований цивилизаций издавна. Но мера ее присутствия разная. И содержание религиозных основ разное. Если рассматривать цивилизации в их множестве, то и религии, лежащие в основании тех или иных цивилизаций тоже разные. Это многообразие религиозных оснований создает некую неясность специфики религиозных основ цивилизации. Культура более целостна, она все же исходит из единого основания. А цивилизация — многоуровневое образование; она имеет сложную структуру, ее содержание синкретично. Разные грани и аспекты цивилизация образуют систему, в которой нет органического согласия. Поэтому-то цивилизация не имеет однозначного вектора своего развития. Тому пример — европейская цивилизация сегодня: она явно отрицает одно из существеннейших своих оснований — религию, но в свое время христианство организовывало всю жизнь европейских сообществ — в эпоху Средневековья, например.
Цивилизация, как уже говорилось, многоуровневое и структурно сложное понятие. Это одно из тех понятий, которые не покрываются какими-угодно определениями. Ее содержание можно эксплицировать самыми разными способами. Понятие цивилизации, скорее, интуитивно, нежели рационально. Оно настолько собирательно, что покрывает собой почти все содержание окружающей человека реальности. Не сужается это понятие конкретизацией его региональными или локальными проекциями всеобщей цивилизации — западной, восточной, латиноамериканской и т. д. Аналогично дело обстоит и с религиозными определенностями цивилизации: христианской, мусульманской, буддистской и другими. Временные рамки разных этапов развития цивилизации — древней, античной, средневековой, современной — тоже мало что дают для понимания сущности цивилизации: они располагают цивилизационный процесс во времени, и только. Конечно, во всех упомянутых аспектах цивилизации имеется своя специфика и свое содержание, но они объединены общим «цивилизационным потоком», единством сущности цивилизации. Согласно этому подходу правильнее будет говорить не о многих цивилизациях, но о многих традиционных культурах в составе единой Земной цивилизации. А традиционные культуры, действительно, очень существенно отличаются друг от друга, образуя многообразие внутри этой цивилизации.
Есть и иной подход в понимании сущности цивилизации, при котором признается наличие многих цивилизаций, существующих одновременно; традиционные культуры, согласно этому подходу, и являются ядром основанных на них цивилизаций. Этот подход в настоящее время доминирует в общественных и гуманитарных науках. В свое время А. Дж. Тойнби приложил много сил для развернутого доказательства множественности цивилизаций (в начале XX века доминировало мнение о единственности западной цивилизации — А. К.). Он заострил внимание на том, что западная цивилизация считается единственной вследствие того, что она «распространила свою экономическую систему по всему миру. За экономической унификацией, которая зиждется на западном основании, последовала и политическая унификация, имеющая то же основание и зашедшая почти столь же далеко. … Западные историки преувеличивают значимость этих явлений… и роль ситуации, исторически сложившейся совсем недавно и не позволяющей пока говорить о создании единой Цивилизации, тем более отождествлять ее с западным обществом…. Западное общество провозглашается, тем не менее, цивилизацией уникальной, обладающей единством и неделимостью. Цивилизацией, которая после длительного периода борьбы достигла, наконец, цели — мирового господства»[57]. Критикуя «единственность» западной цивилизации, А. Дж. Тойнби указывает на двадцать одну цивилизацию, существующих одновременно, которые не могут быть разделены на «более важные и менее значимые». Согласно А. Дж. Тойнби, эти цивилизации равнозначны.
С точки зрения анализа религиозных основ цивилизации не столь важно, имеется в мире единственная цивилизация или их двадцать одна. Все цивилизации содержат религиозные представления в своих основаниях. Правда, религии, лежащие в основании той или иной цивилизации (при множественности цивилизаций) разные. Но это не сказывается на общем принципе: имеются религиозные основы цивилизаций и эти религиозные основы очень важны для сущности и содержания цивилизаций.
У нас нет возможности в рамках данной статьи рассмотреть перипетии динамики и истории присутствия разных религий в составе многих цивилизаций — это требует обширного труда и объемов монографии. Остановимся на анализе все той же западной цивилизации, и хотя, бесспорно, имеются свои особенности функционирования религии в рамках той или иной цивилизации, мы абстрагируемся от этих особенностей, приняв за общее место факт наличия религии в основании цивилизаций; изменение ее статуса; усиление роли религии со временем или уменьшение этой роли (в этом имеется отличия); но, как правило, роль религии снижается по мере развития цивилизации в ее внешних формах.
Религия присутствует в содержании цивилизаций и впрямую и косвенно. Рассмотрим эти формы. Религия выступает как основа цивилизации впрямую, как феномен, организующий эту цивилизацию. Так иудаизм организовывал вокруг себя иудейское общество. Вся жизнь иудея древности была четко регламентирована религиозными правилами: что надо, что можно, что нельзя, как вести себя практически в любой жизненной ситуации. Жизнь была достаточно сложной, так как система разрешений и запретов охватывала все иудейское общество. Но вместе с тем жизнь была духовно насыщенной и обладающей смыслом. Поощрения и наказания со стороны Бога были ясны, обоснованы и неизбежны.
Жизнь первоначальных общин христиан была несколько свободней, ибо, как писал апостол Павел, кто в вере, тот уже не под законом. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса» (Гал. 3; 24-26). Но свобода эта требовала веры в Иисуса Христа вплоть до со-распятия с Ним. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос (своей крестной смертью — А. К.), и не подвергайтесь опять игу рабства» (не впадайте в грех, т. к. грех — источник духовного рабства — А. К.) (Гал. 5:1). Жизнь христиан была в свободе, но в самоподчинении их «духу истины».
Со времени издания Миланского эдикта императором Константином (313 год по Р. Х.), уравнявшим христианство с иными религиями, действующими в Римской империи, христианство становится духовной силой, активно участвующей в обыденной жизни на всех ее уровнях. Ко времени Средневековья и в течение его христианство организовывало жизнь европейских сообществ во всей ее полноте. Производительная деятельность, торговля, потребление — все определялось христианскими принципами. Политическая система была калькой Небесной иерархии; время было прерогативой Бога и было живым и одухотворенным настолько, что нельзя было эксплуатировать его, извлекая из него какую-либо пользу (отсюда известный запрет на ростовщическую деятельность). Монастыри были средоточием жизни местных общин: весь дневной распорядок строился по колокольному звону; ночь переживалась в подобие смерти, и новый день всякий раз отмаливался монахами. Безусловно, имелись напряжения между христианскими идеалами и реалиями повседневной жизни. Строгая, духовно насыщенная повседневность прорывалась в карнавальные бунты, взрывающие течение одухотворенной христианскими идеалами средневековой жизни. Имела место и глухая оппозиция христианской строгости в системности. Все это было. Но все же это было маргинальными всплесками и внесистемным поведением.
Архитектура Средневековья показывает нам «застывшую музыку» веры в Иисуса Христа. Сама музыка тоже была формой исповедания Его. Гимнология — также. Все искусство в целом играло роль эстетического прочтения бытия Бога. Философия была «прислужницей» богословия. Богословская мысль сформулировала самую логику мышления на основании веры в Бога. Европейская цивилизация в это время была христианской почти целиком. Средневековая европейская цивилизация через ряд сломов, через Возрождение, через Новое время отошло от Бога. Но предварительно внутри Средневековой цивилизации (и позже) возникла система ценностей, способная заместить собой ценности религиозные. Начиная с позднего Возрождения гуманистические ценности постепенно вытесняли религиозные, пока уже в наше время этим идеалам гуманизма наследовал либерализм, чьи антирелигиозные установки во всей полноте стали очевидными только сегодня.
Мы не ставим себе целью проведение аналогичного анализа в отношении мусульманской культуры и цивилизации IX-XII веков — это тема отдельного исследования. Но, как известно, наука, философия и мышление в целом были органично связаны с исламом, который давал духовный импульс их развитию. Причем во многих областях и теории и практики реальной жизни был достигнут такой уровень одухотворения жизнедеятельности человека и общества, который сегодня кажется нам чудесным.
Косвенное влияние религии на цивилизации еще более широко и разнообразно. Это влияние реализуется опосредовано — через феномены, которые имеют в религии исток, но обрели самостоятельность вплоть до противодействия религии. В практической плоскости к опосредованному влиянию можно отнести всю жизнедеятельность человека, когда он живет и работает, как бы не вдумываясь в смысл своей деятельности, проживая жизнь как бы вне Бога. Бог присутствует на периферии сознания, но в Нем все равно имеется исток жизни — человек не отрицает Бога, он просто не прибегает к Богу постоянно. Или другая форма опосредованного влияния религии: исследуя сущность мышления, философы часто не прибегают к понятию Бога и постигают законы мышления независимо от Его бытия. Так может продолжаться довольно долго, но при стремлении достичь последних оснований мышления, Бог все равно возникает «на горизонте» — как то ли творец способности человека к мышлению, то ли как грань, сторона этого мышления.
Современная западная цивилизация (которая, несмотря на глобальный кризис своих основ, остается самой значительной на сегодня — позволим себе не согласиться с А. Дж. Тойнби в этом отношении) построена не на религиозных основаниях, а на либеральных ценностях, предполагающих «равноудаленность» от всех религий, а попросту сказать, на внерелигиозных или даже на антирелигиозных основаниях и ценностях. Современное западное общество безудержного материального потребления отказывается от своих религиозных корней, признавая своим духовным началом не христианство, а идеалы Просвещения, обогащенные концепцией прав человека; человека, как единственного и безусловного творца своей действительности. Когда-то религия лежала в основании европейской цивилизации, а сегодня она вытеснена из содержания цивилизации Европы. Вытеснена, и постепенным обмирщением деятельности христианских церквей и падением уровня веры в обществе и людях. Секуляризация господствует в сегодняшних западных обществах, в том числе — европейских.
Но сегодняшнее господство секуляризации говорит не о том, что религия не была духовным основанием европейской цивилизации в свое время — она, бесспорно, была таким основанием — но говорит о том, что Европа утрачивает, если уже не утратила, свои религиозные корни. Как известно, в первоначальном варианте Европейской конституции (в Преамбуле) содержалось упоминание о христианских основах европейских сообществ, но в окончательном варианте конституции такого упоминания уже нет. То есть, идеи секулярности проводятся вполне осознанно. Возникает вопрос: если не христианство, то, что взято Европой в качестве духовного основания современной жизни? Или же духовное основание вообще элиминировано, и Европейский Союз обходится без духовного как такового. Пожалуй, именно так: обходится без духовного содержания. Выработаны общепринятые правила в горизонте идеологии потребления и нового понимания сущности человека, регламентирующие жизнь западного человека, отступление от которых карается не только общественным осуждением, но и уголовно (например, осуждением родителей, протестующих против права государства на искусственную смену пола их детей).
Европа отказалась от своих христианских корней — и вот результат: потеря критериев должного, вседозволенность вместо свободы, легитимизация греха. Принимаются законы, поощряющие грех, причем в тяжелейших его формах. Права человека обрели статус едва ли не новой религии, ссылкой на них покрывается всякий грех и любое безнравственное поведение. «В основе демократической идеологии "прав человека",— пишет известный православный публицист,— лежит право греховного человека на грех. Несмотря на множество общих слов о защите свободы и достоинства человеческой личности, демократия легализует "право на грех" как норму и этим являет собой вопиющее неуважение к человеку как духовному существу, лишая его знания Истины, уравнивая в нем добро и зло (принцип плюрализма) и по сути видя в нем лишь биологический организм. Есть у этой идеологии и прагматическая цель. Мы не раз отмечали, что при демократии правящие финансовые круги намеренно уводят человечества от Божественной Истины, которая топится в хаосе "частных мнений" и "религий", вплоть до сатанинских. Таким атомизированным обществом легче управлять посредством денег, которые в нем становятся главной "истиной", главным источником права и главным условием его осуществления. То есть главной властью (міровой закулисой), превосходящей все видимые избираемые властные структуры»[58].
В современной Европе перепрофилируются или впрямую продаются храмы и молитвенные дома; за последние 20 лет так поступили с 20 000 храмов. Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла ряд (порядка 10-12) Постановлений и Рекомендаций, фактически устраняющих религию не только из публичного пространства, но из личной жизни человека, а также впрямую поощряющих диффамацию религии. Заметно сократилось число верующих всех традиционных для Европы религий. При этом возникают кощунственные формы отказа от вероисповедания — в Великобритании, например, за 3 фунта стерлингов можно заполнить анкету по Интернету с отказом от христианства (для иностранцев сумма больше: 10-15 фунтов).
Наряду с этим в Европе остаются достаточно крупные анклавы с глубокой верой жителей (север Франции, ряд провинций Испании, во многом Польша). Та же атеистическая Франция — когда принимался закон, поощряющий однополые браки, два миллиона протестующих вышли на демонстрации в Париже. Но с мнением верующих не считаются, оно игнорируется. Имеются очень мощные силы вытесняющие религию на периферию общественной жизни западных стран. Религия мешает победному шествию глобализма, самим своим присутствием изобличая глобализицию в бездуховности и античеловечности. Религия стоит на пути овладения мировой элитой абсолютной власти — власти духовной.
Сегодня дух, духовное уходит из реальной жизни человечества. При этом, самая жизнь ставится на грань бытия. В самом деле: живо и живет лишь то, что одухотворено, в чем имеется дух. Во всякой цивилизации сущностным ее основанием является духовное, воплощаемое в религиях. Цивилизация укрепляется и развивается посредством развертывания ее духовного основания. Когда же духовное в цивилизации ослабляется, иссякает, тогда и цивилизация утрачивает энергетику своего бытия — так гибнут цивилизации. Мы сегодня живем в эпоху увядания цивилизации; не только западной — ее «закат» очевиден, но и всякой иной; нет молодых цивилизаций, демонстрирующих жизнестойкость и способность к развитию и расширению. В этом одновременном иссякании потенций цивилизаций нет ничего удивительного, и хотя мы привыкли к иному процессу — одно гибнет, другое пробуждается и возрастает, но в отношении современных цивилизаций их одновременное угасание проистекает из угасания духовного содержания цивилизаций. Дух уходит отовсюду. Современный мир потому-то и мало духовен, сказать вернее, бездуховен, что духовное покидает мир, ибо духовное не нужно современности; она базируется и ценит все, что угодно, но только не духовность.
Можно указать на ряд причин постепенного иссякания духа: чрезмерное увлечение внешней стороной жизни — развитием техники, формализацией личностного начала; гордыню современного человека; оправданием и легализацией греха; всеобщей суетой, в которой теряется смысл человеческой жизни и еще многим-многим другим. В религиозной традиции это все именуется отказом от Бога, забвением Его заповедей, даже бунтом против Бога, бунтом, который со времен позднего Возрождения, все нарастал и нарастал — и вот достиг уровня, с которого начинается неизбежное саморазрушение человеческого сообщества и, конечно, всякой формы цивилизации. Не поддерживаемая жизнью и жизнедеятельностью человека и общества, духовность вянет, исчезает; мир становится абсолютно бездуховным — что ведет к гибели мира. Такова, к сожалению, картина современного мира.
Однако, все может измениться в один момент: мир может обрести новое дыхание, но для этого потребно чудо — покаяние человека в грехе забвения духа и воссоздание в себе духовного основания, для чего требуется мужество отказа от привычного беспамятства своей сущности, требуется едва ли ни массовая жертвенность, что маловероятно. И все же остается надежда на изменение ситуации — ведь духовное содержание человека неустранимо из его бытия, оно — основа этого бытия; и, вполне возможно, что, изверившись в своих собственных усилиях по построению справедливого и достойного общества, человек воссоединится с Богом; ведь свободное принятие промысла Божьего и было целью и смыслом создания человека.
3.5. Гафеев Р. В. К вопросу об абстрактном труде
Понятие абстрактного труда продолжает вызывать споры и дискуссии среди изучающих марксистскую теорию. Абстрактный труд — это затрата рабочей силы в физиологическом смысле или общественная субстанция? Абстрактный труд бывает только при товарном производстве? Был ли абстрактный труд в первобытной общине? Будет ли абстрактный труд при коммунизме? — эти и другие вопросы часто возникают в ходе обсуждения и анализа работ классика. Вопрос абстрактного труда действительно важный, ведь двойственный характер труда — это исходный пункт буржуазной политэкономии в изложении Карла Маркса, и от его понимания будет зависеть усвоение всего марксистского экономического учения. Цель данной заметки — попытаться разобраться с этими проблемными моментами, опираясь на мысли классика, а также попытаться более определенно сформулировать то, как Маркс понимал абстрактный труд, что он вкладывал в это понятие.
Вместе с тем, чтобы понять абстрактный и конкретный труд, нужно пару слов сказать о том, как в марксизме понимаются категории абстрактного и конкретного. Данный вопрос подробно рассматривал в своих работах Э. В. Ильенков.
Абстрактное и конкретное. Во-первых. Абстрактное и конкретное — это диалектические категории, в которых выражаются всеобщие формы развития и природы, и общества, и мышления. Категории не выражают особенности мышления по отношению к действительности, и не выражают особенности действительности по отношению к мышлению — в них заключается тождество этих противоположных моментов.
«Прежде всего следует установить, что категории абстрактного и конкретного — это типичные логические категории, категории диалектики как логики, универсальные категории. В них выражены всеобщие формы развития и природы, и общества, и мышления. Это понятия, в которых запечатлена не специфика мышления по сравнению с действительностью и не специфика действительности по отношению к мышлению, а, как раз наоборот, момент единства (тождества) в движении этих противоположностей»[59].
Эти категории служат нам инструментом, пользуясь которым мы можем рассматривать объекты действительности, характер их связи, взаимодействия и развития. Также следует отметить, что категории абстрактного и конкретного образуют пару категорий. Это значит, что как пара категорий, они являются выразителями какого-то одного отношения, внутри которого они, будучи противоположными друг другу, образуют единство.
С помощью категории конкретного мы рассматриваем объект как «единство во многообразии», как цельную «систему» взаимодействующих друг с другом элементов, где от каждого можно проследить связь с каждым. Именно таким понятием конкретного и оперировал К. Маркс.
«Поэтому конкретное в словаре Маркса (в словаре диалектической логики вообще) и определяется как «единство во многообразии». Здесь конкретное не означает чувственно воспринимаемую вещь, наглядно представляемое событие, зрительный образ и т. д. и т. п. Конкретное означает здесь вообще «сращенное» — в согласии с этимологией этого латинского слова — и потому может употребляться в качестве определения и отдельной вещи, и целой системы вещей, равно как в качестве определения и понятия (истины и пр.), и системы понятий»[60].
Важно понимать, как указывает Ильенков, что конкретное (по Марксу) не означает чувственно-воспринимаемую единичную вещь, зрительный образ, некое представление, переживание. Однако в то же время, рассматриваться конкретно может не только система вещей (понятий) но и отдельная вещь как система.
Абстрактное — это как раз и есть тот самый момент конкретного, который мы можем выделить из него, который наряду с другими абстрактными моментами и образует конкретное. Это одна из многообразных сторон единства, которая хоть и определяет рассматриваемый объект, но только лишь с одной стороны, не давая понимание о предмете в целом.
«То же самое относится и к абстрактному, которое — и опять-таки в согласии с простой этимологией — определяется как отвлеченное, как извлеченное, как обособленное, «вынутое», «изъятое» вообще. Безразлично откуда, как и кем, безразлично в какой форме зафиксированное — в виде ли слова, в виде ли наглядного чертежа-схемы или даже в виде единичной вещи вне головы, вне сознания. Нагляднейший чертеж может быть абстрактнейшим изображением некоторой сложной системы вещей-явлений, некоторого конкретного. Абстрактное понимается как один из ясно очерчивающихся моментов конкретного — как частичное, односторонне неполное (потому всегда по необходимости ущербное) проявление конкретного, отделившееся или отделенное от него, относительно самостоятельное образование, мнимонезависимый его момент»[61].
Вычленять, абстрагировать от конкретного различные его моменты мы можем по-разному. Обычно та или иная абстракция, с которой мы имеем дело, определяется самим характером и направлением рассмотрения предмета. Например, можно вспомнить Ленинскую «Диалектику стакана»:
«Стакан есть, бесспорно, и стеклянный цилиндр и инструмент для питья. Но стакан имеет не только эти два свойства или качества или стороны, а бесконечное количество других свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и «опосредствований» со всем остальным миром. Стакан есть тяжелый предмет, который может быть инструментом для бросания. Стакан может служить как пресс-папье, как помещение для пойманной бабочки, стакан может иметь ценность, как предмет с художественной резьбой или рисунком, совершенно независимо от того, годен он для питья, сделан ли он из стекла, является ли форма его цилиндрической или не совсем, и так далее и тому подобное.
Далее. Если мне нужен стакан сейчас как инструмент для пития, то мне совершенно не важно знать, вполне ли цилиндрическая его форма и действительно он сделан из стекла, но зато важно знать, чтобы в дне не было трещины, чтобы нельзя было поранить себе губы, употребляя этот стакан, и т. п. Если же мне нужен стакан не для питья, а для такого употребления, для которого годен всякий стеклянный цилиндр, тогда для меня годится и стакан с трещиной в дне или даже вовсе без дна и т. д.»[62].
В зависимости от того, с какой практической стороны мы подходим стакану или к любому другому объекту действительности, мы можем выделить тот или иной абстрактный момент. Более того, сам характер абстрагирования и выделенная вследствие этого процесса абстракция дается нам самой человеческой практикой, самой практической деятельностью.
Абстрактный труд. А теперь обратимся к «Капиталу» К. Маркса, где рассматривается понятие абстрактного труда.
Работа начинается с анализа товара. Маркс начинает исследовать «богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства» с товара как «его элементарное бытие». Определив товар сначала как потребительную стоимость, как «внешний предмет, вещь», способную за счет своих свойств удовлетворить определенные человеческие потребности, он переходит к другой стороне товара — к меновой стоимости. Как известно, товар — это не только что-то, что можно потребить, а также то, что можно обменять на другой товар, и непросто обменять, а обменять в определенном количественном соотношении, в определенной пропорции. Данное соотношение, в котором один товар обменивается на другие, определяется как меновая стоимость. Затем происходит более подробное и тщательно рассмотрение такой обмениваемости, в результате чего Маркс делает выводы:
«Отсюда следует, во-первых, что различные меновые стоимости одного и того же товара выражают нечто одинаковое и, во-вторых, что меновая стоимость вообще может быть лишь способом выражения, лишь «формой проявления» какого-то отличного от неё содержания»[63].
В самом обмене товаров нам дан процесс, в ходе которого осуществляется определенная практика, и в результате этой практики мы самым непосредственным образом приравниваем обмениваемые товары к чему-то одному, выделяем общим им всем абстрактный момент. И сам характер абстрагирования дан нам общественной практикой, ведь в капиталистическом обществе подавляющее большинство предметов потребления (потребительных стоимостей) обладают товарной формой, а значит и обмениваются.
«И что самое главное, такое сведение любого «конкретного» вида труда и его продукта к «абстрактному труду» совершилось вовсе не в теоретизирующей голове, а в реальности экономического процесса. «Это сведение представляется абстракцией, однако, это такая абстракция, которая в общественном процессе производства происходит ежедневно» и потому «есть не большая, но в то же время и не менее реальная абстракция, чем превращение всех органических тел в воздух»[64].
Маркс прямо отмечает, что тем общим, что есть у товаров, вступающих в обмен, «не могут быть геометрические, физические, химические или какие-либо иные природные свойства товаров». Иначе говоря, не какое-либо природное свойство товаров становится для нас тем абстрактным моментом, который нас интересует в рамках политэкономического исследования, ведь опираясь на природные свойства, мы не сможем объяснить, почему товары обмениваются именно в данной пропорции, а не в какой-либо другой.
С другой стороны, как раз те самые природные, физические, потребительные свойства товаров в процессе обмена у товаров стираются, становятся несущественными с точки зрения исследования. Ведь сам процесс обмена делает один товар равным другому, а если мы наблюдаем равенство, значит, мы отвлекаемся от различий, которыми обладают сравнимые вещи, а эти различия как раз и заключается в их химических, физических, геометрических свойствах и натуральных формах, которые и делают их потребительными стоимостями.
«Очевидно, с другой стороны, что меновое отношение товаров характеризуется как раз отвлечением от их потребительных стоимостей. В пределах менового отношения товаров каждая данная потребительная стоимость значит ровно столько же, как и всякая другая, если только она имеется в надлежащей пропорции»[65].
Тем общим, что остается от товаров, когда мы отвлеклись от их потребительных стоимостей — это то, что все они являются продуктами труда.
«Если отвлечься от потребительной стоимости товарных тел, то у них остаётся лишь одно свойство, а именно то, что они — продукты труда»[66].
Обратим внимание, что именно на этом отрезке повествования Маркс впервые упомянул о труде. Труд впервые возник в исследовании Маркса именно в контексте того общего, что есть у всех товаров как меновых стоимостей, это общее и было вскрыто анализом менового отношения, а не привнесено со стороны. А само меновое отношение выходит из обмена товаров — акта действительной жизни, который повторяется в буржуазном обществе ежедневно, ежечасно, ежеминутно — одним словом составляет ту основу, на которой строится вся экономическая (а, следовательно, и общественная) жизнь общества.
Рассматривая товары как результаты труда, и, учитывая, что мы отвлеклись от всех тех качеств, что делают их потребительными стоимостями, Маркс аналогичным образом рассматривает и сам труд. Если для нас теперь не важно, что перед нами та или иная потребительная стоимость («это уже не стол, или дом, или пряжа, или какая-либо другая полезная вещь»), то мы также пренебрегаем тем особым видом труда, результатом которого и является рассматриваемая вещь. В итоге, мы приходим к понятию абстрактного, одинакового человеческого труда.
«Равным образом теперь это уже не продукт труда столяра, или плотника, или прядильщика, или вообще какого-либо иного определённого производительного труда. Вместе с полезным характером продукта труда исчезает и полезный характер представленных в нём видов труда, исчезают, следовательно, различные конкретные формы этих видов труда; последние не различаются более между собой, а сводятся все к одинаковому человеческому труду, к абстрактно человеческому труду»[67].
И теперь, от труда, автор Капитала снова возвращает нас к продуктам труда, и показывает, что они собой являют. Появляется категория «стоимость».
«Рассмотрим теперь, что же осталось от продуктов труда. От них ничего не осталось, кроме одинаковой для всех призрачной предметности, простого сгустка лишённого различий человеческого труда, т. е. затраты человеческой рабочей силы безотносительно к форме этой затраты. Все эти вещи представляют собой теперь лишь выражения того, что в их производстве затрачена человеческая рабочая сила, накоплен человеческий труд. Как кристаллы этой общей им всем общественной субстанции, они суть стоимости — товарные стоимости»[68].
Итого, что мы имеем.
Абстрактный труд — это одинаковый человеческий труд, затрата одинаковой человеческой рабочей силы безотносительно формы этой затраты.
Стоимость — это воплощенный, «материализованный» в товаре сгусток абстрактного труда.
Казалось бы, всё ясно, и проблем не возникает. Однако давайте рассмотрим, как Маркс уточняет и расширяет понятие абстрактного труда далее, в специально отведенном параграфе 1 главы «Капитала»:
«Если отвлечься от определённого характера производительной деятельности и, следовательно, от полезного характера труда, то в нём остаётся лишь одно,— что он есть расходование человеческой рабочей силы. Как портняжество, так и ткачество, несмотря на качественное различие этих видов производительной деятельности, представляют собой производительное расходование человеческого мозга, мускулов, нервов рук и т. д. и в этом смысле — один и тот же человеческий труд»[69].
«Всякий труд есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей силы в физиологическом смысле,— и в этом своём качестве одинакового, или абстрактно человеческого, труд образует стоимость товаров»[70].
А также в другой своей важной работе:
«Эта абстракция всеобщего человеческого труда существует в среднем труде, который в состоянии выполнять каждый средний индивидуум данного общества, это — определённая производительная затрата человеческих мышц, нервов, мозга и т. д.»[71].
Данные строки рождают много споров. С одной стороны, можно встретить утверждения, что, поскольку абстрактный труд, который образует стоимость — это затрата человеческой рабочей силы в физиологическом смысле, то для того, чтобы преодолеть товарное производство, чтобы исчезла стоимость, нужно добиться того, чтобы человек перестал участвовать в процессе производства посредством затраты своих мускулов, нервов, мозга и т. д. В качестве решения предлагаются фантастические сценарии, где роботы будут выполнять за человека всю физиологическую работу, и таким образом человек сможет преодолеть капитализм и построить светлое коммунистическое будущее.
С другой стороны, можно встретить другую точку зрения, которая, опираясь на другие положения Маркса о том, что стоимость — это исключительно общественное свойство вещи, и рассматривать абстрактный труд, который её образует, как затрату физиологической энергии — не правильно. Потому что, действительно, в таком случае получится, что и стоимость у нас категория внеисторическая, она существовала, существует и будет существовать всегда, пока существует и трудится человек. Если стоимость — это общественное свойство вещи, то абстрактный труд нужно рассматривать только с точки зрения социальной, и никак не с позиции физиологической.
На мой взгляд, обе противоречащие крайности выражают единство двух моментов, которые и составляют понятие абстрактного труда. Абстрактный труд — это физиологическая затрата человека в процессе труда, но в общественном смысле.
Во-первых, все же странно будет отрицать, что человек в процессе труда затрачивает свою «физиологическую энергию», затрачивает калории, если угодно. Более того, физиологическая затрата человека происходит не только в процессе труда, но и в процессе сна, прогулки, чтения книг, занятия спортом, и так далее, даже в процессе принятия пищи, когда человек пополняет свой калорийный запас и восполняет физиологические потери, происходит «затрата человеческих мышц, нервов, мозга и т. д.». Существование человека в физиологическом смысле, потребление своей собственной физиологии в процессе жизнедеятельности (и не только строго производительной) — этот биологический факт (который актуален и для других живых существ) является необходимым условием существование человека уже в общественном смысле.
Во-вторых, также странно будет отделять от труда и общественный его характер. Поскольку человек — это существо общественное, и в полной мере называться человеком может только общественный индивид, то и труд как специфическую человеческую деятельность нельзя рассматривать, не учитывая социальный момент. Человек всегда трудится, находясь в некоторых общественных связях с другими людьми, что обусловлено разделением труда, и так или иначе, трудясь для себя, он одновременно трудится и для общества.
Таким образом, говоря о труде, можно сказать, что это такой процесс, в ходе которого, во-первых, человек затрачивает свою физиологическую энергию, а во-вторых делает это, находясь в общественных связях с другими людьми. Если рассмотреть труд с позиции целого общества, то есть некоторая совокупность индивидов, которая занимается материальным производством своей жизни (производит потребительные стоимости с целью удовлетворить свои потребности), затрачивая при этом свои мышцы, нервы, мозг, и находясь при этом в определенных отношениях друг с другом.
Получилась весьма общее абстрактное понимание труда. Становится плохо понятно, как оно связано со стоимостью — с основополагающей категорией политической экономии капитализма. Однако данная абстракция, такое понимание абстрактного труда, можно считать общим для всех эпох производства. Во все времени люди трудились, и будут трудиться как в физиологическом смысле, так и вступая друг с другом в общественны отношения. Однако рассмотрение труда в такой простой абстракции с точки зрения политической экономии возможно только в буржуазном обществе.
«Труд кажется совершенно простой категорией. Представление о нём в этой всеобщности — как о труде вообще — является также весьма древним. Однако «труд», экономически рассматриваемый в этой простой форме, есть столь же современная категория, как и отношения, которые порождают эту простую абстракцию»[72].
«Этот пример труда убедительно доказывает, что даже самые абстрактные категории, несмотря на то, что они — именно благодаря своей абстрактности — имеют силу для всех эпох, в самой определённости этой абстракции представляют собой в такой же мере продукт исторических условий и обладают полной значимостью только для этих условий и внутри их»[73].
Понимание того, что продукты труда сравнимы между собой в товарном обмене на основе того, что все они продукты затрат одинаковой человеческой рабочей силы безотносительно формы этой затраты, не так просто как может показаться на первый взгляд. Маркс приводит в пример Аристотеля, который анализировал форму стоимости еще задолго до появления капитализма. Великий древнегреческий мыслитель анализируя простое меновое соотношение (5 лож = 1 дому) приходит к тому, что в нём выражается качественное отождествление двух товаров, но при этом он не находит той общей субстанции, на основе которой происходит сравнение. Почему?
«Но того факта, что в форме товарных стоимостей все виды труда выражаются как одинаковый и, следовательно, равнозначный человеческий труд,— этого факта Аристотель не мог вычитать из самой формы стоимости, так как греческое общество покоилось на рабском труде и потому имело своим естественным базисом неравенство людей и их рабочих сил. Равенство и равнозначность всех видов труда, поскольку они являются человеческим трудом вообще,— эта тайна выражения стоимости может быть расшифрована лишь тогда, когда идея человеческого равенства уже приобрела прочность народного предрассудка. А это возможно лишь в таком обществе, где товарная форма есть всеобщая форма продукта труда и, стало быть, отношение людей друг к другу как товаровладельцев является господствующим общественным отношением»[74].
Действительно, кому во времена античного рабовладения могла прийти в голову мысль о равнозначности, равенстве человеческого труда, когда самая массовая трудовая единица, являющаяся основой материального производства — раб — и вовсе не считалась за человека? Феодальная форма общества с его сословным делением и отношениями личной зависимости также не подразумевала такого равенства. Только при господстве товарного производства, т. е. при капиталистической форме общества, когда индивиды экономически равнозначны друг другу как владельцы товаров, и это отношение между ними является господствующим общественным отношением, тогда труд различных людей взаимно относится друг к другу как равный труд, и эта простая абстракция — труд вообще (абстрактный труд) — «становится практически истинной». И именно тот факт, что эта абстракция находи себя в практике повседневной жизни общества, и делает возможным абстрагировать «труд вообще» в ходе политэкономического исследования.
Однако простого факта, что за стоимостью стоит абстрактный труд, а за абстрактным трудом — производительная затрата человеческой физиологии в общественном плане будет не достаточно, чтобы понять, что из себя представляет стоимость. Именно специфика общественного взаимодействия людей при производстве и делает возможным превращение продукта труда в стоимость.
«Условия труда, создающего меновую стоимость, как они вытекают из анализа меновой стоимости, суть общественные определения труда или определения общественного труда, но общественного не вообще, а особого рода. Это специфический вид общественности»[75].
Данную специфику, эту особую форму отношений между людьми при производстве Маркс анализирует по ходу дальнейшего исследования. Именно специфическая форма (определенный характер производственных отношений между индивидами), в которой человеческое общество в абстрактном смысле трудится, т. е. через каждого отдельного индивида затрачивает свою физиологическую энергию при производстве своей материальной жизни, и находит своё выражение в стоимости — общественном свойстве вещи.
«… «стоимость» товара лишь выражает в исторически развитой форме то, что существует также, хотя и в другой форме, во всех других исторических общественных формах, а именно общественный характер труда, поскольку последний существует как затрата общественной рабочей силы»[76].
Таким образом, абстрактный труд — это действительно общее и абстрактное понятие, которое может относиться к любой форме общества, однако в рамках политэкономического исследования абстрактный труд можно рассматривать только в том случае, когда он находит своё выражение в капиталистических производственных отношениях. Именно анализ действительных производственных отношений буржуазного общества, проведенный Марксом, позволил выделить такую абстракцию — абстрактный труд, который и образует «субстанцию стоимостей».
3.6. Ратников Г. В. Тенденции решения проблемы отчуждения
В условиях современного капиталистического общества отчуждение приобретает свою наиболее развитую форму, которая выражается не только в отчуждении человека от других индивидуумов общества, но и в отчуждении человека от самого себя, в полном «расчеловечивании». Из области теории этот вопрос переходит в повседневную практику и каждый житель планеты Земля ощущает влияние этой проблемы уже непосредственно в свою жизнь. В таком контексте поиск путей решения проблемы отчуждения становится действительно насущной задачей.
Отчуждение, каким мы видим его в современном обществе, носит почти всеобщий характер, пронизывает отношение человека к своей работе, к потребляемым им вещам, к государству, к природе, к своим ближним и к самому себе. Человеческими руками создан мир удивительных вещей, которого никогда не существовало прежде. На базе производственных отношений выросло сложное общественное устройство, способное решать любые социальные задачи, мобилизовать ресурсы всего общества, планировать и управлять производством в планетарном масштабе, эффективно использовать природные ресурсы и обеспечить благоприятные условия для жизни всего человечества, для полноценного и всестороннего развития творческого потенциала человека. Казалось бы, мы вплотную подошли к тому моменту, после которого жизнь на земле станет удобной, безопасной и сытной, однако вместо этого всё созданное человеком возвышается и главенствует над ним. Он чувствует себя не творцом и высшей руководящей инстанцией, а слугой внешних сил, довлеющих над его судьбой. Чем могущественнее и грандиознее высвобождаемые им силы, тем более бессильным он чувствует себя как человеческое существо. Он противостоит себе и своим собственным творениям, воплощённым в созданных им вещах и отчуждённым от него. Он противостоит действительности и бежит в мир иллюзий. Он больше не принадлежит себе, а находится во власти собственного творения.
Предварительная цель состоит в том, чтобы правильно определить понятие «отчуждение» в соответствии с его реальной всеобщей конкретностью, а не с тем, как это явление отражается в нашем индивидуальном сознании, ибо только правильно понятое может быть осознанно изменено.
Прежде всего, при рассмотрении понятия «отчуждения» необходимо, чтобы систематически-теоретическое понимание сути дела было уже само по себе («в себе и для себя») исторически конкретным, т. е. выражало бы уже в своих определениях исторические границы существования отражаемого им предмета. Так как свою развитую форму «отчуждение» приобретает на современном этапе исторического развития, целесообразно ограничить рассмотрение данного явления рамками капиталистического общества. Великие философы прошлого Г. Гегель, К. Маркс[77], Ф. Энгельс, В. И. Ленин, Э. В. Ильенков неоднократно обращались к данной проблеме и сформулировали пути её разрешения. Политические изменения последних лет заставили общество забыть их наработки, отвернуться от ясного понимания вопроса и свернуть в лабиринт заблуждений. Но как показывает история человечества, истинное познание нельзя остановить политическим террором или идеологическим обманом, истина рано или поздно преодолевает заблуждение и пробивает путь к человеку.
Наша задача, сохранить добытые крупицы знания, развить теорию и понимание окружающего мира и законов, которые управляют им, чтобы применять действительные и действенные инструменты решения проблем. Существенную помощь в этом нам может оказать Э. В. Ильенков. Он раскрывает развитие понятия «отчуждение» на основе анализа используемых К. Марксом терминов: «Entfremdung», «Entäusserung», «Veräusserung»,— представляющих разные исторические формы «отчуждения». Наиболее подробно этот вопрос рассматривается Э. В. Ильенковым в его статьях «Гегель и «отчуждение»[78], «Маркс и западный мир»[79]. Конечно, различные аспекты данной проблемы рассматриваются Э. В. Ильенковым и в других работах, поэтому в полной мере рассмотреть и понять данную проблематику в изложении Эвальда Васильевича можно подробно рассмотрев всё его творческое наследие, но это, к сожалению, выходит за рамки данной работы.
Итак, Эвальд Васильевич приходит к выводу о том, что вначале «отчуждение» у Маркса принимает форму в виде результата («Veräusserung»). В виде продукта отчуждается (Veräussert) лишь продуктивная деятельность, определённая деятельность, как «мёртвый труд» — в виде предмета непосредственного потребления или средства производства, в виде орудия. Эта самая первая форма отчуждения появляется на заре первобытно-общинного общества, когда начинается осознанная трудовая деятельность человека. Сам процесс труда представляет на первом этапе отчуждение у природы полезных предметов и их присвоение человеком. При этом человек здесь не выступает как обособленный индивид. Условия жизни первобытного общества, необходимость объединения сил человека для целей выживания, сплачивали отдельных индивидов в рода и племена. В этом случае человеческая община выступает как единый субъект, как один общественный человек, который отчуждает у природы её продукты и присваивает их в общее пользование всех своих членов. Отчуждение природных благ конкретным индивидуумом носит случайный и эпизодический характер, так как отдельный человек ещё не в состоянии в одиночку обеспечить себе условия для выживания. На этом этапе не происходит расслоения и выделения (отчуждения) членов внутри рода. Отношения отчуждения на данном этапе можно охарактеризовать как отношения «Природа — Человек (Общество)».
Следующая форма «отчуждения»– «Entäusserung»– характеризуется отчуждением частной собственности по отношению к владельцу. В процессе этой формы «отчуждения» снимается лишь личное отношение к предмету. Вещь возвращается во власть стихийных сил природы. Такое «отчуждение» является односторонним. К данному виду отчуждения, по всей видимости, можно отнести и отчуждение индивидом (членом рода) добытых природных благ в пользу всех членов рода, так как отчуждающий индивид не получает взамен отчуждаемой вещи никакого возмещения (сохраняется односторонний характер отчуждения).
Следует отметить, что развитие форм отчуждения непосредственно связано с разделением труда и развитием производительных сил. Конкретный индивид приобретает некую «специализацию», например, «охотник», «рыболов», «собиратель», «хранитель очага» и т. п. А развитие орудий и способов труда позволяют отчуждать у природы предметов больше, чем есть потребность у отдельного индивида, но в рамках потребности всего общества (рода). Передача предметов труда в общую собственность носит односторонний характер.
Указанная выше «специализация» одновременно является началом выделения (общественного отчуждения) конкретных индивидов из общества (рода, племени). Разделение труда с одной стороны позволяет человеку создавать предметов больше, чем необходимо для его личного потребления (в силу большего опыта, применения специальных орудий труда и т. п.), с другой стороны — удовлетворить потребность в иных продуктах становится возможным только путём обмена с родом (племенем). Данные обстоятельства создают предпосылки к возникновению частной собственности и расслоению общества. Схема отношений на данном этапе выглядит сложнее: «Природа — Индивид (Производитель) — Общество».
В своей развитой форме «Entfremdung» «отчуждение» существует уже как общественное отношение. Часть отношения отчуждения «Природа — Человек» отходит на второй план, ведущими становятся многократно воспроизводимые отношения «Человек (Производитель)– Человек (Производитель)».
Развитие производительных сил приводит к тому, что отдельные члены общества получают возможность удерживать часть производимых сверх потребности рода (племени) предметов потребления и тем самым накапливать богатство. Вместе с тем разделение труда приводит к тому, что накопленное богатство представляет собой не полный набор продуктов потребления. Чтобы получить недостающее, производитель вынужден вступать в отношения обмена продуктами с другими производителями. Так через взаимное отчуждение «Entfremdung» в его специфическом значении возникает там, где «Entäusserung» превращается в тотальную форму общественных отношений между производителями. «Entfremdung» является взаимным отчуждением частной собственности, отношением отчуждения с обеих сторон, или отчуждением как отношением обоих частных собственников.
Итак, как мы видим, «отчуждение» в различных своих формах имеет место на самых различных этапах исторического развития. Оно претерпевает изменение, развивается одновременно с развитием человеческих отношений. И, если рассматривать категорию «отчуждение» как неизменную застывшую абсолютную форму, то данный факт даёт основание ошибочно полагать, что «отчуждение» есть атрибут человеческой деятельности, что «отчуждение» в его развитой форме имманентно «человеческой природе» и не может быть изменено (что, как мы уже видели, не соответствует историческим фактам), что в свою очередь вполне закономерно приводит к ложному выводу о том, что задачу «снятия отчуждения» решить невозможно. То есть распространение характеристик развитой формы «отчуждения» на всю историю человеческих отношений приводит к заблуждению. Разрушить данное заблуждение является первоочередной и насущной задачей человечества.
Второй характерной чертой «отчуждения» является её непосредственная связь с частной собственностью. На этапе капиталистического развития общества неустранимой тенденцией движения частной собственности остаётся отнятие у индивида одной за другой его деятельных функций в пользу анонимной «тотальности», вне индивида находящихся социальных институтов и учреждений. Производитель отчуждается от производимого им продукта, от средств производства. Производитель становится работником, совершающим только часть действий по производству продукта, и лишается возможности не только влиять на судьбу производимого им предмета, но и на сам процесс производства. Далее происходит разделение труда на умственный и физический. Работник, создающий материальный продукт, лишается необходимости задумываться над тем, что он делает и для чего, а работник умственного труда (например, инженер) не знает, как его мысль воплощается в действительности. Работники полностью отчуждаются от результатов своей деятельности, труд для них утрачивает первоначальную цель, превращается всего лишь в способ получения средств к существованию. Но и само существование также утрачивает смысл, так как деятельное и творческое начало человека погибает в бессмысленном автоматическом труде. Характер и содержание труда становятся для работника совершенно чуждыми и безразличными, и тем самым для него становится чуждым часть его собственного существа, которая была вложена в производство продукта.
Буржуазное общество, столкнувшись с практическим воплощением проблемы отчуждения, начало искать пути решения этой проблемы. По вполне понятной причине, решение данного вопроса, предлагаемое практическим материализмом, для буржуазных идеологов было неприемлемо.
Одна из буржуазных концепций рассматривала научно-технический прогресс как средство решения всех общественных противоречий, в том числе и проблемы отчуждения. Данная концепция — концепция «технологического оптимизма» (Э. Тоффлер[80])– основывается на вере в то, что благодаря развитию технологии общество может произвести столько благ, что хватит и для богатых, и для бедных. И хотя научно-техническая революция многократно увеличила производительность труда и тем самым ускорила «классические» капиталистические кризисы, завершившиеся Первой Мировой войной, Великой депрессией, Второй Мировой войной, но с другой стороны этот процесс породил многочисленный «третий класс» — работников умственного труда, с которым на первых порах капиталисты охотно делились частью изымаемой прибавочной стоимости и обеспечивали сравнительно высокий, по сравнению с обычными рабочими, достаток. Технологический оптимизм порождает идеи, согласно которым, технические и иные (рекламные, маркетинговые) новинки являются природой богатства, а вовсе не прибавочная стоимость, создаваемая трудом. Соответственно в таком замечательном мире не остаётся места для эксплуатации, а пролетариат становится ненужным, он «исчезает». Его место занимает сытый и довольный «средний класс», а всю физическую работу выполняют роботы.
Данная концепция, хотя ещё и не окончательно изжита, но, тем не менее, показала свою несостоятельность. Противоречия капитализма не исчезли, эксплуатация усилилась и приобрела более изощрённые формы, а сопутствующий развитию капиталистических отношений процесс разделения труда затронул ранее процветающий «средний класс» низводя его до уровня «офисного планктона» — т. е. работников умственного труда, производящих однотипные примитивные операции.
Разочарованные в концепции «технологического оптимизма», а также обеспокоенные воздействием технического прогресса на окружающую среду буржуазные мыслители обратились к прямо противоположной концепции «технологического пессимизма» (М. Голдман, Дж. Форестер, Д. Медоуз[81]). Её суть заключается в предложении законсервировать производство на современном уровне (концепции «глобального равновесия» группы Д. Медоуза) или вообще в отказе от современной технологии (концепция «естественного равновесия» Б. Коммонера[82]). По своей сути эта концепция представляет собой бесплодную попытку субъективно воспрепятствовать объективно развивающемуся процессу. Развитие производительных сил происходит на протяжении всей истории человечества, но на этапе капиталистического развития общества этот процесс имеет особое и решающее значение, предоставляющее представителям господствующего класса конкурентное преимущество. Капиталист не может отказаться от применения более совершенных средств производства, так как это означает для него поражение в конкурентной борьбе и разорение.
И «технологический оптимизм», и «технологический пессимизм» объединяет то, что они видят в технике самостоятельную, неподвластную воле людей силу, которая без вмешательства человека действует самостоятельно к благу или бедам всего человечества. Обе концепции совершенно игнорируют роль производственных отношений.
Наконец необходимо отметить третью концепцию — попытку решить проблему «отчуждения» путём «морального самоусовершенствования» индивида. Данная концепция сосредоточивает внимание на морально-психологическом состоянии индивида и в качестве средства рассматривает путь воспитания и самовоспитания личности в имеющихся социально-экономических условиях. По сути, такой подход ведёт лишь к моральному приспособлению действительного «отчуждённого» индивида к миру, который не перестаёт быть от этого «миром отчуждения». Тем самым объективные условия проблемы не устраняются, проблема не решается, а происходит лишь временное приглушение имеющихся противоречий и дальнейшее нагнетание этого «отчуждения».
Даже беглый обзор буржуазных концепций решения проблемы «отчуждения» показывает, что все они страдают от абстрактной односторонности. За основу берётся одно из внешних проявлений отчуждения без достаточного понимания развития данной категории, причин её порождающих и последствий. Игнорируется тот факт, что за любым развитием производительных сил стоят общественные отношения между людьми, что истинным субъектом исторического развития является не «технический прогресс», не «научно-техническая революция», не какая-либо иная внешняя, неподвластная воле людей сила, а сам человек.
Полное «снятие» всех видов и форм «отчуждения» возможно лишь на пути коммунистического преобразования взаимных отношений между людьми, т. е. на пути построения общества без классов, без государства, без принудительно-правовой регламентации деятельности, без денег и без денежной формы оценки и вознаграждения человеческой деятельности. В первую очередь должны быть преодолены и сняты материальные условия и предпосылки существования отчуждения. Но при этом необходимо учитывать, что формально-юридическое «обобществление» собственности, ее превращение в государственную, в общенародную собственность, представляет собой необходимо первый, но лишь первый шаг на пути к действительному обобществлению материального и духовного богатства, накопленного в форме «отчуждения». Остановившись на этом этапе, мы совершим такую же ошибку одностороннего формально-абстрактного подхода к решению проблемы.
Вторым шагом на пути полного снятия «отчуждения» является последовательное устранение (снятие) предпосылок и условий «отчуждения» в области производственных отношений — создания таких условий непосредственного труда и образования, внутри которых каждый индивидуум — а не только некоторые — достигал бы подлинно современных высот духовно-теоретической, технической и нравственной культуры.
Наконец, третьим шагом является преобразование самого человека — преодоление отчуждения от общества, «вплавление» человеческой индивидуальности во всеобщее человеческое единство, но не с исчезновением самоосознания индивида, а на более высоком уровне — с осознанием человеком своего полного единства со всем человечеством, с осознанием того факта, что силы, способности, творческое начало — не ограничиваются силами, способностями и творческим началом индивида, а умножаются этими же качествами всего человечества, протяжённого в пространстве и времени, и что любое творческое начинание индивида встретит не сопротивление чуждого мира, а всеобщую помощь и поддержку.
Таким образом, первоочередной задачей на пути решения проблемы отчуждения является революционный слом капиталистических отношений. Концепции «снятия отчуждения», противостоящие марксизму (направления «технологического оптимизма», «экологического пессимизма», направление религиозно-нравственного совершенствования общества и повышения духовности человека), имеющие своей действительной целью сохранение капиталистических отношений, не в состоянии понять и принять истинные предпосылки и условия возникновения отчуждения, и как следствие — сохраняют проблему, не в силах решить её.
3.7. Бейлин М. В., Желтобородов А. Н. Мифологемы экономической глобализации
В современном мире распространение идей глобализации среди широких масс происходит не в результате прочтения и осмысления работ ученых, а через СМИ. Журналисты дают слишком короткую и однозначно интерпретированную, а в ряде случаев тенденциозно преподносимую информацию, зачастую не позволяющую читателю сформировать свой собственный взгляд на освещаемую проблему. Для достижения такой однозначности нередки случаи фальсификации и манипуляции фактами, намеренного смешения истинной и ложной информации. При этом информация подаётся в эмоционально окрашенной форме, что влияет на подсознание. Публицистический стиль позволяет использовать эпитеты и метафоры, проводить аналогии, а для мифологического мировосприятия характерно мышление по аналогии. Все эти литературные приёмы уже эмоционально окрашены и символичны, поэтому подаваемая информация подсознательно воспринимается как «картинка», наделённая различными коннотациями. В результате в социуме вырабатывается система социальных «условных рефлексов», которые путём воспитания и через подражание родителям и «взрослым» передаются следующему поколению, для которого они становятся ещё более естественными, поскольку в подростковом возрасте у детей критическое мышление ещё не развито. В то же время привычка к определённому стилю мышления, выработанная в ранние годы жизни, с высокой вероятностью будет устойчивой и вряд ли будет пересмотрена. Набор подобных привычек упрощает и способствует внедрению дополнительных мифологем.
В эпоху глобализации было сформировано значительное количество экономических мифов. Однако, учитывая особенность социальной мифологии, которая функционирует во всех сферах человеческой жизни, эти мифы в той или иной степени проявляют себя в политической, духовной и социальной сферах. В частности, идея «нового мирового порядка» — это одна из исходных мифообразующих идей современного мира. Подходы, порождённые этой идеей, проходя через человеческое сознание, как правило, обрастают различными мифологемами, не нуждающимися в рациональном обосновании. Экономическая составляющая глобализации порождает мифологемы, убеждающие в объективной обусловленности и безальтернативности глобализационных экономических процессов.
Практически неотделимы от мифологем экономической глобализации политическая глобализация и сопровождающие её мифы. Среди подобных мифологем можно назвать «Вашингтонский консенсус» — один из западных глобализационных проектов, направленных на сдерживание развития незападных государств. Его реализация означала не просто выход «отсталых» стран на мировой рынок, но и фактически отказ от экономического суверенитета, поскольку предполагалось возложить управление развитием национальных экономик на «невидимую руку рынка». Одной из особенностей этой мифологемы является то, что следование «Вашингтонскому консенсусу» позиционируется как безусловное благо, как и попытки убеждать политических лидеров и общественность незападных стран в том, что выполнение условий этого консенсуса якобы несомненно принесет пользу и процветание любой стране. Однако в СССР времен перестройки, который принял большое количество установок «Вашингтонского консенсуса», это привело к усилению сепаратистских движений, которые ускорили распад государства. Здесь мы можем увидеть ещё одну мифологему, которая сопровождает политическую составляющую глобализации — о всесилии и безусловной пользе демократических либеральных институтов. Пример СССР конца 1980-х свидетельствует о разрушительных свойства подобного рода мифологем, сопровождающих глобализацию западного типа, реализуемую в ином геополитическом и институциональном пространстве.
В мировой экономике существует иерархичность, которая значительно влияет на состояние мирового экономического порядка. В рамках этой иерархии одни страны имеют большие возможности мощность и влияние, чем другие государства, включенные в эту иерархию. Идея экономической глобализации тесно связана с вопросами политики. В контексте идей о мировом порядке в восьмидесятых годах прошлого века XX в. возникла теория мировой системы, наиболее известным подходом к которой является подход И. Валлерстайна — американского социолога и одного из основателей мир-системного анализа. По его мнению, «капиталистическая мир-система представляет собой совокупность мир-хозяйства, определяемого отношениями центра и периферии, и политической структуры, состоящей из входящих в международную систему суверенных государств»[83]. Центр — это развитые индустриальные государства, а периферия — это поставщик дешёвого сырья. Также существует полупериферия, обладающая социальными и экономическими характеристиками как центра, так и периферии. Согласно этой теории, центром мировой системы являются постиндустриальные страны — США, Канада, страны Европы и Япония. К полупериферии относятся индустриальные страны, такие как Россия и страны СНГ, Китай. Технически отсталые государства со слабой экономикой, такие как страны Латинской и Центральной Америки, Азии и Африки, образуют периферию[84].
Мировая система, по мнению И. Валлерстайна, возникла ещё в XVI в., а в XIX веке она включила в себя весь мир. Мировая система стремится к бесконечному накоплению капитала и имеет цикличный характер развития. В каждом цикле проявляются те или иные противоречия, такие как, например, борьба за гегемонию. Эту борьбу, которая длится примерно 25–50 лет, можно разделить на несколько стадий: война за гегемонию; гегемония победившего в войне государства; ослабление гегемона, сопровождающееся возникновением новых претендентов на гегемонию и подготовкой к войне, в которой участвуют сильнейшие страны. Таких гегемонов, по мнению И. Валлерстайна, было три: «Соединённые провинции в середине XVII века, Соединённое Королевство — в середине XIX, и Соединенные Штаты — в середине XX века»[85]. Любая мировая система не вечна, и поэтому со временем она неизбежно будет заменена другой системой или несколькими системами[86]. Подобные изменения связаны, в первую очередь, с заменой исторической системы одного типа исторической системой другого типа.
В отличие от И. Валлерстайна и других ученых, которые считали, что мировые гегемонии сменяют друг друга в рамках конечных мировых систем (циклический подход), ряд ученых склонны рассматривать мировую историю как уже завершенную. К таким исследователей следует отнести, например, Ф. Фукуяму, который в 1989 г. в статье «Конец истории?» назвал события конца XX века очевидной и неоспоримой победой экономического и политического либерализма, у которого не осталось никаких жизнеспособных альтернатив. Более того, западная либеральная демократия, по Фукуяме,— это вершина идеологической эволюции человечества, а поиск альтернатив уже не актуален и представляется ему делом принципиально бессмысленным. Одним из примеров торжества либеральной идеологии, как считает Ф. Фукуяма, является всемирное распространение западной потребительской культуры — по сути, это один из аспектов глобализации в его же понимании[87]. Впоследствии Ф. Фукуяма признал поспешность собственного вывода о «конце истории», но даже почти четверть века спустя в посвящённом экономическим проблемам Латинской Америки сборнике «Отставание» (2012) продолжал настаивать на нецелесообразности любых форм политического, экономического и даже культурного управления в странах, если оно осуществляется иначе, чем в США, чья система управления уже, по мнению, Ф. Фукуямы, доказала свою успешность. При этом такие показатели как географические особенности, наличие тех или иных ресурсов, уровень материального развития, колониальный или имперский генезис, культурные особенности — всё это трактуется как второстепенные факторы, не объясняющие наличие отставания[88]. В данной работе Ф. Фукуяма ставит вопрос не о преодолении отставания, а о его сокращении, поскольку мировой порядок, по его мнению, уже определён. Поэтому и в работе «Конец истории?», и в последующих работах Ф. Фукуямы в первую очередь следует видеть вовсе не имеющие принципиального характера плохо сочетающуюся с академической традицией поспешность с вынесением заключений или торжество гражданина страны, которая на момент написания статьи выглядела как триумфатор в продолжительном конфликте Запада с Красным проектом, а сознательное конструирование и последовательное насаждение мифологем, призванных убедить весь мир в безальтернативности западного проекта мироустройства, западной либеральной идеологии и западных же моделей управления. В сущности, Фукуяма занимается тем же, что и голливудская киноиндустрия, только его целевой аудиторией является научное сообщество.
Важно отметить, что независимо от того, какой подход — циклический (как у И. Валлерстайна) или линейный (как у Ф. Фукуямы) используется, мировая гегемония и её конкретные исторические примеры неизменно остаются атрибутами западных цивилизаций. Подобного рода политические теории, основанные на экономических показателях и (прямо или косвенно) ставящие в пример всему миру западные экономические модели, открывают путь политической идеологии, которая для достижения своих целей активно использует социальную мифологию. Так, взятая за основу идея о конце истории позволяет создавать общемировую идеологию и предлагает считать нецелесообразными поиски новых путей в истории. Более того, идеи и движения в мировой истории, которые не вели к становлению либерализма, трактуются как несостоятельные, их успехи нивелируются, а неудачи интерпретируются как объективно обусловленные и закономерно происшедшие.
Миф об окончательной победе либерализма был подвергнут основательной критике в статье известного сингапурского исследователя К. Мабубани «Конец чьей истории?»[89], опубликованной в 2009 году газетой «The New York Times». Автор статьи указывает на принципиальную ошибочность идей в эссе Ф. Фукуямы об окончательном триумфе Запада и отсутствии жизнеспособных альтернатив западному либерализму. Напротив, события последних десятилетий в некоторых государствах Азии показали, что можно добиться успеха, используя западный опыт, но не принимая западный политический либерализм. В XXI веке, по мнению К. Мабубани, мир будет наблюдать возрождение Азии и «отступление Запада». Однако, несмотря на развитие стран в Азии, мифологема «конца истории» продолжает существовать.
Существует множество примеров современных мифологем, которые возникли благодаря подобным современным общественно-политическим и экономическим теориям. Эти мифологемы особенно заметны в тех государствах, народам которых свойственны низкая общеобразовательная культура и геополитическое самосознание. Наряду с идеей «мирового порядка» возникла идея «мирового беспорядка». Дж. Сорос в книге «Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности» указывает на то, что «отличительная особенность нынешнего положения дел заключается в том, что его нельзя назвать порядком. Мировая политическая система, которая отвечала бы мировой капиталистической системе, отсутствует; более того, нет также единодушия в вопросе о том, возможна ли мировая политическая система и насколько она желанна. Это сравнительно новое положение дел. До краха советской империи можно было говорить о каком-то порядке в международных делах. Этот порядок именовался холодной войной и отличался превосходной стабильностью: две сверхдержавы, представляющие различные формы организации общества, были вовлечены в непримиримый конфликт»[90].
Среди множества экономических мифов отдельного внимания заслуживает миф об идеальном экономический строе. Центральной идеей этого мифа является тезис о том, что существует возможность разработки и последующего воплощения идеальной модели организации экономической жизни. В рамках мифа об идеальном экономическом строе существуют две диаметрально противоположные экономические модели, которые представляют собой дихотомию проявления одного и того же мифа об идеальном экономическом строе. Эти мифы можно назвать следующим образом: 1) миф о «стихийном порядке»; 2) миф «распределительной справедливости».
Концепция стихийного порядка возникла во второй половине XVIII века благодаря трудам физиократов. Их идеи оказали большое влияние на А. Смита с его идеей «невидимой руки рынка». В основе этой концепции лежит мысль о том, что экономика может развиваться при минимальном участии государства, с помощью таких общественных институтов как частная собственность, свобода предпринимательства, конкуренция, частный интерес. Однако на практике такой «стихийный порядок» не может существовать долго. Конкуренция приводит к доминированию монополий; воображаемое равенство возможностей свободного предпринимательства приводит к резкой социальной стратификации и имущественному расслоению, а также нарастанию социальной конфликтности. В результате экономисты и политики были вынуждены отказаться от идеи свободного, «стихийного» рынка в пользу регулируемого рыночного механизма с элементами социальной защиты, действенным фабричным и антимонопольным законодательством.
Мифу о «стихийном порядке» оппонирует миф о «распределительной справедливости». Основные идеи этого мифа были прописаны ещё в «Государстве» Платона. В дальнейшем подобные идеи встречаются у Т. Мора в «Утопии», в трудах французских эгалитаристов (Г. Мабли, Э.-Г. Морелли, Г. Бабёф), представителей утопического социализма (А. Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье), а также у К. Маркса и постмарксистов. Принципы мифа «распределительной справедливости» диаметрально противоположны теории стихийного порядка: вместо частной собственности и частного интереса — общественная собственность и коллективный интерес, вместо свободной конкуренции управление экономическим развитием осуществляет государство. На практике модель «распределительной справедливости» является мифом и вырождается в узурпацию экономической власти государственным бюрократическим аппаратом, ослабление экономической мотивации и нарастание деструктивных явлений в экономическом механизме, приводящее к замедлению темпов экономического развития. В результате осмысления проблем, проявившихся в ряде плановых экономик государств восточного блока, ряд экономистов пришёл к выводу о недееспособности планово-централизованной экономики в её ортодоксальном (с элиминированной частной собственностью) виде и необходимости рыночных механизмов и частной инициативы для эффективного развития. Ф. Хайек считал, что функционирование экономики на конкурентно-рыночных основах куда более продуктивно. По его мнению, ключевые задачи социализма недостижимы, более того, «соблюдение социалистической морали привело бы к уничтожению большей части современного человечества и обнищанию основной массы того, что осталось»[91]. Ф. Хайек подчеркивал, что социализм, как одно из наиболее влиятельных политических движений, при всех его благородных намерениях, основывается на неверных принципах и ставит под угрозу «уровень жизни, да и саму жизнь значительной части современного человечества»[92].
Поскольку масштабный эксперимент с построением плановой экономической модели завершился распадом СССР и восточного блока, эти события активно используются как аргумент в пользу тезиса о несостоятельности самих социалистических идей и пропаганды либеральной рыночной экономической модели, которую её сторонники пытаются навязать всему миру как вершину экономической мысли. Однако эта модель в настоящее время уже существенно отличается от модели, описанной во второй половине XVIII века А. Смитом, поскольку включает в себя проводимое государством стратегическое планирование и механизмы государственного регулирования экономическими процессами. Предметом дискуссии является не целесообразность государственного участия в функционировании экономического механизма, а объём присутствия государства в экономических процессах и выбор инструментов и методов государственного регулирования экономики.
В условиях глобализации набирает популярность миф «о возможности экспорта институтов». Поскольку рыночная идея победила, её пытаются навязать всему миру и в первую очередь — развивающимся странам, где доминирует традиционный сектор экономики. Данный миф навязывается в интересах развитых капиталистических стран, которым выгодно включение стран «третьего мира» в систему глобальных экономических связей на правах периферии. Это делается для удобства использования материальных и человеческих ресурсов по принципу неэквивалентного обмена.
Ещё одним всемирно известным мифом является «Tabula rasa» — миф, идея которого возникла ещё у Платона, но была разработана Ж.-Ж. Руссо. Этот миф отражается в трудах философов и педагогов, однако нашел своё применение и в экономике. Основная идея мифа «чистой доски» с точки зрения экономики — это возможность воспитания и перевоспитания общества в целом и личности, в частности, при изменении объективных условий существования. Таким является тезис о том, воспитание человека в условиях коллективизма способно нивелировать его частнособственнические наклонности. При этом сторонники данной идеи нередко забывают, что человек — это биосоциальное существо. Его основная биологическая функция — это инстинкт самосохранения, и именно он обуславливает частнособственнические наклонности как стремление гарантировать себе и своему потомству обеспеченность необходимыми ресурсами, а также оградить свою частную сферу, свою частную жизнь от посягательств со стороны других участников социума, которые воспринимаются как конкуренты в борьбе за эти ресурсы. Первым это понял Аристотель, который обосновывал необходимость частной собственности инстинктом самосохранения человека.
Точку в споре о частной собственности поставил австрийский экономист К. Менгер. В работе «Основы политической экономии» он утверждает, что в основе существования института собственности лежит то, что совокупный объём доступных благ меньше совокупного объёма человеческих потребностей. К. Менгер настаивает на том, что собственность не является искусственным изобретением, но «единственным практически возможным решением проблемы, которая навязана нам природой вещей, то есть указанной несоизмеримостью между потребностью и доступным распоряжению количеством благ»[93]. Устранение института собственности невозможно без обеспечения равновесия между доступными благами и человеческими потребностями. Однако подавляющее большинство мирового населения об этом не знает, а потому миф о возможности устранения частной собственности продолжает жить. Следует отметить, что миф о частной собственности и возможность «перевоспитания» человечества — это взаимосвязанные составляющие общей мифологии так называемой «линии Платона».
На волне стремительных глобализационных трансформаций во всех сферах общественной жизни широкое распространение получили идеи космополитического характера, подвергшие сомнению привычную систему мироустройства. Вестфальская система мироустройства традиционно считается основой современного мирового порядка. Вестфальский мир (1648) подвёл итоги Тридцатилетней войны и зафиксировал суверенитет ряда национальных государств Западной Европы. Идейным основанием для становления национальных государств стали идеи нескольких философов. Ж. Боден в работе «Книга шести государств» сформулировал понятие «суверенитет», Н. Макиавелли («Государь») разработал категорию «государственный интерес», Г. Гроций («О праве войны и мира») создал основы корпуса международного права. Большую лепту в идейное обоснование идеи национального государства внесли Т. Гоббс и Б. Спиноза[94]. К ключевым принципам Вестфальской системы можно отнести следующие: принцип действия международного права, применение дипломатии в международных отношениях; утверждение в международном праве принципа государственного суверенитета, ключевым моментом которого было право требовать невмешательства в дела своего государства; право государств отстаивать свои национальные интересы, в первую очередь с помощью войн, которые являются законным правом суверенного государства.
На смену Вестфальский системе пришла Венская система (1814), или система Европейского концерта, направленная на поддержание баланса сил между ведущими странами Европы. Вслед пришла Версальско-Вашингтонская система мироустройства 1921–1922 гг., закрепившая лидерство США, Франции и Великобритании в новой системе. Каждая из этих систем имела евроцентристский характер и постепенно приобретала глобальные черты. Последняя модификация Вестфальской системы международных отношений — Ялтинско-Потсдамский мировой порядок. Её особенностью стало формирование нового биполярного мироустройства вместо многополярного, с противоборствующими сверхдержавами в лице СССР и США, где для прочих государств не было другого выбора, кроме как принять сторону или СССР, или США, тем самым ограничив свою власть и суверенитет. Биполярный мир просуществовал до 1991 года, и после распада СССР ни одно государство не может конкурировать с США на равных, обладая сопоставимой с последними совокупностью военных, экономических, технологических возможностей и политического влияния.
Каждая из названных систем мироустройства, имея свои особенности, была, по сути, в основе своей всё той же вариацией Вестфальской системы, поскольку несла в себе всё те же ключевые принципы. Центральным действующим лицом в системе международных отношений неизменно оставалось национальное государство. Системы международных отношений неоднократно претерпевали изменения и трансформировались, однако принцип невмешательства в дела других государств-наций всегда оставался центральным принципом, важнейшим пунктом национально-государственного мифа об идеальном государстве. Поэтому массовые нарушения прав человека и даже геноцид целых этнических групп (например, тотальное уничтожение евреев в нацистской Германии) обычно считались внутренними делами национальных государств: они вписывались в эти представления и легко оправдывались национально-государственной мифологией. Однако эпоха глобализации поставила под сомнение саму идею национального государства и всю сопутствующую ей мифологию, стремясь подменить её мифологией совершенно нового типа.
Национальные государства традиционно считаются центральным элементом любой системы мироустройства, которая находится в состоянии трансформации. Учитывая специфику современной глобализации, которая посягает на любую национальную специфику, отказывается от нации как таковой, не признаёт отдельные её проявления в тех или иных сферах общественной жизни, научный мир стремится понять, способно ли национальное государство выжить в условиях глобализации, и если да, то какой ценой; следует ли сохранять национальные государства и культуры или же считать их пережитками прошлого. В центре любой системы общественного устройства находится государство, которое поддерживает его властным ресурсом, определяет его структуру и организацию, обеспечивает его целостность и безопасность. Государство выступает от имени всех социальных групп и, с некоторых пор, позиционирует себя как национальное государство, даже если объединяет много разных народов. Ни одно национальное государство не обходится без мифа, без своей системы мифотворчества. По сути, глобализацию можно считать вызовом для национальных государств. Однако верно и обратное: национальные государства и принципы являются вызовом для глобализации и всевозможные этнические возрождения и гражданские войны является тому лучшим подтверждением. Подобно теневой экономике, социальная мифология занимает как бы «теневой сектор» социальной жизни общества, оставаясь малозамеченной, однако не являясь при этом менее значимой её частью. В условиях значительного превосходства над другими странами как в экономических показателях, так и военной мощи сначала СССР и США, а после 1991 года — только США, национальные государства были вынуждены частично ограничить свой суверенитет. По мнению известного польского и английского философа и социолога С. Баумана, руководство многих стран уже давно испытывало беспокойство по поводу способности управлять дальнейшим развитием ситуации. Но «до краха коммунистического блока случайная, хаотичная и капризная сущность международной обстановки просто заслонялась обыденным, что поглощало всю энергию и мысли воспроизведением баланса сил между мировыми державами. Разделяя мир, силовая политика создавала образ целостности. Наш общий мир скреплялся тем, что каждый уголок Земли имел своё значение в «глобальном порядке» — то есть в конфликте «двух лагерей» и тщательно сохраняемом, хотя и неизменно хрупком равновесии между ними»[95].
В зависимости от положения того или иного государства в системе международных отношений степень ограничения суверенитета варьируется. Большинство стран на сегодняшний день не суверенны в экономических аспектах, ещё большее количество — в вопросах безопасности. Вполне закономерно, что эта несамостоятельность приводит к тому, что местные власти всё реже могут с помощью привычных механизмов эффективно решать задачи управления. Как отметил известный американский политолог Дж. Фридман, «традиционные структуры социального и политического контроля, используемые властью для решения проблем развития, создания рабочих мест и распределения создаваемого богатства, разрушаются под воздействием интернационализации экономики и потоков обмена информацией между мощными акторами, чья деятельность находится вне сферы регулирования государства»[96]. Ещё одной важной причиной, дающей повод сомневаться в наличии будущего для национальных государств, выступает их культурная несамостоятельность, которая является следствием информационного господства развитых стран коллективного Запада на планете.
Единая мировая система, как идея и воплощение общепланетарного единства человечества в современных условиях глобализации, сделала ещё более острым вопрос об анализе возможности сохранения национальных государств или обосновании необходимости отбросить саму идею национального государства, как пережитка прошлого. Подобные идеи об устранении национальных государств появляются по ряду причин, но главной выступает несамостоятельность национальных государств в тех или иных вопросах. Ряд ученых считает, что государства-нации в условиях глобализации становятся неэффективными и поэтому ненужными. «Постмодернисты», как ярые поборники идеи торжества мирового либерализма и тотальной глобализации экономической, политической и культурной жизни обществ, предпочитают искать решение проблем скорее в использовании механизмов рынка, чем полагаться на сложившиеся национальные институты. Предполагается, что «невидимая рука рынка» будет работать значительно эффективнее любого национального государства. Для сторонников этого подхода любая государственная управленческая деятельность является ретроградством. По сути, эта мифологема сливается с требованиями «Вашингтонского консенсуса», подход творцов которого к глобализации трансформировался в утопическую картину единой человеческой цивилизации, «демократии без границ, войн и кризисов».
События последних лет, однако, поставили под сомнение работоспособность нового глобального мироустройства и его мифосистемы. Сама по себе эта система противоречива, поскольку культивирует идею тотального мирового государства по всему миру, однако не в США, которые пока ещё играют роль страны-гегемона. Там, наоборот, крайне сильны тенденции к усилению национальных патриотических настроений, в том числе и среди молодежи. Кроме того, в последние годы в результате неспособности государства эффективно решать стоящие перед обществом проблемы там существенно выросла популярность левых и даже социалистических идей, что разрушает романтический флёр вокруг базовых принципов, на которых основана экономическая и социально-политическая система США, и делает данное государство всё менее подходящим для роли лидера и основной платформы для реализации глобалистской концепции. Ведущие страны «ядра», такие как, например, как Великобритания, сопротивляются «растворению» в глобализации, стремясь сохранить свою самость или даже вернуть себе часть утраченного суверенитета, и это связано как с субъективным стремлением восстановить свою суверенность, так и с неспособностью транснациональных организаций и союзов решать серьезные проблемы, которые в теории предполагалось эффективно решать на наднациональном уровне. Например, Европейский Союз не в состоянии решить проблему беженцев в Европе с помощью институциализированного инструментария в виде законов и усилий пограничных и полицейских служб. Оказалось, что принципы мультикультурализма и толерантности работают только в «тепличных» условиях, при условии, когда мигранты желают натурализоваться и готовы принять культуру, правила общежития и законы страны пребывания. Многие проблемы могут более эффективно решаться на уровне отдельных национальных государств. Это доказывает, например, Венгрия, которая по многим проблемным вопросам, вызванным иммиграцией, занимает достаточно субъектную позицию, но постоянно осуждается за это брюссельской наднациональной бюрократией, часто балансируя буквально на грани санкций со стороны Евросоюза.
США, как сдающий позиции мировой гегемон также оказались не в состоянии урегулировать возникающие конфликты и проблемы, такие как мировой терроризм. Новая ситуация, в которой сложившиеся в последние десятилетия миросистема и мифосистема вошли в диссонанс с реальными условиями, свидетельствует о том, что глобализация в её нынешней форме зашла в тупик. Выходом из него видится возвращение к отвергнутым вариантам мироустройства, основанным и на национальных государствах, и на национально-государственной мифологии.
3.8. Гончаров Г. Н., Салтан Н. Н. Человек массы как носитель социальной мифологии эпохи
Социальная мифология является одним из важнейших духовных феноменов современного мира, нивелирующая исторические ценности мировых цивилизаций, дезориентирует массового человека «потребителя», подводит под удар глубинные механизмы общественного развития, делает мир более хаотичным и, тем самым, возникающая социальная мифология нового типа, уже не может и дальше выполнять традиционную, для любого мировоззрения роль, состоящую в том, чтобы формировать или определять общую картину мира и ориентировать на выполнение общественно-полезной деятельности и положительные изменения. Основным условием существования новой социальной мифологии выступают духовные основы, но её главными предпосылками являются внешние политические и экономические обстоятельства нашего времени, именно они формируют деструктивную мотивацию, ставят конкретные цели и способны собрать из разрозненных и весьма примитивных бездуховных форм некое подобие социального мифа, который не является исторически и культурно обусловленным, в отличие от архаического и современного социальных мифов.
В условиях социально-политических трансформаций одно из центральных мест в обществе занимает хаотичная сила — человеческая масса. Как подчеркивает Г. Лебон, «организованная толпа всегда играла большую роль в жизни народов, но роль эта еще никогда не имела такого важного значения, как в данную минуту. Главной отличительной чертой нашей эпохи служит именно замена сознательной деятельности индивидов бессознательной деятельностью толпы»[97]. Массы Г. Лебон считает новой мощной силой мира, «массы диктуют правительству его поведение, и именно к их желаниям оно и старается прислушиваться»[98]. В современном мире доминирование массового и индивидуального сознания осуществляется циклически, а в условиях глобализации происходит усиление влияния массовой культуры на сознание и поведение человека.
В межвоенные годы XX века появилась одна из самых известных теорий массового общества испанского философа Х. Ортеги-и-Гассета («Восстание масс»). Как и Лебон, отличительной чертой современной европейской жизни (Х. Ортега-и-Гассет подразумевает современное ему время) является «полный восторг массами общественной властью»[99], причиной которого стало двухвековое «материальное обогащение человечества»[100] и значительное повышение уровня жизни. «Мы живем в эпоху уравнивания уравниваются богатства, уравнивается культура, уравнивается слабый и сильный пол»[101], отмечал Ортега-и-Гассет.
Согласно концепции Лебона, массы склонны скорее к действию, чем к размышлению. Основным действием масс всегда была разрушение устаревших цивилизаций: «История показывает нам, что как только моральные силы, на которых держалась цивилизация, теряют власть, дело окончательного разрушения завершается бессознательной и грубой толпой, справедливо названной варварами. Цивилизации создавались и предохранялись маленькой горстью интеллектуальной аристократии, но никогда не толпой. Сила толпы направлена лишь к разрушению. Господство толпы всегда указывает на фазу варварства»[102]. По меткому выражению Лебона: «если здание какой-то цивилизации подточено, то всегда толпа вызывает его падение. Тогда-то оказывается его главная роль, и на время философия численности является, пожалуй, единственной философией истории»[103]. Следует различать массу (толпу) и организованную публику, которая почти всегда понимает собственные интересы. Тогда как массы нужно поражать и восхищать, ведь масса действует преимущественно инстинктивно, а не рационально. Поэтому любые положительные нововведения для впечатление массы нужно делать сразу, тогда как отрицательные постепенно и незаметно.
В толпе личность почти исчезает, уступая место стадным инстинктам. Рациональное отходит на задний план, а сознание уступает бессознательному. Индивидуальные качества в толпе, как единственном организме, исчезают, как ненужные, остаются только усредненные. Этим Лебон объяснял невозможность толпы выполнять каких-либо действия, предусматривающие наличие интеллектуальных способностей, ведь «в толпе может происходить накопление только глупости, а не ума»[104]. Вместе с тем, толпа приобретает новые черты, не характерные для отдельных индивидов, но присущие толпе. Численное превосходство невероятно усиливает чувство силы и могущества, тогда как анонимность дарит ощущение безнаказанности. Нравственность в толпе исчезает вместе с чувством ответственности. Для толпы характерна стадность, то есть непреодолимое желание делать «как все», настроение в толпе может даже заглушить инстинкт самосохранения. Толпа мыслит мифологически, «картинками», она иррациональна. Поэтому она легко поддается внушению, ведь «мышление» проходит мимо разума, но через эмоции. Лебон считал восприимчивость к внушению главной чертой, которая влечет возникновение у толпы качеств, не присущих отдельным индивидам. По мнению Г. Лебона, идеи, внушаемые толпе, могут быть насажены только в том случае, когда они имеют «категорическую и простую форму», и «представляются в виде образов», причем такие идеи «не сочетаются между собой никакими логическими связями аналогии или последовательности и могут заменять друг друга», а потому «в толпе содержатся рядом идеи самого противоречивого характера». Такая характеристика идей, внушаемых человеку массы, указывает на их мифологичность. При этом, мифы, навязываемые массам, вызывающие выход людей на улицы и образование действующей толпы, как сборища людей, отличаются от мифологем, используемых манипулятором для манипуляции толпой. Мифы для массы, в зависимости от их сложности, могут внедряться даже годами и передаваться через поколение. Мифы для массового сознания сами и производят это массовое сознание, воспитывают массового человека, который потом будет склонный восприятию мифов.
Мифология является актуальной частью общественной жизни, функциональной составляющей идеологического сознания и политической практики. Как некое коллективное представление социальная мифология, способна создавать поведенческую мотивацию, сплачивать и побуждать человеческие массы к действиям. Исследование динамической формулы социальной мифологии предусматривает изучение условий возникновения и воспроизведения мифологических форм, то есть установление внешних и внутренних обстоятельств их существования, возникновения и развития. Духовные основы составляют исходящие, внутренние условия причинно-следственных связей, обусловливающих склонность и внутреннее принятие мифологических процессов и форм, реализация которых во многом зависит от внешних условий. Согласно Г. В. Ф. Гегелю, каждая причина так или иначе обусловлена, любое условие может выступить как причина[105]. Следует разобраться с тем, при каких условиях развертывания социальной мифологии практически невозможно или крайне затруднено, при каких условиях социальные мифологемы получают режим наибольшего благоприятствования. Поиск решения предусматривает изучение духовно-психологических состояний и социальных форм, привязанных к существующим или тем, которые утверждаются, историческим культурам и системам мировоззрения.
Социальный миф это определенная идея, которая принимается на веру, обобщенное представление о действительности, которое объединяет как этические, так и эстетические установки, соединяя реальность с вымыслом. Социальные мифы служат основой для манипуляции людьми, не способными или не желающими критически и рационально мыслить. Такие социальные мифы по своей этической и художественной привлекательности имеют большое влияние на массовое сознание. Кроме социальных мифов, рядом с ними, широко используются различные стереотипы, которые являются упрощенными, схематизированными, часто искаженными отражениями реальной действительности, когда фиксируются и запоминаются только некоторые черты. Эти черты порой совсем не существенны, но они имеют относительную устойчивость[106]. Следует отметить, что существуют научно-исследовательские подходы, в которых фактически отождествляются мифы и стереотипы, например, отмечается, что «социально-политический миф это форма политической творческой активности, содержанием которой является конструирование стереотипных представлений о политических реалиях прошлого и настоящего»[107].
В современной социальной мифологии особое место занимает мифология глобализации, как самого масштабного и одного из важнейших явлений развития человечества в последние десятилетия. Социальная мифология — это мифология, актуальная для определенного общества, которая сопровождает и объясняет окружающую действительность, а социальная мифология периода глобализации — это и мифология, которая характерна только для тех обществ, которые являются включенными в тот или иной процесс глобализации. Итак, глобализация порождает мифологию нового типа, которая отличается от мифологии доглобализационного периода. Если основной функцией архаических мифов было узнавание окружающего мира, то в нынешних реалиях наиболее актуальны социальные функции мифа как социокультурного феномена. Так А. Ф. Лосев утверждал, что диалектика мифа невозможна без социологии мифа, и игнорировать, недооценивать значимую роль мифологического сознания в культурном процессе и социальной жизни — недопустимо[108].
Одной из самых распространенных вариаций социального мифа является политический миф, широко распространенный в современном глобализирующемся мире. Политический миф очень тесно связан с идеологией — системой политических, правовых, этических, художественных, философских, религиозных взглядов, характеризующих то или иное общество, класс и политическую партию. Исследование современной мифологии подводит многих ученых к мысли о тождестве в определенном смысле социального мифа и идеологии. Речь идёт о том, что миф необходим идеологии для более успешной мобилизации чувств и инстинктов масс. В общественно-политическом измерении политический миф определяется как устойчивое духовное произведение с искусственно созданным представлением о реальных социально-политических феноменах и действиях, умышленно или неумышленно украшеных различными предположениями, выдумками, фантазией или как мифологическое сознание, что соответствует эмоционально окрашенному представлению о политической действительности, замещающего и вытесняющего реальное представление о нём и его настоящем знании.
Социальные мифы обусловлены объективными и субъективными факторами, внешними и внутренними процессами. К внешним условиям следует отнести политические, экономические, культурные, религиозные, природные процессы и явления, необходимые для возникновения и функционирования социальной мифологии. Идеи, теории, верования, культурные и мировоззренческие императивы и волевые факторы представляют собой важные внутренние условия существования мифологических форм. Причем социальная мифология способна формироваться, исходя из любой глобальной системы истины, а также возникает при их смешивании. «Идеациональная система истины — полная противоположность чувственной системы. Она сосредоточена в основном на сверхчувствительной реальности и ценностях»,— отмечал П. А. Сорокин[109]. Разрозненные, случайные и неустойчивые духовные формы, сначала мифологические, полумифологические или только потенциально мифологические, поднимаются на уровень мощной и влиятельной социальной мифологии, способной влиять на огромные массы людей. Потенциальные возможности сложившихся социальных мифологем во многом определяются социокультурным механизмом их воспроизведения. При значительном многообразии внешних обстоятельств, наиболее общие и необходимые внешние условия существования современной социальной мифологии связанные с текущим столкновением и даже противостоянием ведущих цивилизационных систем (С. Хантингтон), а также с кризисными периодами их становления, связанными с изменениями их собственных приоритетов и ценностей. К существенным условиям следует отнести внешнеполитические обстоятельства, имеющие особую мотивацию, которые ставят конкретные (часто разрушительные) цели и способны собрать из разрозненных и весьма примитивных бездуховных форм некое подобие социального мифа. Среди важнейших внешних факторов, обусловливающих особенности существования социальной мифологии, главным фактором является, собственно, само явление и одновременно процесс глобализации. Особенностью глобальных процессов является то, что, хотя они и преимущественно выглядят условиями внешними, их производные превращаются во внутренние условия. Так, результаты деятельности глобальных процессов превращаются в часть своих причин: «внутренним» выступает то, что прошло через чувства и разум или только из чувства потребителя духовных установок глобального типа, причем до того было внешним по отношению к индивиду. Несмотря на неоднозначность и многоплановость явления глобализации, как условия для зарождения и функционирования социальной мифологии глобальной эпохи, считается целесообразным исследовать возникновение массового человека нового типа, как главного носителя социальной мифологии данной эпохи. Процесс глобализации происходит в условиях разрушения культурных ценностей, традиций и национальной идентичности, что ведет к усилению межкультурных диалогов, происходит взаимопроникновение культурных традиций[110]. В результате культурной диффузии наблюдаем смешение культур. Однако, если, тысячу лет назад, такое смешение происходило медленно, на культурных «границах» и взаимодействие культур было ограничено, то в современных условиях, при нынешней скорости обмена информации, этот процесс невероятно ускоряется. Тот уровень смешения культур, ранее занимавший века, теперь происходит за несколько лет, снижая качество смешивания, делая его поверхностным, однако разрушая при этом глубинные культурные слои в результате больших объемов информации.
Подобного рода тенденции настораживают многих исследователей, ведь невероятно быстрое и бесконтрольное смешение культур в обще планетарном масштабе может привести к тотальному усреднения населения, лишение всего культурного разнообразия и потери разнообразия человечества. В. Г. Табачковский подчеркивал, что диалог культур является важным основанием для креативных способностей человека, но «приватизация» современности Западом и его комплекс сверхполноценности ведёт к проигрышу самого Запада[111]. Политическое и экономическое преимущество предоставляет государствам возможность культурного доминирования, также поставленного на путь служения экономического вопроса, а рынок, как известно, интересует в первую очередь потребитель, усредненный и стандартный.
Логико-категориальный строй анализа социальной мифологии включает, и понятие «мифологема», к которому обращаются как при анализе древней, так и современной мифологии. Мифологемы представляют собой первичные сюжетные схемы, кросскультурные идеи, содержащиеся во многих мифах и могущие насквозь проходить через различные культурные эпохи. Мифологемы — это устойчивые образы, которые переходят из одного мифа в другой, при этом сохраняя свою внутреннюю сущность. Внешне мифологемы видоизменяются, адаптируясь под конкретную историческую ситуацию, но по своей сути они универсальные и глобальные. В современной литературе слово «мифологема» часто используется для обозначения сознательно заимствованных мифологических мотивов и переноса их в мир современной художественной культуры. Изначальные символические образы, ключевые мифологемы, характерные для архаического сознания служат основой для более поздних мифологем. Согласно концепции Лосева в основе той или иной мифологии обязательно заложена «основная идея», о которой можно судить, учитывая «характер исполнения» следующей мифической триады: «1) учение о первозданном бытии или о первозданной сущности 2) теогонический и исторический процесс 3) первозданная сущность, дошедшая до степени самосознания, осознание себя в инобытии»[112]. Философом представлена «диалектическая триада», содержащаяся в недрах мифологии и воспроизводящая построение мифологии, структуру самого мифа, которую коротко можно обозначить как «личность, история и слово», которые присутствуют в конкретных мифологемах.
С процессом культурной глобализации, со скоростью ее протекания, тесно связаны не только уровень экономики, но и уровень развития науки и технологий, а поскольку последний в различных государствах отличается, то участники этого процесса сначала оказываются в неравном положении. Огромное значение имеет коммерциализация культурной сферы и усиление зависимости культуры от крупных финансовых инвестиций. На фоне финансового преимущества стран Запада происходит снижение значения национальных культурных проектов и национальной специфики в принципе, поскольку она рассчитана на относительно небольшую (по мировым меркам) аудиторию и не является конкурентоспособной на мировом медиа рынке. Подобные тенденции ведут к размыванию культурного многообразия в мире и к стандартизации любых культурных проектов. Для культурной глобализации характерны тенденции к доминированию массовой культуры, которую формируют средства массовой коммуникации: телевидение, радио, газетная и журнальная продукция, фильмы, социальные сети и т. д.— со стандартами преимущественно прозападного типа. Поэтому культурная глобализация, распространение массовой культуры и вестернизация — есть, по сути, одним и тем же процессом. То есть, культурная глобализация ведет к вытеснению высокой элитарной культуры культурой массовой. Мысли о значении культурной глобализации в современном научном мире разделены. Некоторые ученые считают, что культурная глобализация является позитивным явлением, однако существует и противоположная точка зрения. Согласно этой точке зрения, распространение продуктов массовой культуры ведет к деградации общества и потери его фундаментальных основ. По мнению С. Б. Крымского «в противовес многообразию идейно-ценностных основ традиционных цивилизаций, вступивших между собой в продуктивный диалог, всемирная вестернизация, точнее квазивестернизация (поскольку незападные народы как таковые, потребляя коммерческие культурные суррогаты, совсем не приобщаются к фундаментальным основам высокой культуры Запада), ведет к культурно-цивилизационному нивелированию человечества. Разрушая традиционные социокультурные основание, квазивестернизация насаждает фрагментарные, поверхностные стереотипы. Последние, противореча местным традициям, переносятся без того дополнительного культурного сопровождения, которым уравновешиваются на Западе. Поэтому на социокультурные основополагающие принципы незападных регионов планеты глобализация осуществляет не менее разрушительное воздействие, чем на их экономику или экологию»[113].
Информационное пространство периода глобализации представляется открытым и общедоступным. С появлением глобальной сети «Интернет» практически любая информация становится доступной. Однако, сегодня мы видим, что Интернет наполнен не столько полезной информации, сколько развлекательным контентом, часто низкого качества. Более того, в последние несколько лет появились тенденции к значительному упрощению даже развлекательного контента. Например, появление так называемых «мемов» — картинок с несколькими словами-наводит на мысль о деградации современной культуры общения, поскольку определенные устойчивые образы в этих «мемах» призваны вызвать ответную реакцию, независимо от остального содержания информации. Одной из проблем информации в эпоху глобализации, становится её непрерывно растущее количество, в которой достаточно сложно найти качественную информацию. В условиях, когда информация стала общедоступной, а у простого обывателя появилась возможность самому создавать медиа-контент, все более актуальным становится вопрос о компетентности средств массовой информации, поскольку СМИ потеряли свою монополию на распространение информации. Задачей профессиональных СМИ является создание качественного контента, которым население могло бы доверять. Однако, на практике мы видим, что и телеканалы, и газеты превращаются в коммерческие структуры, которые можно было бы отнести уже скорее к сфере услуг, поскольку они не придерживаются объективной точки зрения, насколько это возможно. Информация превращается в товар, а сами СМИ часто зависят от источников своего финансирования и поэтому подают информацию в том ракурсе, который выгоден заказчику. При все возрастающем количестве СМИ, растёт также и количество вариантов информации, что в целом не способствует доверию людей. Кроме нацеленности на качественную работу, которую следует ожидать от профессиональных СМИ, еще одним важным моментом является адаптация к современным условиям, что значительно упрощает возможность диалога с потребителем. Открытость и нацеленность на контакт с аудиторией способствует повышению престижа и уровня доверия к своему источнику.
Распространение массовой культуры в современном обществе имеет большое влияние на человека. Именно в массовой культуре активно развиваются современные мифологемы. Под влиянием массовой культуры происходит процесс разрушения традиционных мировоззренческих установок, изменяются и разрушаются морально-этические нормы, как признаки элитарной культуры, активно вытесняемые культурой массовой. Личность является отражением общества, той среды, в которой она сформировалась. Культура влияет на становление человека как личности, его интересы и жизненные приоритеты и на творческие способности. Однако в условиях массовой культуры формируется массовый человек, скорее всего настроенный удовлетворять свои потребности, преимущественно материальные, для чего ему не нужно дальнейшее духовное развитие, а достаточно соблюдать стандартные правила поведения в обществе. Современному «обществу потребления» нужен не творец, а в первую очередь потребитель. Массовая культура подмывает фундаментальные основы общества, вытесняя носителей элитарной культуры — хранителей культурной памяти, традиций на периферию общественной жизни.
Следовательно, общество теряет свой исторический потенциал, теряется «глубина» национальных культур, которая подменяется поверхностным воспроизведением «глобальных»– массовых стандартов. Поэтому современный человек, особенно это заметно среди молодежи — часто перестает быть полноценным носителем своей национальной культуры. В этом контексте следует отметить, что потеря национальной идентичности происходит не до конца. Она достаточно ощутимо довлеет над обществом, поэтому происходит «возвращение к корням»– попытка национального возрождения. К сожалению, подобные попытки ведут не к полноценному возрождению, а все также происходят на поверхностном уровне, где активным образом проявляет себя современная мифология, «заполняет» собой возникшую пустоту в культурной памяти и национальных традициях.
Существуют тенденции, которые являются обратимыми по отношению к культурной глобализации, и которые представляют собой своего рода противодействие глобализации на уровне коллективного бессознательного. За последние десятилетия резко актуализировались различные этнические движения, вошла в моду идея национального возрождения, разрослись межнациональные конфликты. По меткому выражению Э. Гидденса, «Мир погибающих традиций порождает фундаментализм»[114]. Наблюдается явный рост культурного самосознания, которое стремится к отторжению навязанной извне массовой культуры. Как и в случае с культурной глобализацией, не единственным противовесом ей может служить национальная культура. Многие страны стремятся сохранить интерес населения к своему культурному наследию, особенно сделать её как можно более актуальной для молодежи так, как именно эта категория населения является наиболее подверженной влиянию культурной глобализации. Однако, хотя такие попытки и не остаются абсолютно бесплодными, существуют многочисленные трудности, которые ограничивают или даже блокируют эту тенденцию. Имеется в виду не только значительная разность потенциалов отдельных стран и ресурсов всего мирового рынка, но и совокупная мощность примитивной и легкодоступной массовой культуры. Для изучение одних только внешних условий существования социальной мифологии явно недостаточным, так как в похожих условиях могут существовать совершенно разные социальные мифы. Случается и так, что достаточные условия уже есть, а ожидаемой социальной мифологии нет. Поэтому так важно учитывать именно внутренние условия возникновения социальных мифов, включая самые рациональные, иррациональные и чисто случайные духовные мотивации, культурные и мировоззренческие установки. Это снова заставляет учесть состояние субъекта мифотворчества. Случайные проявления социальных мифологем, в отличие от необходимых условий их возникновения, в значительной степени обусловлены субъективными факторами и носят вероятностный характер.
Таким образом, успешное развертывание социальной мифологии привязано к определенным типам мировых цивилизаций (совокупной западной, исламской, славяно-православной, прежде всего, и, в меньшей степени, конфуцианской и латиноамериканской) и обусловлено их внутренним кризисным состоянием и кризисом современной системы международных отношений в целом. Глобализация и «постмодерна» мифология поставили под вопрос возможность сохранения мирового культурного разнообразия, но породили мифологию-антагониста о духовном возрождении в виде популяризации традиционной символики и т. д., которая сама по себе является социальным мифом так, как приводит к поверхностному пониманию народами собственной культуры, а следовательно, к потере фундаментальных основ собственного существования этносов. Содействие мифологизации мирового сообщества приводит к возможности легкой манипуляции массами, поскольку массы не имеют привычки мыслить критически.
3.9. Газнюк Л. М., Дьяченко Я. О. Границы личного и публичного бытия человека
Очерчивая границы личного и публичного в бытии человека, попробуем выявить интерпретационно-понятийный критерий раздела современного персонального пространства и социальной среды. Понимание публичного и личного как отдельных сфер и представление о родстве публичного и коллективного приводят к выводу о полном соответствии личного и повседневной жизни «это арена, форум публичного дискурса по социально-политическим проблемам жизни и развития общества»[115]. Личное касается персональной жизни индивида, той сферы, где он может действовать автономно, не руководствуясь общественными мотивами или интересами социальных групп[116]. Существуют две противоположные точки зрения на взаимодействие личного/публичного и их отождествление. Первая констатирует, что обычно именно в обыденном сознании человека в общем случае границы личного сужены и локализованы[117]. Это объясняется тем, что личное связано с индивидуальностью человека, и его персональное пространство по сути исключает феномен публичности. Вторая указывает на то, что существует парадоксальное противоречие: в отдельных случаях публичность проявляется в сочетании с личным, создавая целостность элементов социального пространства личности[118]. Пространство публичности может «захватывать» приватность, трансформироваться в ней, но это случается тогда, когда «в связи с приоритетом личностного единства необходимо отождествлять себя как с публичной, так и с личной сферой существования»[119]. По сути, такая трансформация ожидает каждого современного человека, который пытается реализоваться в социуме, позиционируя себя наилучшим образом перед общественным мнением, заявляя о своих индивидуальных достижениях.
Различные философские течения и концепции пытались осмыслить границы личного и публичного, но есть чёткое противопоставление этих понятий. Такое противопоставление допустимо, когда речь идёт о количественных подходах к пониманию публичного[120]. При этом введение понятия «публичное» в сферу обсуждения коллективных интересов приводит к пониманию его как: 1) результата деятельности «значительного» количества людей; 2) сферы, характеризующейся свободным доступом для многих, если не всех; 3) сферы, куда люди «выходят» из собственного личного пространства (персонального внутреннего мира, семьи, дома); 4) сферы, внутри которой реализуются только «общественно значимые» действия индивидов[121]. Количественный подход к пониманию публичного неявно предполагает, что прежде всего коллективное действие или действие, наблюдаемое коллективно, является публичным. Такое представление исключает из публичного практически всю повседневную жизнь индивида, ведь в публичном реализуются только индивидуальные действия, открытые для наблюдения небольшому количеству людей. Но «граница между ними проходит через самого индивида и является границей между его озабоченностью собой и способностью отвлекаться от собственной личности при взаимодействии с другими и её оценке»[122].
Как публичность, так и приватность являются структурными элементами любой коммуникации. Межличностная коммуникация возможна только на основе «ты-ориентации», то есть благодаря осознанию существования рядом с «Я» «Другого». Взаимная «ты-ориентация» на «мы-отношения» — является основой любой непосредственной коммуникации и заключается во взаимном понимании субъектами присутствия в одном промежутке времени и пространства[123]. Так, «ты-ориентация» «заключается в простом осознании того, что передо мной стоит спутник, и это не предполагает обязательно понять специфические черты этого спутника. Однако в конкретных социальных отношениях имеют в виду именно это»[124]. Социальный характер взаимодействия между людьми определяется также успешностью функционирования предположений и ожиданий относительно друг друга: «Социальные отношения между современниками заключаются в субъективной вероятности, взаимно предписанные типичные схемы (и соответствующие ожидания) партнеры используют одинаково»[125].
Граница между личным и публичным проходит только в сознании индивидов, ведь только они могут «переходить» из одной «сферы» в другую. Соотношение «публичное — личное» начали рассматривать ещё в конце XVIII века. Но первые научные попытки осмыслить это соотношение встречаются уже в работах Р. Сеннета, который подчёркивал, что социальные потребности людей формируются космополитическим публичным поведением, противопоставляются требованиям природы, осмысливаются через семью: «Основывая новые формы пребывания в обществе, космополит оказывается полностью публичным человеком»[126]. По мнению Р. Сеннета, именно в эпоху Просвещения складывается равновесие между публичной и личной сферами, формирующееся в ходе революций и построения национального индустриального капитализма. Здесь в качестве примера публичного поведения учёный приводит детскую игру как форму взаимодействия. В игре важное место занимает процесс разработки правил для того, чтобы уравнять шансы всех участников на выигрыш, несмотря на их возможности, возраст и умения. В игре важно, «чтобы было интересно», а не стремление победить партнёра по игре как можно скорее. «Игра учит ребенка тому, что, когда он откладывает свое желание мгновенного удовлетворения и заменяет его на интерес к содержанию правил, он достигает контроля над чувствами и способности манипулировать ними»[127]. Такой подход к игре свидетельствует об отказе от эгоистических интересов ради создания поля деятельности для всех участников. Конечно, не все детские игры это демонстрируют, но модель, которую описал Р. Сеннет, помогает понять различие между частным и публичным.
Игра предполагает принятие определённой роли, которая может быть не только не связана с чертами конкретной личности, но и противоположна им, что провоцирует отстранение от себя в пользу сосредоточенности на самой деятельности. «Если публичная личность ценила качество игры по правилам, то новый тип личности во многом оказался значительно более детерминированным социальной ролью человека, чем старый. Он стал относиться к ней слишком серьёзно»[128]. Серьёзность в отношении к собственной личности приводит только к гипертрофированному представлению о собственном «Я» и его весе. Причина современного разрушения социальности состоит в том, что индивид считает своё социальное положение обусловленным его личностными качествами. Причины своих неудач современный человек склонен видеть в недостатке определённых личностных качеств, а не в отсутствии социальных лифтов. И не случайно понятие «класс» всё больше выходит из научного обихода: в современном обществе почти отсутствует «обеспокоенность относительно классового положения, особенно в отношении выхода за пределы класса, связанная с беспокойством относительно адекватности вашей личности как настоящей и развитой. В такой ситуации трудно идентифицировать себя с другими, находящимися в подобном положении»[129]. Личностное восприятие мешает оценивать другого как работника, как потребителя, вправе, в конце концов — как равного мне члена общества.
Дж. Дьюи, исследуя публичное/личное в работе «Общество и его проблемы»[130], публичное понимает как способ общества регулировать те реальные интересы, влияние которых выходит за пределы прямого взаимодействия частных лиц. Кроме того, исследователь подчёркивает, что взаимодействие имеет публичный характер через его способность влиять на судьбы многих людей: «Если оказывается, что последствия разговора выходят за пределы непосредственного общения и затрагивают интересы многих других людей, действие приобретает публичный характер»[131]. Дж. Дьюи избегает отождествлять личное и индивидуальное и признаёт, что индивидуальные действия могут иметь публичный характер. Публичность он рассматривает с точки зрения социальности — как то, что присуще именно собранию людей.
Ханна Арендт, исследуя публичную сферу, отмечает, что границы личного и публичного пространств существовали всегда, будучи обязательными для человеческой деятельности и действий, поскольку «действие не может быть представлено вне человеческого общества… действие, поступок — исключительно привилегия человека; ни зверь, ни животное не могут действовать»[132]. Арендт утверждает, что, «говоря и действуя, люди активно отличают себя друг от друга… они — модусы, в которых раскрывает себя сама человечность»[133], а обнаруженная уникальность связывается с поступком, ответственностью и инициацией нового. Феномен публичности проявился ещё у греков и детерминировался как возможность проявить себя олицетворённо и уникально, ей присущ статус неразличимого индивидуального существования: «Полис, как публичное пространство, был местом сильных и яростных споров, в которых каждый имел возможность убедительно отличаться от других, представить себя выдающимся деянием, словом и достижением, доказав, что именно он лучший. Иными словами, открытое, публичное пространство было отведено именно для непосредственной индивидуальности»[134]. Следовательно, термин «публичное», согласно Арендт, означает: во-первых, всё, что представлено перед всеобщностью, что для любого видно и гласно, сопровождается максимальной открытостью. Всё, что вообще могут воспринять другие, является частью внутреннего человеческого мира. Во-вторых, общий мир, созданный человеком, является собирательным понятием для всего того, что происходит между людьми, является ощутимым для всех и выступает на передний план в созданном мире. При этом гармоничная и совместная публичная жизнь означает, что мир всех вещей располагается между теми, для кого этот мир существует как место жительства. Публичное пространство в этом случае является совместной средой, одновременно и объединяющей людей, и препятствующей их пониманию публичного пространства[135]; это среда развития человека, формирования лучшего и уникального в нём, в то время как в личной сфере выделение и развитие невозможно. Публичность означает готовность к встрече с «другими» по определённым формальным правилам в специально организованном институализированном пространстве. В то же время Арендт отмечает, что публичную сферу необходимо чётко отграничить от личного — вместе с частной собственностью и мотивами частного обогащения. «Простое различение частного и публичного соответствует сфере домохозяйства, с одной стороны, и пространства политического — с другой, а эти сферы существовали как разные, жёстко отделённые друг от друга единицы по меньшей мере с начала античного города-государства[136]. Публичное приобретает все черты афинской демократии как сфера, где люди защищают интересы общества в целом, а собственные дела, связанные с необходимостью обеспечивать жизнедеятельность индивидов, оставляют в стороне. При этом личное — это жизнь в собственном доме, то есть нечто такое, что имеет пространственную форму — что можно оставить позади, из чего можно выйти. Кризис публичного возникает при выходе домохозяйства из личной сферы в пространство общественного. Такую конфигурацию общества, когда экономическая деятельность выходит за пределы частного и становится главным общим интересом, тем единственным, что беспокоит всех, Арендт называет социумом: «Социум — и форма совместной жизни, где зависимость человека от ему подобных ради самой жизни и ничего другого приобретает публичную значимость и где результаты этого вида деятельности служат лишь, чтобы поддерживать жизнь, не только выступают на открытой публичной сцене, но и осмеливаются определять собой лицо публичного пространства»[137].
Арендт пытается отождествлять публичное с политическим, стремясь найти сущность политического как такового. Для этого она использует идею публичного пространства, в котором индивиды свободны, прежде всего, от экономических отношений. Происходит это благодаря тому, что в публичном пространстве нет места эгоистическим мотивам. В то же время главными составляющими публичности является открытость и общность этого пространства[138]. Такой подход к интерпретации понятия «публичность» существенно сужает его содержание, поскольку публичное оказывается только пространством, которое государство индивиду может позволить, а может и запретить. Если существование публичной сферы считать зависимым от сложившихся в данном обществе условий и запретов, то сама идея публичности как способности индивида освободиться от собственных интересов в пользу коллективных фактически уничтожается.
Ю. Хабермас уточняет определение публичной сферы, рассматривая её как «посредническую систему коммуникации между формально организованными и неформальными, такими, происходящих с глазу на глаз, обсуждениями на аренах, расположенных как вверху, так и внизу политической системы»[139]. Ключевыми элементами публичной сферы при этом являются «общий доступ, достоверные источники информации, добровольное участие, рациональная дискуссия и аргументация, свобода выражать мысли, свобода обсуждать государственные дела, свобода участвовать в обсуждении вне институциональных ролей»[140]. Если Хабермас предлагает демаркировать личную и публичную сферы, то Д. Вольтон[141] пишет о чётком отделении одной сферы от другой: общей, публичной и политической. Общая сфера, по мнению Вольтона, это первичная социальная среда, связанная прежде всего с разного рода коммерческими обменами. Это одновременно и физическое пространство, которое очерчено и физической территорией, и символической цеховой солидарностью коммерсантов. Содержание дихотомии личного и публичного представлены Р. Рорти как попытка создать единую синтетическую теорию личного/публичного, для чего необходимо преодолеть несколько серьёзных препятствий теоретического и методологического характера. Одно из препятствий в смысле дихотомии личного и публичного заключается в том, что эти понятия имеют множество значений, которые обретают особый смысл в различных научных и культурных традициях. Личное могут трактовать как нечто, что относится к сфере личных, семейных, дружеских отношений человека.
Немало трудностей возникает и при попытке определить публичное. Его можно толковать как общественное и одновременно как государственное в понимании публичной власти, как это делают, например, Т. Гоббс и Дж. Локк. Кроме того, сложность заключается в соотнесении значений понятий публичного и общественного. Публичное ассоциируют в основном не столько с обществом, сколько с государством, государственным управлением, бюрократией и неэффективностью. Поэтому понятия личного и публичного чаще становятся объектом изучения политической науки, а не социальной философии, социологии или теории коммуникации. Классическое современное разграничение этих понятий представлено в работе Джефа Вайнтрауба «Теория и политика дихотомии публичное/приватное»[142]. По его мнению, разграничивая понятия «публичное» и «личное», исследователи имеют в виду совершенно разные явления, иногда совсем не осознавая этого, или имеют в виду несколько значений одновременно. Вайнтрауб указывает на то, что такое разделение является многомерным, и в связи с этим ставит перед собой задачу чётко разграничить имеющиеся подходы к пониманию «публичного» и «личного», исходя из того, что за каждым из них стоит мощная интеллектуальная традиция, которая использует не только разный концептуальный аппарат, но и совершенно различное видение социальной реальности. Он выделяет следующие фундаментальные и аналитически различные основания для понимания разделения на публичное / личное: 1) то, что скрыто или недоступно, противопоставляется тому, что открыто, показано или доступно; 2) то, что является индивидуальным, противопоставляется коллективному или потому, что занимает интересы совокупности индивидов. Таким образом, основными критериями разделения, по Дж. Вайнтраубу, выступают «видимость» и «коллективность».
Рассматривая многообразие имеющихся в научной мысли способов рассмотрения понятий «публичное» и «личное», Вайнтрауб предлагает четыре основных подхода к осмыслению сущности этих понятий, подчёркивая, что приведенный список не является исчерпывающим: 1) либерально-экономическая модель (в ней анализируют публичную политику, здесь публичность — это сфера государственной политики и управления, противопоставляемая частному сектору рыночной экономики); 2) либерально-демократическая модель, связанная с так называемыми добродетелями республики (здесь публичную сферу рассматривают в терминах гражданского и политического общества, это так называемый классический подход); 3) социокультурная модель, связывающая публичную сферу с общением (эта модель изучает культурные практики, правила, конвенции, которые структурируют общественную жизнь); 4) прогендерная модель осмысления публичности — это тенденция характерна для экономической истории и гендерного анализа[143].
Каждый из четырех концептуальных подходов Вайнтрауба к делению на публичное / личное имеет свою специфику. Первый подход — либерально-экономический — рассматривает публичное / личное, отождествляя государство и рынок. Этот способ берет начало от неоклассической экономики и раскрывает специфический образ социальной реальности: в обществе действуют только индивиды, которые более или менее эффективно и рационально реализуют свои личные интересы. Руководствуясь этими интересами, индивиды вступают в добровольные договорные отношения друг с другом и государством. На практике различия между публичным и личным представлены противопоставлением между «общественным» и «частным» сектором, а также противопоставлением между «правительственным» и «неправительственным» секторами; к «неправительственному» сектору относят, как правило, рынок, а к «правительственному» — государство. В рамках этого подхода наиболее значимой является проблема баланса между организациями, которые создают заинтересованные индивиды, с одной стороны, и государством — с другой. В таком соотношении возникает вопрос: должно ли государство вмешиваться в деятельность рынка и жизнь общества и в какой степени? Один из вариантов ответа на этот вопрос дают работы Джона Локка и Адама Смита, второй — работы Томаса Гоббса и Джереми Бентама. Первый вариант ответа (Дж. Локк и А. Смит) указывает на возможность «естественной» гармонизации эгоистических интересов индивидов, что делает вмешательство государства излишним. Второй вариант (Т. Гоббс и Дж. Бентам) настаивает на наличии агента, часового, который поддерживает порядок в обществе принуждением, системой наград и наказаний, и люди имеют возможность реализовывать свои интересы в рамках создаваемого этим агентом формата. Такая трактовка дихотомии «публичное / личное» является чрезвычайно популярной в современных науках.
Во втором, либерально-демократическом, подходе публичное составляет ядро политического сообщества, основанного на гражданской активности; основой общественной жизни выступает процесс активного участия граждан в коллективном принятии решений на основе принципов солидарности и равенства. Публичное и во втором, и в первом подходе означает политическое, однако содержание политического в каждом из них существенно отличается. В рамках первого подхода политическое приравнивают к административной составляющей государства, оно означает систему обсуждений, дебатов, дискуссий, процессов коллективного принятия решений и организации коллективного действия. Такое понимание политического можно найти в концепции публичного пространства или публичной сферы в понимании Х. Арендт. Дж. Вайнтрауб выясняет разногласия в понимании понятий «публичное» и «политическое» в этих двух подходах, проявляя их исторические корни и социальный контекст. Две основные модели публичной сферы берут своё начало в античности: 1) самоуправляемый полис или республика (буквально «общая вещь»), от которых появилось понятие политики как процесса, в котором индивиды как граждане в меру своих способностей участвуют в процессе сознательного коллективного самоопределения; 2) Римская империя, давшая начало понятию централизованного суверенитета, единого и всемогущего аппарата правил, которым руководствуется общество, принимая и администрируя законы. Публичная власть суверенна и руководит от имени общества «частных» и политически пассивных индивидов. Они имеют права, предоставляющие и гарантирующие им суверенитет[144].
Для второго подхода, который рассматривает дихотомию «публичное/личное» в терминах сообщества и политического участия, чрезвычайно важной оказывается категория гражданства. Гражданство здесь связано с активным участием в принятии совместных решений в сообществе. Простое членство в любом сообществе не означает гражданства, так как гражданство предполагает активное членство в сообществе специфического типа. Такую модель сообщества Вайнтрауб называет «добровольным сообществом». Наиболее значимыми попытками теоретизировать понятие публичной сферы как специфического вида человеческой деятельности, с точки зрения Вайнтрауба, является концепция «политического сообщества» Алексиса де Токвиля, концепция «публичного пространства» Х. Арендт и концепция «публичной сферы» Ю. Хабермаса. Общей чертой этих теорий является мнение о том, что политика и публичная сфера не сводятся только к государству, а социальную сфера вне государства нельзя определять как частную.
Третий подход в осмыслении границ личного и публичного как социокультурной модели, согласно Вайтраубу, проявляется в понимании публичного как общения. Для того чтобы более понятно трактовать специфику понимания публичного в третьем подходе и границы между публичным и личным, следует обратится к работам Филиппа Арьеса, посвященных истории семьи в Европе. Появление семьи в её современном понимании Арьес рассматривает в контексте изменений отношений между семьей и сетью отношений внутри сообщества. Результатом этих трансформаций становится изменение границ между «публичной» и «личной» сферами, а также изменение значения каждой из них. «Личное» начинает служить убежищем личной и повседневной жизни, при этом «личность» или семья не является сферой изолированных, отдельных индивидов или индивидуализма; наоборот, семья составляет коллективное образование, поддерживаемое отношениями личной привязанности и взаимных обязательств. В этом смысле современная семья является своеобразной защитой от индивидуализма и имперсональных отношений гражданского общества, рынка, бюрократического государства и формальных институтов. Дж. Вайнтрауб к этому аналитическому подходу использования дихотомии «публичное/личное» относит Мишеля Фуко и Норберта Элиаса. Понятие «публичной» сферы в третьем подходе рассматривают как пространство общения, возникающее благодаря конвенциям, которые позволяют поддерживать разнообразие и социальную дистанцию, несмотря на физически малую дистанцию между индивидами. Это пространство характеризуется имперсональностью отношений, инструментальностью и отчуждённостью.
Четвертый подход к пониманию дихотомии «личное/публичное» Вайнтрауб характеризует как феминистический, останавливаясь на некоторых специфических терминах и концепциях, которые учёные использовали в дискуссии о личном и публичном. Отличительной тенденцией большинства направлений феминистических исследований является рассмотрение семьи как парадигматической частной сферы, то есть домашней. Отправной точкой анализа дихотомии «личное/публичное» в рамках четвертого подхода, по мнению Вайнтрауба, является феминистская антропология и феминизм. Центральным моментом для понимания сущности дихотомии «личное/публичное» является тот факт, что во всех известных обществах деление на личное/публичное является гендерно асимметричным, при этом домашняя сфера всегда оказывается сферой женской. Вайнтрауб выделяет основные направления феминистской критики «традиционных» подходов к дихотомии «личное/публичное». Во-первых, социальная и политическая теории игнорируют домашнюю сферу или определяют её как слишком тривиальную для пристального анализа. Во-вторых, само разделение на личное/публичное часто маркировано глубоко гендерно. Это наблюдается в самой идеологии, относящей мужчин и женщин к различным сферам социальной жизни на основе их природных особенностей. В-третьих, институт семьи определяют как частный и используют как ширму для маскировки подчиненного положения по отношению доминантных публичных институтов политики или законодательства. Дж. Вайтрауб подчёркивает, что исследователи женского подхода рассматривают разделение на личное/публичное как ключ к пониманию причин угнетения женщин, однако такой подход требует достаточно критического переосмысления[145].
Таким образом, в современной «постмодернистской публичности», для которой характерны чрезмерная открытость, фрагментарность, скрытая свобода, плюрализм, разрушение централизованной структуры, эклектичность, ироничность, пародирование, саморефлексия, игра и т. п., границы личного и публичного бытия человека тоже приобретают иные очертания. Дискурс публичности актуализируется сейчас вследствие усиления потребности обычного человека в самовыражении, репрезентативном «онлайн-присутствии» на публике, через формирование гиперинформационного общества с выраженной системой коммуникационных технологий, рисков и знаний. В этом смысле современное публичное сетевое общество, возникшее в результате достаточно сложных и порой непредсказуемых информационно-технических процессов, является неравновесной и из-за своей масштабности — слабо координированной и управляемой структурой, где могут формироваться более сложные коллективно-публичные структуры, стихийно моделируемые из простых «автокаталитических интеракций» между многими индивидами и окружающей средой за счет открытой коммуникации. Именно в современной публичной сфере под влиянием информационных и интерактивных практик сталкиваются личностные жизненные взгляды, начинания, приоритеты и убеждения как отдельно взятых людей, так и целых поколений. Для современного гиперинформационного общества характерны девальвация традиционных ценностей, резкое изменение темпа жизни, значительное размежевание поколений, ускорение процессов отчуждения, что влияет на сущность самого феномена публичности и в полной мере формирует новую публичную идентичность.
3.10. Савчук Е. В., Рякова Е. Г. Особенности социально-философского анализа гуманизма как осмыслительного и реально-практического феномена
Гуманизм как осмыслительный и реально-практический феномен, связан с проблематизацией статуса человека в обществе и попытками его коррекции. Оформившийся как система идей и связанных с ним практик гуманизации в первой половине XIX века, гуманизм сегодня позиционируется в качестве системы ориентиров для индивидов и социальных институтов, конституирующих их жизнь.
Любой вариант гуманизма как более или менее последовательной системы взглядов (о чем говорит нам суффикс — «изм») предполагает наличие следующих моментов:
неудовлетворенность существующим положением дел, критика наличной реальности как унижающей человеческое достоинство, не дающей человеку раскрыть собственный потенциал и т. д.;
обозначение образа лучшего будущего, такого, каким должно стать общество/сообщество, достойное человека или признание, что ситуацию изменить нельзя и попытка выработки в связи с этим рекомендаций как жить человеку в несовершенном мире;
выработка рекомендаций относительно того, как путем личных усилий или последовательных преобразований социальной реальности посредством гуманизации общества можно улучшить положение человека в мире.
Несмотря на масштабное и долговременное обсуждение идейного содержания гуманизма и наличие существенного опыта практики гуманизации, наличие позитивного настроя большинства людей в отношении гуманизма как дискурса, в сфере осмысления так и нет единства относительно идейного содержания гуманизма, а в сфере практики программы гуманизации натыкаются на все новые сложности при их воплощении. Один из современных авторов, всерьез занимающийся вопросами гуманизации образования, в связи с вышеуказанным обстоятельством резонно отметил: «Несмотря на то, что многие программы были реализованы, гуманистические манифесты приняты, жаль констатировать, что негативные тенденции нарастают, кризис охватил весь мир»[146].
Социальная философия, накопившая многовековой опыт анализа феноменов общественного бытия, обладает серьезным потенциалом для постановки и осмысления проблемы статуса гуманизма. Как одна из сфер философского знания она берет на себя задачу рассмотрения общества с точки зрения выявления логики его формирования и обеспечения концептуальной основы для исследования любого социального явления как целого в контексте общественных отношений. Рассмотрение с социально-философских позиций вопроса о неоднозначности гуманизма как осмыслительного феномена и сбоях программ гуманизации при внедрении их в практику дает нам возможность рассмотреть назревший вопрос о статусе и потенциале гуманизма.
К сожалению, следует констатировать, что сегодня мы обнаруживаем снижение востребованности социально-философского анализа. Так, К. С. Пигров, много лет возглавляющий кафедру социальной философии СПбГУ, отмечает, что «В современном российском обществе налицо определенная идиосинкразия к социальной философии»[147]. Зав. кафедрой социальной философии и философии истории МГУ К. Х. Момджян пишет о том, что «современная социальная философия переживает не лучший период своего существования, и это касается не только отечественной, но и мировой социально-философской мысли»[148].
Основания современного кризиса социальной философии, как и философии в целом, лежат в организации способа общественного бытия, в рамках которого по преимуществу могут быть востребованы ситуативные, прикладные знания, позволяющие индивиду, организациям, государствам отвечать на внешние вызовы, приспосабливаться к изменяющимся условиям и вписываться в существующую систему отношений. Как отмечает К. Х. Момджян, сегодня целый ряд направлений осуществляют теоретическую атаку на социальную философию, подчеркивая отсутствие у нее эвристической способности. Среди них можно отметить:
– классический антисциентизм, подчеркивающий принципиальную непознаваемость социального и наделяющий философию способностью соприкосновения с тайной, выработкой многочисленных альтернативных видений;
– постмодернизм, критикующий саму идею возможности истины и объявляющий ее инструментом власти;
– антропологизм, изгоняющий идею надиндивидуальных интегралов;
– прагматизм, который пытается превратить социальную философию в usefull knowledge[149].
По существу, указанные направления, вызревшие в современной философии оставляют своих последователей заложниками ситуации, существующей в современном мире, а, значит, не могут стать надежной концептуальной основой для глубокого понимания логики разворачивания общественного бытия, выработки стратегий преобразования мира, ориентации в нем в качестве действительного субъекта. Лучшей основой в решении указанных задач может выступить классическое наследие социально-философской мысли, ориентирующее нас на осмысление феноменов общественного бытия как его моментов, формирующихся в ходе совместного освоения мира людьми и обусловленных характером общественных отношений. В ходе реализации осмысления логики формирования общественного бытия, социальная философия способствует:
– выработке целостного мировоззрения, позволяющего видеть любой объект как целое в рамках мира как целого;
– выработке концептуальной основы социальных исследований, определяя подходы к исследованию сущности, закономерности и направленности общественного развития;
– формированию представлений о должном и значимом, задающих ориентацию человека в мире, составляющих ядро его мировоззрения;
– прогностике, строящейся на вскрытии закономерностей общественного развития.
Список возможностей, которые социально-философский анализ раскрывает перед человеком, можно продолжить в духе функционалистского подхода к его пониманию.
Особенность ситуации в самой социальной философии состоит в том, что отказываясь от продолжения классической линии в ее развитии, современные мыслители нередко редуцируют ее к одной из функций. В таком случае мы получаем сциентистскую, валюативную, фантастико-футурологическую и иные версии социальной философии. Выступая в качестве ориентира мышлению, познающему реальность, социальная философия в ее редукционистских версиях ведет к искажению образа исследуемого объекта, трактовке его на феноменальном уровне, порождает его абстрактное видение.
В случае с социально-философским осмыслением гуманизма как осмыслительного и реально-практического феномена сегодня преобладают его валюативная и классическая вариации.
Валюативная философия говорит на языке ценностей, выбор которых обосновывается интуитивными представлениями о значимом и изначально обрекает на тупики при попытке рассмотреть ценности и предпочтения как истинные или ложные. Разговоры о гуманизме, имеющие место в дискуссиях, проходящих в ключе валюативной философии, имеют смысл в плане развития эмпатии, толерантности, возможно, лучшего понимания, что «все мы разные и в едином мнении нам не сойтись», но также могут вести к антипатии, нетерпимости и желанию доказать, что собственная система гуманизма является наиболее оптимальной.
В качестве примера валюативного подхода к осмыслению феномена гуманизма можно назвать философские исследования одного из лидеров международного гуманистического движения П. Куртца. Американский мыслитель и общественный деятель является автором Второго (1973) и Третьего гуманистических манифестов (2001), а также декларации «Неогуманизм: декларация светских принципов и ценностей — личных социальных и планетарных» (2010). Кроме того, им написан ряд теоретических работ, в которых рассматриваются возможности «реализации потенциала каждого человеческого индивида — не избранного меньшинства, но всего человечества". Для автора значимо преодолеть местнические взгляды, ограниченные частно-групповыми интересами, и обратиться к построению секулярного общества в планетарном масштабе, единственной ценностью которого будет человек. Защита индивидуальности, согласно точке зрения П. Куртца, может быть обеспечена институтами демократии, прав и свобод человека, отсутствием дискриминации по расовому, этническому, половому, возрастному принципам, снижением суверенитетов государств, искоренением любых видов ортодоксии. Тем самым, в качестве универсальных принципов формирования гуманистического общества будущего П. Куртцем утверждаются либеральные ценности, разделяемые далеко не всеми.
Социально-философский анализ гуманизма в своем классическом варианте предполагает осмысление его как феномена общественного бытия с точки зрения логики его формирования. Принимая за точку отсчета оформления гуманизма момент появления термина «гуманизм» в 1808 году новозеландский философ Б. Кук в статье «Happy birthday humanism» (2008) отмечает, что автор термина Ф. Нитхайммер говорил о гуманизме как о широкой программе нравственного воспитания, направленной на создание нового поколения лидеров, людей, проникнутых современным духом времени. Относительно самой эпохи, породившей гуманизм, Б. Кук отмечает, что «Это была эпоха новых слов, и в частности новых «измов», поскольку старый словарь больше не мог идти в ногу с меняющимся миром Просвещения. И 1808 год был в значительной степени высшей точкой наполеоновского господства в Европе, что дало реформаторам, таким как Ф. Нитхайммер, возможность воплотить свои идеи на практике (…)»[150]. Оформившись как система взглядов в эпоху Просвещения, гуманизм стал не просто системой идей, но и идейной основой для формирования программ социальных преобразований — программ гуманизации.
Несколько десятилетий спустя в работах Георга Фогта и Якоба Буркхардта (1818–1897) термин «гуманизм» стал применяться для обозначения особенностей эпохи итальянского Ренессанса и со временем этот термин вместил в себя совокупность разнообразных интеллектуальных течений прошлого и настоящего, имеющих практическую цель совершенствования человека и условий его существования.
Для понимания специфики природы гуманизма, его реального статуса и потенциала для решения возлагаемых для него задач важно осмыслить социокультурные основания его формирования и функционирования. Так, М. Хайдеггер рассматривает «гуманизм», прежде всего, термин обслуживающий «рынок общественного мнения», который предъявляет свои требования к появлению все новых и новых «измов». Еще в XIX веке К. Маркс отмечал, что общественные группы социально-дифференцированного общества в ходе решения практических задач воспроизводят свои общественные отношения в форме производства идей, обладающими видимостью самостоятельного существования: «Отношения становятся в юриспруденции, политике и т. д.— в сознании… понятиями…». Возникнув в условиях расщепленного социального бытия, где ткань общественной жизни все более институционализируется и распадается на сферы, в котором доминируют общественные отношения товарно-денежного типа, гуманизм как осмыслительный феномен обрел вещный статус. Это означает, что гуманизм вызрел как инструмент манипулирования разнообразными смыслами, нанизываемыми на абстрактную идею ценности человека. По существу, все остальное содержание наполняется смыслами в связи с предпочтениями, интересами авторов. Практика XX века показала, что гуманизм удачно встраивается практически в любую идеологическую конструкцию. Этому способствует вольное использование слова «человек», предполагающего возможность многовариантности в понимании его сущности, способов формирования.
Как реально-практический феномен гуманизм сегодня представлен в многочисленных программах гуманизации, корректирующих различные сферы общественной жизни. Номинируемой целью программ гуманизации является развитие человека как целостной личности, раскрытие его творческих сил и создание приемлемых для этого условий. По существу же в программах гуманизации речь каждый раз идет о развитии тех или иных аспектов расщепленной человеческой личности, той или иной институционально оформленной сферы, где человек реализует себя. Это означает, что в основе программ гуманизации заложен абстрактный образ человека (человек как трудовой ресурс, как учитель или ученик, как ученый или как носитель иных социальных функций), а также абстрактный образ общества (как среды/ совокупности сред, в которой/ых живет и функционирует человек).
Формируя и реализуя программы гуманизации, являющиеся современным вариантом коррекции социального бытия, необходимо отдавать себе отчет относительно их специфики как социокультурного феномена, а также ограниченности их возможностей. Программы гуманизации не решают сквозных задач собственно-культурного, собственно-человеческого развития. Они могут решать ситуативные задачи ситуативным образом. Тем не менее, потребность в них существует за невозможностью осуществления глубинных социальных преобразований безболезненным путем.
Социальная философия дает возможность увидеть социокультурную природу гуманизма как осмыслительного и реально-практического феномена. Присутствующая сегодня в исследовательской практике и общественном сознании подмена идеи человечности термином «гуманизм» не является нейтральной с мировоззренческой и методологической точек зрения. Гуманизм, понимаемый как готовая форма, не может равняться человечности, собственно-человеческому, нравственному отношению к миру и Другому: заинтересованно-личностное отношение к другу так же не состоит из серии актов гуманизма.
4. Homo moralis XXI века: тупики аксиологической рефлексии и проблема духовности
4.1. Мухамбетжан А. Ж. К вопросу управления ценностными ориентациями социальных субъектов
Ценностные ориентации представляют собой важнейшую часть жизненной программы социальных субъектов. По существу, подлинное человеческое бытие — это и есть жизнь в соответствии с ожиданиями, идеалами и признанными ценностями. Обращение к ценностям является необходимой предпосылкой для понимания сущности человеческого бытия, смысла жизни, для осуществления самосовершенствования и самореализации.
Ценностно-мировоззренческие ориентации субъекта формируются в течение всей его жизни в ходе социализации и самореализации, под воздействием сознательных и стихийных факторов. Любое общество заинтересовано в регулировании и управлении этим процессом. В этих целях создаются специальные политические институты, которые непосредственно занимаются изучением, обработкой и манипулированием индивидуального, группового и общественного сознания, ценностными ориентациями людей. Это то, что в логической социологии называется «менталитетной сферой»[151]. Кроме этого, определенные структурные элементы экономической, социальной и духовной сфер общества также наделяются идеологическими функциями.
Задача менталитетной сферы «заключается прежде всего в том, чтобы выработать сознание человейника как целого, сохранять его, разрабатывать и приспосабливать к меняющимся условиям жизни людей, во-вторых, навязывать это сознание членам человейника, стандартизировать их сознание, сделать их индивидуальное сознание воплощением сознания человейника как целого. И третья основная задача менталитетной сферы — управлять поведением людей путем формирования в них стандартного сознания и воздействия на него. В целом задача менталитетной сферы — сделать людей способными жить в их человейнике и сохранять его своей жизнедеятельностью как единое целое, а также сделать людей лучше управляемыми и манипулируемыми»[152]. Следовательно, эта идеологическая система призвана обеспечивать определенное единое социальное качество общественного сознания, сделать его характеристикой сознания каждого члена общества, и, наконец, определять формы, средства и способы достижения этих целей. Как свидетельствует вся история человечества, единство общественного и индивидуального сознания, а также качественных определенностей социума и субъекта не только желательно, но и жизненно необходимо. Поэтому, во взаимоотношениях указанных социальных форм редукция индивидуального к общественному неизбежна.
Общество заинтересовано в обеспечении консолидированного мировоззрения своих граждан, ориентированного на утверждение в повседневной практике, образе жизни людей высоких, подлинно социальных качеств, которые с одной стороны не подавляют позитивно-личностные качества, с другой не лишены программирующих начал по отношению к последним. Подобный социальный контроль необходим всегда, он является действенным средством самоорганизации и самосохранения сообщества людей. Поэтому его нельзя рассматривать лишь в качестве проявления злой воли отдельных личностей или же определенного класса. Однако этот контроль не должен быть и абсолютным, тотальным. Если превышает определенную меру функционирующего социального качества, то он может превратиться в социальное зло и стать неадекватным условиям и требованиям самосохранения общества, что чревато нарушением существующей стабильности. Все это весьма актуально и для современного казахстанского общества.
Эффективность управления процессом формирования ценностно-мировоззренческих ориентаций субъектов напрямую связана уровнем научности представлений об общественном сознании и общественном бытии, диалектике их взаимосвязи. Чем выше уровень научности, тем успешнее решается задача обработки и стандартизации сознания членов общества и манипулирование ими путем воздействия на их сознание. Необходимость выполнения этой задачи обусловлена заинтересованностью общества в утверждении относительно единого мнения своих граждан по фундаментальным ценностям индивидуальной и общественной жизни. Прежде всего, это вопросы мира, стабильности, порядка, справедливости, дружбы и согласия между народами и этносами, толерантности, здоровья, благополучия и богатства и т. д. Причем речь идет не только о единстве взглядов на абсолютность этих ценностей в нормативном аспекте. Главное заключается в том, чтобы единодушие было в оценке значимости реализующих этих норм человеческих качеств. Подобное единодушие может быть достигнуто на различных уровнях. По своим носителям, на уровне индивидуального, группового и массового сознания. По качеству, на уровне обыденного, обыденно-теоретического и теоретического познания. В зависимости от конкретных характеристик этих уровней, субъекты управления в менталитетной сфере выбирают комплекс способов и средств обработки сознания социальных субъектов и манипулирования ими. Действия этих способов и средств осуществляются по следующим направлениям: во-первых, они поддерживают устраивающее государство в данный момент общественное мнение; во-вторых, настраивают его на необходимый уровень; в —третьих, уравновешивают общественное мнение, снимая излишнее напряжение. При этом могут применяться методы и средства экономического и политического стимулирования и принуждения, морального поощрения и наказания, логические приемы искажения истины, прямая фальсификация, политика двойных стандартов, подкупа, угроз и шантажа и т. д. Их использование может сопровождаться постоянным нарушением общепринятых социальных норм, что, подтачивая момент их абсолютности, приводит к усилению момента релятивности. Стирается грань между дозволенным и запрещенным, одобряемым и осуждаемым. В результате субъект-адресат этих манипуляций теряет ориентир в выборе тех или иных ценностей. Следование таким пересмотренным социальным нормам непосредственным образом отражается в социальных качествах человека, ибо последние представляют собой не что иное, как личностное по форме воплощение соответствующих норм.
Научное объяснение социальной природы подобной корреляции норм и человеческих качеств основывается на методологических положениях, разработанные Марксом при изучении сущности сознания. Для анализа явлений сознания «в промежуток между двумя членами отношения «объект (вещественное тело, знак социальных значений) — человеческая субъективность», которые только и даны на поверхности, он вводит особое звено: целостную систему содержательных общественных связей, связей обмена деятельностью между людьми, складывающихся в дифференцированную и иерархическую структуру»[153]. Тем самым реализуется принципиально новый способ изучения феноменов самого сознания, его взаимодействия с бытием. «Формы, принимаемые отдельными объектами (и воспринимаемые субъективностью), оказываются кристаллизациями системы (или подсистемы) отношений, черпающими свою жизнь из их сочленений… Через эти отношения и должен пролегать реальный путь изучения сознания, то есть того вида сознательной жизни мотивов, интересов и духовных смыслов, который приводится в движение данной общественной системой»[154]. Следовательно, как сама социальная норма, так и представления о ней в сознании не являются результатом непосредственного отношения «сознание — бытие» или, даже отношения «сознание — наличное непосредственное общественное бытие». Как известно, механистический детерминизм исходит из того предположения, что «индивид принципиально способен в каждом случае видеть свой действительный интерес и свое действительное положение и что созерцаемые им объекты и «причиняют» его субъективности сознательные образы»[155]. Отказываясь от такого подхода, Маркс «выводит образования сознания не из непосредственного содержания отдельных объектов, переносимого путем аффицирования чувственности в сознание, а из отношений, складывающихся между данными объектами в системе, из их места и дифференциации в этих отношениях. Отдельные объекты являются здесь отложениями, «сгущениями» системы, в которых проглядывают какие-то стороны, части более широкой ее взаимосвязи, структуры»[156]. Поэтому, менталитетная сфера в своей деятельности по обработке и манипулированию сознаниями индивидов и масс всячески старается извлечь определенную пользу из такого сложного, системного характера социальных связей. При реализации такой попытки могут иметь место как сознательные извращения, так и заблуждения и несознательные ошибки. Манипуляция представлениями и поведением людей совершается с учетом противоречивости, неоднородности этих социальных форм; в расчете на незрелость, фрагментарность, поверхностность их чувственно-эмоциональных компонентов. Вследствие этого возможны: ориентация людей не на те нормы; предложение, пропаганда и навязывание не тех идеалов и социальных качеств; неправильная оценка воспитательных возможностей тех или иных исторических фактов, событий, духовных ценностей и т. д.
Идеологическая обработка ценностно-мировоззренческих ориентаций субъектов основывается также на объективных трудностях познания действительных характеристик, социальных определенностей создаваемых человеческим трудом мира «чувственно-сверхчувственных вещей». По Марксу анализ товара, социальных предметов должен исходить из того факта, что реальность постигается человеческим сознанием под определенной формой. С самого начала речь должна идти о социально определенной форме, ибо как отмечено выше, между объектом, «вещественным телом» и «человеческой субъективностью» всегда функционируют та или иная социальная система, дифференцированная и иерархическая структура общественных связей. Любая социальная форма, в том числе и социальная вещь, представляется как «выражение устойчивых и далее неразложимых предметностей сознания, качеств, предметных смыслов, интенций, так же как глаз воспринимает не субъективный отпечаток на ретине, а «объективную форму вещи, находящейся вне глаз» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 82)»[157]. Это говорит о том, что природный материал прежде чем стать социальной вещью и быть познанным в таком качестве проходит два этапа социализации: сначала этап овеществления, опредмечивания сущностных сил человека, затем этап приобретения форм предметностей сознания. Соответственно нужно различать двоякого рода социальные определенности: реального предмета и формы предметности сознания. Их объединяет общий источник — социальная система-посредник объекта и человеческой субъективности, которая характеризуется диалектическим единством материального и идеального, объективного и субъективного. Данное единство предполагает корреляцию вещи и предметной деятельности субъекта, срастание объективно-материального и объективно-идеального. Соответствующая модальность определенности системы-посредника оформляется как в реальном предмете, так и в предметностях сознания. Следовательно, формируемая социальная определенность конкретной вещи первоначально содержится в порождающей ее социальной системе, конкретно-исторически интегрированной и дифференцированной структуре данной системы, «ансамбле общественных отношений». Именно эта структура, редуцируясь, становится предметностью сознания. Так достигается реальное единство бытия и сознания, единство в формах проявления одной и той же социальной определенности. Мера осознания этого единства — есть мера понимания субъектом сущности своих социальных качеств. Мера же понимания этого единства — мера эффективности деятельности идеологической сферы по обработке и манипулированию сознаниями масс. Таким же образом постижение этой истины может обеспечить успех в области воспитания, формирования позитивных ценностно-мировоззренческих ориентаций личности.
Подобная корреляция форм сознания и бытия опровергает представления представителей философии Просвещения и традиционного рационализма о модельности сознания. Они предполагали, что создание человеком внешних, объективированных продуктов осуществляется по модели понятных ему в той или иной форме собственных психологических свойств и состояний[158]. Таким образом получалось, что социальные качества «мира человека» есть всего лишь результат прямой проекции феноменов «чистого» сознания. По Марксу же содержание определенностей вещей обусловлено содержанием, структурой, корреляцией существующих общественных отношений, а определенности сознания представляют собой «общественно значимые, следовательно, объективные мыслительные формы для производственных отношений данного исторически определенного общественного способа производства (выделено нами — М. А.)»[159]. Эти относительно устойчивые, инвариантные мыслительные формы составляют основу общественного сознания, благодаря чему позволяют субъекту познать и понять действительную социальную природу своего сознания. Они же предваряют психические составляющие поступков человека: его побуждения, мотивы, интересы. Модальность определенностей субъективного, объективно-субъективного и объективного взаимопредполагают и взаимообуславливают друг друга. Все это означает своеобразную процессуальность, поэтапность процесса формирования социальных определенностей вещей и человека. Данное обстоятельство имеет важное значение не только для социально-философской теории, но и для практики, особенно для практики воспитания. Так, понимание закономерностей этого процесса, всей его сложной социальной механики является обязательным для обеих сторон — воспитателя и воспитуемого. Поэтому качественное знание как способ существования качественного сознания изначально не может быть обеспечено на основе одного лишь, каким бы важным он ни был, этапа указанного процесса. Игнорирование этого обстоятельства неизбежно приведет к фрагментарности воспитательных усилий, нарушению целостности и непрерывности педагогического процесса в самом широком смысле. Задачи формирования тех или социальных качеств человека будут ставиться и решаться применительно к отдельным, изолированным друг от друга, ситуациям, жизненным этапам субъекта. Устраняется логика взаимосвязей моментов качества, нарушается «узловая линия мер». В результате каждый социальный педагог, наставник, учитель трудится сам по себе, в лучшем случае будет работать на воспитание определенного качества у определенного субъекта в определенной ситуации. Так поступает, к примеру, учитель по воспитанию трудолюбия у первоклассника в период его пребывания в школе.
Подобная логика анализа отношения сознания и бытия способствует раскрытию сущности превращенных форм сознания. Это важно не только для познания специфических образований самого сознания, но и для понимания сущности объективных оснований, позволяющих в определенных идеологических целях манипулировать общественным и индивидуальным сознанием. Наличие в сознании таких особых образований накладывает свой отпечаток на понимание субъектом природы и сущности определенностей различных социальных форм. Нельзя думать, что превращенные формы есть всецело субъективные порождения человеческого сознания и лишены всяких объективных оснований. Они в гносеологическом аспекте не являются в полной мере извращенными формами сознания и бытия, хотя в идеологическом, аксиологическом аспектах располагают такой возможностью. «Превращенные объекты обладают особого рода существованием, несводимым к субъективным фикциям и иллюзиям сознания, <…> превращенные формы существования возникают независимо от сознательных намерений и идеальных мотивов действующего субъекта; они объективно (и с необходимостью) индуцируются переплетением и возмущающим наложением друг на друга различных связей системы в тех ее областях, где операции, задающие субъект наблюдения, соизмеримы действием предмета наблюдения»[160]. В социальной действительности превращенные формы выступают в качестве восполняющих и замещающих форм, и в этом смысле система связей в обществе может быть представлена как система уровней преобразования и замещения[161]. Объективное существование этих форм делает социальное бытие еще более сложным, богатым и противоречивым. Возникает необходимость обязательного учета в анализе определенностей социального бытия конкретного соотношения элементов сознательного и стихийного. В свою очередь учет места, роли и значения превращенных форм в анализе явлений социальной механики привносит в методологию исследования общественных процессов своеобразный принцип дополнительности. Без изучения влияния этих форм на процесс становления, возникновения и развития определенностей личных и вещных носителей социального, невозможно получить полную, достоверную картину о тенденциях и закономерностях развития социального бытия в целом. Приобретение индивидом своей социальной сущности через формирование в себе основополагающих социальных качеств осуществляется в целостной социальной системе. Результативность данного процесса может быть достигнута лишь при обеспечении системности совместных усилий всех социальных субъектов, с учетом реальных возможностей интегрированных и дифференцированных элементов сознательных и стихийных факторов конкретно-исторических типов общественных отношений. В том обществе, где эта системность принципиальным образом не достигнута и будут существовать проблемы в области обеспечения диалектического тождества между сущностью и существованием человека, между социальным и человечным. Как свидетельствует современная мировая практика, и для современного общества данная задача выступает как задача отдаленной перспективы. Следовательно, актуализация данной задачи и ее реализация в рамках конкретных обществ продолжает носить относительный характер.
Свойство превращенной формы выступить в роли замещающих форм использовалось и используется в целях манипулирования сознанием индивидов и масс. Оно основано на способностях замещающих форм регистрировать и объяснять сложные социальные явления на уровне чувственного познания, в лучшем случае на уровне рассудка, сознательно исключая разумное их объяснение на основе научных понятий. Как известно, массовое сознание, как правило, устраивает знание, основанное на повседневном опыте, на уровне общественной психологии. Этого, якобы, вполне достаточно для того, чтобы свободно ориентироваться в проблемах повседневной жизни. Тем самым, утверждается мнение о необязательности знания законов общественной жизни. Вместо них приходят их превращенная форма, которая создает видимость действия этих законов и на этой основе осуществляется управление и манипулирование ожиданиями, ориентациями, поведением людей. Целенаправленно создается общественная обстановка, когда люди поставлены в такие условия, которые определяют их сознание без того, чтобы они обязательно знали суть вопроса на теоретическом уровне[162]. Таким образом превращенные формы становятся идеологическим оружием субъектов управления, служат стандартизации сознания объектов манипулирования, выполняют охранительную функцию в угоду господствующему политическому режиму, обеспечивают стабильность социальной системы и противодействуют ее изменению. Выполнение этих функций сопровождается провозглашением, пропагандой и практическим насаждением в обществе соответствующих социальных качеств людей. Тем самым в социальной структуре общества создается, поддерживается, утверждается и охраняется определенный слой людей с конформистским сознанием, рабской психологией, склонных к социальной апатии, равнодушию, рутинности, приспособленчеству, лицемерию, подозрительности, предательству и т. д. и т. п. Этот элемент социальной структуры в качестве социальной опоры политического режима и выступает в роли поборника «нужной» стабильности и противника перемен. Все это свидетельствует о том, что жизнь социума характеризуется переплетением разнообразных, разнонаправленных качественных определенностей. В нем взаимодействуют противоположные социальные качества людей, различающиеся по уровню и глубине отражения социальной действительности, по соотношению в них элементов сознательного и стихийного, по степени устойчивости и изменчивости, абсолютности и относительности и т. д. Соответственно и научное познание социальной реальности должно осуществляться с использованием разнообразных методов и форм, которые обеспечивали бы ему всесторонность и достаточную полноту. В этом смысле эвристическая ценность понятия превращенной формы заключается в том, что оно способствует достижению этой полноты, реализуя возможность изучения социально-исторических закономерностей в максимально приближенном к действительности виде. Здесь проявляется гносеологическая и социологическая специфика самого понятия превращенной формы. «Если с точки зрения научного знания превращенная форма является воспроизведением предмета в виде представления о нем, то в исторической действительности такое «представление» является реальной силой, частью самого исторического движения»[163]. Учет качества подобных «представлений» социальных субъектов является обязательным условием научного анализа проблем движущих сил истории, роли и значения человеческого капитала в современном мире и конкретном обществе.
4.2. Ткаченко А. А. Ситуация «блуждания» как историческая судьба сознания человека
В XX-XXI веках многими мыслителями очень остро переживается духовный кризис — культуры, религии, душевно-духовного уровня человека. «Я родился в период духовного упадка человечества» — писал А. Швейцер[164]. А философы-экзистенциалисты, осознавая реальность человеческого существования, выражали тревогу отсутствия смысла. Даже больше, сам проект человека как мыслящего существа, Homo sapiens, вызывает сомнения. И как свидетельствует история, не без основания. «Мы находимся в мире, непоправимо искаженном самим человеком»[165]. Всматриваясь в картину Питера Брейгеля Старшего «Притча о слепых», думается[166] о том, что человечество обречено: слепые продолжают вести слепых и западный человек постепенно превращается в безразличную массу, утратившую культурное содержание[167].
Экзистенциальные вопросы, вызванные такими «расчеловечивающими» явлениями, как массовое сознание (феномен толпы) и усовершенствование способов манипулирования людьми, авторитаризм, унижение человеческого достоинства, одиночество, неравенство, воины (межгосударственные, межнациональные, межрелигиозные) и т. д., по-прежнему актуальны сегодня. Не случайно один из поэтов XX в., переживая общую боль человечества, напишет:
Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек (Владимир Соколов).
Перед нами трагизм человеческого существования, который определяется постоянным блужданием и растерянностью[168] человека. С точки зрения религиозно-философского (православного) миропонимания, кризис сознания — главная особенность истории человечества. После грехопадения человек теряет свою онтологическую природу и целостность сознания. «Человечество вообще, и европейское человечество в частности, вовсе не совершенствуется беспрерывно, не идет неуклонно по какому-то ровному и прямому пути к осуществлению добра и правды. Напротив, оно блуждает, поднимаясь на высоты и падая в бездны…»[169].
Такое «изнеможение духа», «несчастное сознание» как утрата идеалов и опустошенность (Гегель); «расщепленность» человеческой души; превращение человеческого сознания в мир теней, Зазеркалье, которое состоит с имитаций жизни; потеря вектора Стремления (М. Мамардашвили); оторванность сознания от своих духовных источников особенно ощутимо в наши дни.
Сознание современного человека оказывается неорганическим. «Множество впечатлений и деятельностей, возникая на основе внешних отношений к миру, образуют в нашей душе не гармоническое единство, не целость, в которой элементы требуют и подкрепляют друг друга, так что, чем их больше, тем прочнее система, а, наоборот,— нагромождаются в идее хаотического скопления, в котором многие элементы противоборствуют друг другу, ослабляют друг друга и ведут к ослаблению всего строя души. Отсюда объясняется разрастание душевных болезней в современном обществе: нервность, истерия, психастения, неудовлетворенность жизнью, самоубийство распространяются в угрожающих размерах…»[170].
Одной из особенностей такого состояния сознания есть обыденность. В человеке отсутствует стремление (по разным причинам), или он не желает преодолеть свою вульгарность среднемыслящего человека, «такого как все» (А. М. Пятигорский).
Будучи частью толпы, человек становится безответственным, агрессивным и посредственным. Он не осознает абсурдность своих поступков и того, что происходит вокруг. Такими людьми легко манипулировать и они в своей фанатичной слепоте готовы все растоптать. И когда слепец ведет слепых — катастрофа неизбежна.
Говоря о конце проекта под названием «европейский человек», А. Ахутин[171] вспоминает приезд в 70-х годах Папы Иоанна Павла II в Польшу и его переживания после посещения концентрационного лагеря Освенцим. Раздумывая о том, как же такое могло случиться, Папа Римский сказал, что достаточно людям внушить определенную идеологию, достаточно одеть их в определенную форму, а главное — достаточно сказать им, что все разрешено, все можно, и тонкая мера человечности (мудрости, моральности, религиозности), как не парадоксально, исчезает.
Это такой уровень сознания, который использует глобальная массовая культура, и от влияния которой очень тяжело защититься. Человек «не такой как все», который самостоятельно мыслит, спрашивает, желает, воображает и чувствует, не нужен современной цивилизации.
Таким образом, «современный человек всю жизнь испытывает воздействие сил, стремящихся отнять у него доверие к собственному мышлению. Сковывающая его духовная несамостоятельность царит во всем, что он слышит и читает; она — в людях, которые его окружают, она — в партиях и союзах, к которым он принадлежит, она — в тех отношениях, в рамках которых протекает его жизнь… Дух времени не разрешает ему прийти к себе самому[172]. Речь идет только о том, чтобы любым способом дискредитировать индивидуальное мышление.
Перед нами образ толпы — неустойчивой и обманчивой массы (К. Ясперс). Состояние «шизофреническое и потому клиническое. Всегда на грани безумия и самоуничтожения…»[173]. В свое время это напоминало М. Мамардашвили тех, кого Ф. Ницше называл «последними людьми». «Действительно (именно об этом крик его больной христианской совести), или мы будем "сверхлюдьми", чтобы быть людьми (…трансценденции человека к человеческому в нем же самом), или окажемся “последними людьми”. Людьми организованного счастья, которые даже презирать себя не могут, ибо живут в ситуации разрушенного сознания и разрушенной материи человеческого»[174].
Еще одним состоянием ситуации «блуждания» сознания, вызванного индустриальной цивилизацией и, в частности, системой производства и производимыми ее товарами и услугами является «ложное» сознание. Человек становится вещью и рабом вещей. Массовое производство и распределение претендуют на всего индивида. Современная реальность такова, что происходит окончательное утверждение Homo consumens. И если говорить о латинском происхождении «consumo», то это не просто потребление, а в буквальном смысле — уничтожение и истощение. «Люди узнают себя в окружающих их предметах потребления, находят свою душу в своем автомобиле, стереосистеме, квартире с разными уровнями, кухонном оборудовании»[175]. По мнению Герберта Маркузе, эти и другие продукты потребления обладают внушающей и манипулирующей силой. «Они распространяют ложное сознание, снабженное иммунитетом против собственной ложности»[176].
В религиозной сфере кризис сознания проявляется в фанатизме, «рабстве», приоритете внешней жизни Церкви («обмирщении»). Болезненно переживая современное состояние религиозного сознания, протоиерей А. Шмеман сравнивал христианство с супермаркетом. «Каждый выбирает, что хочет: эпоху, стиль, identification. Невозможность быть самим собой. Все «стилизовано» — при отсутствии стиля, который всегда создает единство»[177].
На наш взгляд, одной из главных причин кризиса сознания является ослабление связи человека с Абсолютным. Говоря о распространении релятивизма и скептицизма в современном мире, особенно в западных странах, В. Петрушенко акцентирует внимание на абсолютах сознания. «Если бы у нас не было бы абсолютов,— пишет украинский философ,— мы пребывали бы в хаосе мешанины, в хаосе слития “всего со всем”»[178]. Мы также поддерживаем идею В. Петрушенко о том, что необходимо возвратиться к тому культурно-историческому опыту, в котором абсолютное воспринимается в статусе имманентного не только человеческому сознанию, но и всякому бытию вообще — религии[179]. «Чтобы знать, для чего жить и куда идти, каждому нужно в какой-то совсем иной инстанции, в глубине собственного духа найти в себе абсолютную опору; нужно искать всем своего пути не на земле, где плывешь в безграничном океане, по которому бессмысленно движутся волны и сталкиваются разные течения,— нужно искать, на свой страх и риск и ответственность, путеводной звезды в каких-то духовных небесах и идти к ней независимо от всяких течений, а может быть, вопреки им»[180].
Ориентиром на этом пути остается духовный импульс традиции (мы неоднократно писали об этом), который помогает человеку сохранить целостность сознания, способность к свободному и глубокому мышлению, и не потеряться на перепутьях цивилизации.
4.3. Прись И. Е. Квазиреализм и контекстуальный реализм
1. Контекстуальный моральный реализм. Для Витгенштейна любое слово имеет различные употребления (в рамках языковых игр): «(…) Всегда спрашивай себя: как мы узнали значение этого слова (“благо”, например)? Из каких примеров? Из какой языковой игры? Тогда будет проще понять, что у слова должно быть семейство значений»[181]. В частности, не существует одного свойства «хорошее», как это полагал Дж. Э. Мур. Если принять эту позицию, то можно также сделать вывод, что моральные оценки не могут быть объяснены в рамках какой-то одной моральной теории[182]. Другими словами, для Витгенштейна этические высказывания, их оценки и обоснования контекстуальны. Есть моральные принципы, которые определяются «формой жизни» (общим бэкграундом); и есть их применения, которые могут быть истинными или ложными. Эту же мысль на кантианском языке выражает П. Винч. Он полагает, что философия Витгенштейна вмещает в себя как моральные принципы, так и моральную восприимчивость. Для Витгенштейна, пишет П. Винч, «закон без восприимчивости (sensibility) пуст, а восприимчивость без закона слепа»[183].
В рамках позиции контекстуального реализма, которую мы принимаем, и которая может рассматриваться как интерпретация позиции позднего Витгенштейна, реальные вещи могут иметь как природное (физическое), так и социальное, и этическое измерения. Существуют этические факты (против морального элиминативизма и редукционизма), но эти факты зависят от контекста (против морального платонизма). На самом деле само существование этики — науки о том, как правильно поступать,— требует реализма и, следовательно, морального реализма: поступок (действие) реален, предполагает реальность, в которой он совершается; он может быть правильным — и в этом случае мы имеем дело с моральным фактом — или нет. Моральный реализм может быть лишь контекстуальным, поскольку этические нормы и их применения не фиксированы раз и навсегда, а вырабатываются в реальности и применяются в контексте. Контекстуальный моральный реализм, в свою очередь, очевидно, предполагает контекстуальный реализм tout court. (О контекстуальном реализме в области этики)[184].
2. Квазиреализм. Философией позднего Витгенштейна и, в частности, проблематикой следования правилу, вдохновляется позиция С. Блекберна — «квази-реализм» (термин принадлежит не ему). Так же, как и Витгенштейн, Блекберн пытается выяснить, что мы делаем, когда мы употребляем этический язык[185]. Объяснение употребления этического языка одновременно является и обоснованием его употребления. Квази-реализм — динамическая позиция относительно этических предложений, исходный пункт которой состоит в том, что последние рассматриваются как установки, а не дескриптивные высказывания. То есть делая этические высказывания, мы что-то делаем: мы выражаем установки, которые оказывают влияние на наши планы, намерения, поведение. На следующем этапе, однако, высказывания рассматриваются таким образом, «как если бы» они были истинными высказываниями, как если бы существовала этическая (нормативная) реальность (отсюда название «квази-реализм»). Другими словами, квазиреализм Блекберна комбинирует экспрессивизм с философией обыденного языка. Это объяснительная стратегия, добавляющая к экспрессивизму выяснение своей генеалогии, то есть того, каким образом некоторая этическая позиция становится объектом мысли. В существование этической реальности верил Платон. Квази-реализм, однако, не метафизический платонизм, так как этические факты не автономные метафизические факты. Блекберн также отвергает и телеологическую позицию Аристотеля, согласно которой этические факты имеют некоторую цель. Битболь считает, что квази-реалист начинает с анти-реалистической tabula rasa, а заканчивает как «методологический» реалист[186].
Квазиреализм можно распространить и на высказывания, которые не относятся к области этики. Рассмотрим, например, два предложения относительно причинности[187]. Квази-реалист начинает с предложения (p1) «Надо проводить исследование так, как если бы все вещи имели свои причины». Это методологическое предложение (регулятивный принцип). Оно не утверждает, что причины реальны, а лишь, что исследование надо проводить таким образом, как если бы причины были реальными. Квази-реалист заканчивает предложением (p2) «Все вещи имеют свои причины.» Это метафизическое предложение (конститутивный принцип). Оно утверждает реальность причин. Реалист принимает (p2) и, следовательно, может принять (p1). Обратное кажется ему невозможным. Но с точки зрения квазиреализма Блекберна, оно кажется невозможным только для реалиста (то есть традиционного реалиста): «Принцип может быть конститутивным в противопоставлении регулятивному лишь в том случае, если существует область фактов, конституцию которых он имеет своей целью описать»[188]. Если же такой области предопределённых фактов не существует, противопоставление между регулятивным и конститутивным принципами отсутствует.
3. Квазиреализм как контекстуальный реализм. С точки зрения контекстуального реализма языковых игр и форм жизни мы интерпретируем выбор установки в рамках квази-реализма (понятого в широком смысле, а не только применительно к этике) как выбор витгенштейновского правила (нормы). (В физике этому выбору соответствует выбор теории.) Правило/норма — не объект метафизической реальности и не предопределённая естественная цель, а точка зрения, перспектива. Применение правила/нормы в контексте либо истинно, либо ложно. В частности, применение этической нормы в контексте истинно или ложно; это «языковая игра», анализ которой для понимания смысла этического высказывания является необходимым (при этом правило языковой игры конститутивное, а не телеологическое). Хотя сама по себе этическая норма (установка) ни истинна, ни ложна, её можно поставить в соответствие «этической реальности» устоявшихся этических языковых игр и в этом смысле рассматривать как истинную.
Квази-реализм позволяет говорить о знании, в частности, о моральном знании. Эта позиция подкрепляется дефляционизмом по отношению к истине[189]. Например, мы знаем, что высказывание «Мучить животных аморально» истинно. Избавляясь от метафизического понятия истины как соответствия, дефляционизм сближает такого рода этические высказывания с описательными высказываниями типа «Снег белый». Согласно дефляционизму, предложение «Снег белый» истинно тогда и только тогда, когда снег белый. Аналогичным образом можно сказать, что предложение «Мучить животных аморально» истинно, тогда и только тогда, когда мучить животных аморально, то есть тогда и только тогда, когда мы искренне говорим (думаем), что мучить животных аморально. (Блекберн говорит о выражении установки.) Квази-истина, таким образом, может трактоваться не как субстанциальное свойство, а как дефляционистская истина, которая не есть истина в смысле буквального соответствия (соответствия в содержательном смысле, соответствия как теоретическая реконструкция).
На наш взгляд, чистый дефляционизм неудовлетворителен, так как он ограничивается лингвистическим подходом к истине, игнорирует субстанциальную концепцию реальности. Мы интерпретируем квази-истину как истину контекстуальную, а не чисто дефляционистскую, то есть как соответствие в контексте, как корректное применение квази-реалистической установки (правила/нормы) в контексте. Мы делаем различие между правилами (нормами), например, правилами «Снег белый», «Мучить животных аморально» и их применениями в контексте. Совокупность устоявшихся (парадигматических) применений правила определяет область его применимости, само правило. Таким образом, о правиле можно сказать, что оно (как бы) истинно, соответствует этическому факту. Это аналог метафизической истины в смысле соответствия. Но строго говоря, как уже было сказано выше, правила (нормы) как таковые ни истинны, ни ложны. Истинны или ложны их применения.
Контекстуальный реализм в нашем понимании — умеренно дефляционистская позиция. Онтология не отвергается, а контекстуализируется. Высказывание «Снег белый» истинно (или ложно) в контексте. При этом если в контексте мы корректным образом говорим, что снег белый, то он действительно белый, то есть свойство «белый» является его реальным свойством. Аналогичным образом в контексте отсылают к этическим фактам и свойствам этические высказывания. Отметим, что выбор можно сделать не только между корректными (истинными) и некорректными (ложными) применениями норм, но и между самими нормами, в том числе и между этическими нормами. Проблема выбора норм аналогична проблеме выбора формы жизни. В обоих случаях могут быть радикальные разногласия, которые могут быть устранены только на практике.
Хотя квази-реализм первоначально этическая позиция, она может быть перенесена на другие области. Например, Блекберн применяет её для понимания того, каким образом мы можем иметь знание о вероятности события. Фрэнк Рамсей утверждал, что, когда мы говорим о вероятности, мы выражаем степень субъективной уверенности и, следовательно, верим, что соответствующее предложение истинно. Остаётся открытым вопрос о том, знаем ли мы и каким образом, что предложение «Вероятность события А равна р» истинно? Согласно квази-реалистической позиции Блекберна, мнение (высказывание) о вероятности, которое может быть более или менее обоснованным, как и любое мнение, при достаточном обосновании может быть знанием: «Могут спросить: можете ли Вы знать, что период полураспада радиоактивного атома сто лет? Можете ли Вы знать, какой может быть вероятность? Я отвечаю: «Да, мы можем». Существует уровень доверия, которого Вы придерживаетесь. Предположим, что Вы не знаете, какова вероятность, а только предполагаете. Но существует опять же возможность всё более и более надёжно обоснованных мнений, покуда в конце концов Вы не отказываетесь от шансов на улучшение. Вот когда Вы начинаете говорить о знании»[190]. С точки зрения контекстуальной, уровень доверия, при котором можно говорить о знании, зависит от контекста. Для Витгенштейна «понятие знания сопряжено с понятием языковой игры» («О достоверности», § 560).
4. Квазиреализм Шрёдингера. Битболь полагает, что задолго до Блекберна квазиреализм разрабатывался Шрёдингером в физике[191]. Философская позиция Шрёдингера не была ни реалистической в традиционном смысле, ни антиреалистической[192]. Поэтому одни физики и философы считали её реалистической, тогда как другие — антиреалистической. С одной стороны, Шрёдингер проповедовал «идеалистический монизм», а с другой он трактовал волновую функцию и другие теоретические объекты как «реальные» в том же самом смысле, в котором реальными являются окружающие нас макроскопические объекты, такие как столы и деревья. Реализм в отношении последних он понимал не в традиционном смысле предопределённых объектов «внешнего мира», а с точки зрения прагматико-лингвистической. Это как раз и позволило ему сравнить их с теоретическими квантовыми объектами, которые идентифицируются при помощи теории и опыта. Начиная как бы с дереализации окружающих нас материальных объектов, Шрёдингер рассуждал как антиреалист. Фактически, на этой стадии он устанавливал, что определённые макроскопические и микроскопические объекты (а объекты по определению являются определёнными) не существуют сами по себе, так сказать в своей автономности или абсолютности, а лишь в контексте, то есть в рамках прагматико-лингвистической перспективы, которая и делает из вещей объекты. На следующей стадии развития своей мысли такое начало позволяет трактовать уже теоретические объекты как «реальные». При этом «реальность» волновой функции и других теоретических объектов оказывается неметафизической. То есть волновая функция, «представляющая» квантовую систему, не ставится ей в «соответствие» как некоторой абсолютной реальности, существующей во «внешнем мире». Шрёдингер отвергал понятие «внешнего мира». «Я» и наблюдаемый мир у него неразделимы. Мы бы сказали, что теоретические объекты у Шрёдингера оказываются «реальными» в смысле своей укоренённости в реальности, то есть в том смысле, что они позволяют идентифицировать в контексте реальные объекты того или иного вида. Поэтому Битболь видит в рассуждениях Шрёдингера, в его движении от начального антиреализма к последующему «методологическому» реализму квази-реализм в физике в том же самом смысле, в котором развивает эту доктрину Блекберн[193].
С нашей точки зрения, Шрёдингер систематически допускает смешение категорий идеального (теоретического) и реального. В то же время это смешение оказывается плодотворным, поскольку оно позволяет отказаться от метафизической картины реальности. Кроме того, на следующей стадии рассуждений оно частично устраняется. Действительно, как уже было сказано выше, Шрёдингер сравнивает реальность макроскопических объектов с «реальностью» теоретических объектов. Это анти-реализм. Реальное принимается за идеальное. Затем утверждается, что теоретические объекты так же реальны, как реальны макроскопические объекты. Это тоже анти-реализм. Идеальное принимается за реальное. Смешение категорий налицо. В то же время возможна интерпретация демарша Шрёдингера в терминах Блекберна: квази-реалистическая трактовка теоретических объектов «как если бы» они были реальными, означает что волновая функция и другие теоретические структуры идентифицируют реальность того или иного вида в контексте. Точно так же, строго говоря, идентифицируют реальность столов и деревьев наши обыденные концепты, которыми мы овладели ещё в детстве и по этой причине просто не замечаем их присутствия.
При переходе от метафизического анти-реализма к «методологическому» (то есть не метафизическому) реализму — термин, употребляемый Битболем — волновая функция у Шрёдингера начинает как бы описывать, как бы «представлять» реальную систему. Квази-реалистическое «как бы» означает, что описываемая (представляемая) система, на самом деле, не имеет статуса изолированной в себе метафизической реальности. У Шрёдингера это справедливо и для столов и деревьев. Они оказываются «как бы» реальными в метафизическом смысле. На самом деле, они действительно реальны, «реально реальны» и имеют определённое существование в рамках нашей формы жизни, но не в метафизическом смысле.
Для Битболя Шрёдингер «не реальный реалист». Если под этим понимается «не метафизический реалист», то мы согласны. Но если под этим понимается позиция, которая не является полноценным реализмом, то такая позиция может быть лишь идеализмом или реализмом с примесью идеализма. Битболь также утверждает, что методологический реализм Шрёдингера укоренён в его метафизическом анти-реализме. В рамках контекстуальной интерпретации мы бы сказали, что идеальное укоренено в реальном, а онтология вторична по отношению к реальности как таковой и контекстуальна.
Битболь полагает, что следующее определение реальности, которое даёт Шрёдингер, является антиреалистическим: «(Реальность) нам даётся некоторым образом как фигура пересечения всех детерминаций многочисленных индивидуальных наблюдателей — и даже всех воображаемых индивидуальных наблюдателей. Она — каталог (фр. un condensé), который они составили в целях экономии мысли»[194].
На наш взгляд, это не определение реальности, а определение того, каким образом та или иная определённая реальность нам даётся в явлении, определение нашего мира («формы жизни»), состоящего из всевозможных «языковых игр», явлений. Реальность нам даётся во всевозможных явлениях, которые предполагают индивидуальных наблюдателей. Реальность же такова, какова она есть. Это её единственное определение.
Итак, подлинные теоретические объекты, а не псевдо-объекты, укоренены в реальности. И лишь в этом смысле они «реальны». Сами же по себе они идеальны, относятся к категории идеального. Теоретические объекты — реальные установки, правила/нормы, позволяющие идентифицировать реальные объекты, которые в своей реальности неотличимы от макроскопических реальных объектом, таких как столы и деревья. Отличие между ними не в реальности или степени реальности, как если бы объекты одного вида были менее реальны, чем объекты другого вида, а в природе реальности. Природа микроскопической реальности другая, чем природа окружающей нас макроскопической реальности.
Битболь считает, что Шрёдингер был квази-реалистом за 50 лет до Блекберна, а также видит сходства между квази-реализмом в физике и естественной онтологической установкой Артура Файна[195]. Ни та, ни другая позиция не утверждает, что научный прогресс приближает нас к некоторой предопределённой окончательной онтологии физического мира. И та, и другая позиция без труда объясняют куновскую смену парадигм, наличие или отсутствие транспарадигматических элементов или структур. Отличие между двумя позициями в том, что квази-реализм более гибкая позиция. «Естественная онтологическая установка» пытается сохранить некоторую естественную с её точки зрения онтологию. Квази-реализм же готов заменить любую онтологию на более элегантную или удобную. Это согласуется с витгенштейновским по духу контекстуальным реализмом, который, как нам кажется, есть уточнение и углубление позиции квази-реализма.[196]
Мы интерпретировали квазиреализм и, в частности, квазиреализм Шрёдингера в терминах контекстуального реализма. На наш взгляд, последний уточняет и углубляет позицию квази-реализма.
4.4. Зайцев К. Л. К анализу лакановской трактовки желания как этического критерия поступка
В поиске этического критерия поступка в первую очередь сомнению подвергается желание. Со времён Никомаховой этики именно в желании видят основную причину того, что сворачивает человека с пути этической добродетели. Поэтому предложение Жака Лакана следовать своему желанию, которое можно считать краеугольным в этике психоанализа, выглядит едва ли не провокацией. Тем больший интерес представляет исследование аргументации, обосновывающей данное предложение.
В данной представлены промежуточные итоги исследования лакановской аргументации преимущественно на материале, представленном в тексте его семинара «Этика психоанализа»[197].
Прежде чем перейти к разбору аргументации Жака Лакана следует указать в самом общем виде на принципиальную особенность его понимания желания. Обычно этическая подозрительность в отношении желания исходит из положения, что желание — это вожделение частного блага, блага для себя, в то время как настоящая добродетель — это следование общему благу. Более того, желание и понимается как желание какого-либо блага для себя. Именно такое определение желания Жака Лакан и считает ошибочным. Желание — это не вожделение блага, желание имеет принципиально иное устройство. Более того, стремление к благу и желание функционируют совершенно по-разному, предварительно эту разницу можно выразить следующим образом — стремление к благу подчиняется логике удовлетворения, в то время как следование желанию не предполагает удовлетворения, можно даже сказать, что оно подчиняется логике неудовлетворения. Именно новое определение желания даёт возможность полагаться на него как на то, что может выступать этическим ориентиром поступка.
Итак, логика желания отличается от логики следования благу или логики удовлетворения. В чём же заключается этическая логика следования благу? Чтобы это уяснить не обойтись без Аристотеля, который одним из первых в истории человеческой мысли смог внятно выразить структуру этой логики. С разбора позиции Аристотеля Ж. Лакан и начинает свой семинар.
Как известно, согласно Аристотелю всё сущее стремится к полноте своего существования, стремится к совершенству, качеством которого обладает только одна божественная Вещь, неподвижно расположенная в центре всего, выступающая притягивающей к себе причиной движения, к которой и стремится всё сущее. Эта божественная Вещь и является благом как таковым, в котором нуждается сущее будучи каждая сама по себе недостаточной, несовершенной вещью.
Лакан усматривает в этом параллель с открытием З. Фрейда, обнаружившим сходную структуру в устройстве психического аппарата, которую излагает в одной из своих ранних работ «Наброске психологии»[198]. Топологически схожую позицию абсолютного блага Аристотеля у З. Фрейда занимает т. н. Вещь, das Ding, или первичный материнский объект влечения — выступающий фантазматическим центром психического мира младенца. Именно отношения младенца и его матери служат прообразом отношения субъекта с Благом как таковым, аутоагафоном[199].
Уже в «Наброске психологии»[200] З. Фрейд сталкивается с ключевой проблемой, которая порождается логикой удовлетворения. Если психический аппарат устроен так, что руководствуется лишь логикой поиска удовлетворения, т. н. принципом удовольствия, то он обречён на погибель, поскольку не сможет отличить реальный объект, способный принести удовлетворение, от галлюцинаторного объекта. Именно поэтому З. Фрейд вынужден был расширить объяснительные возможности теории введением в неё т. н. принципа реальности. В таком виде теория, предложенная З. Фрейдом совершенно не отличается от этической теории Аристотеля, который, задавшись вопросом о том, почему, если стремление к благу естественно присуще всякому существу мы сталкиваемся в жизни с такими существами как пропойцы, растратчики и т. д., вынужден ответить так, что следование своему желанию и порождает отклонение от разумного следования благу.
В психоаналитической практике мы обнаруживаем этику блага, совпадающую с этикой Аристотеля, как бы странно это ни было, в запросе пациента, обращающегося к психоаналитику в поисках облегчения своего страдания. Можно сказать, что пациенты, или страдающие от невроза обыватели — стихийные последователи Никомаховой этики. Пациент в поиске избавления от страдания не просто высказывает желание быть хорошим, но и полагает, что следование принципам, поразительно совпадающим с принципами Никомаховой этики, должны привести к избавлению от страдания. В наиболее общем виде запрос пациента можно сформулировать следующим образом: «Почему я несчастен, хотя я всё время стремлюсь быть хорошим? Что я делаю не так?». Жак Лакан назвал это «требованием счастья»[201]. Одно из открытий психоанализа как раз и состоит в том, что следование таким путём оборачивается для пациента лишь разочарованием и неудовлетворённостью, а его мечта о счастье в ответ на усилия «быть хорошим» остаётся только несбывшейся грёзой. Поиск психоаналитиками технического решения терапевтической задачи привёл к иному решению этической проблемы.
Итак, в основе этики блага лежит поиск удовлетворения и то с чем сталкивается человек, что выступает причиной его страдания — это невозможность удовлетворения. Для объяснения возникновения невротических симптомов З. Фрейд сделал фундаментальное допущение, которое состоит в том, что желание человека представленное как желание удовлетворения сталкивается с запретом, который к тому же выступает конституирующим принципом человеческой культуры как таковой. Запрет на инцест это не просто запрет кровосмешения — это запрет на получение удовлетворения как такового. Иными словами, единственное на что может рассчитывать пациент, пришедший с вопросом как ему получить наконец-то удовлетворение, заключается в том, что удовлетворение запрещено, а значит удовлетворение законным способом получить нельзя. (Добавим, что и незаконным тоже, но это потребует более развернутой аргументации, которую мы в рамках данного доклада позволить себе не можем). Рассмотрим как функционирует запрет с позиции открытой З. Фрейдом логики бессознательного.
Исследуя сновидения З. Фрейд совершает открытие, которое состоит в том, что в сновидении сновидцу в зашифрованном виде является его желание[202]. Другими словами, желание, с одной стороны, ему является, с другой, оно остаётся неузнанным, а потому и не удовлетворимым. Кроме того, Фрейд открывает два способа шифрования: сгущение и смещение. Как позже покажет Ж. Лакан сгущение — это ничто иное как механизм метафоры, а смещение — метонимии[203]. И тут мы вправе задаться вопросом, а что если удовлетворение желания не просто запрещено, а невозможно в силу того, что субъект никогда не может получить доступа к тому объекту, который мог бы желание удовлетворить, потому что тот облик, в котором желаемое является субъекту, например в сновидении, всегда имеет облик чего-то другого. Иначе, если субъект и может рассчитывать на удовлетворение, то всегда на удовлетворение с помощью чего-то другого. Вещь или тот объект, который мог бы принести удовлетворение явлен нам метафорически, т. е. представлен заместительным объектом — метафорой. Иными словами, логика блага это логика стремления получить удовлетворение желания с помощью какого-то вполне определённого объекта, который выступает метафорой, заместителем Вещи, абсолютного блага. Т. е. это и есть пресловутая морковка за которой вынужден бежать осёл. В каком-то смысле таким ослом является пациент, который разочарован морковкой. В определённом смысле, любое этическое учение, созданное до сих пор это результат спора о «морковках», т. е. о том, какое благо полезнее или какое ближе к абсолютному благу. В этом смысле благо то, что не допускает удовлетворения, а этика блага — это этика принципа удовольствия, этика самоограничения.
И здесь мы сталкиваемся с совершенно новым решением, которое предлагает Ж. Лакан. Траектория этики блага — это траектория поиска метафоры-благозаместителя, эффект которой заключается в успокоении-удовлетворении иначе говоря в смерти. Именно к этому парадоксу и пришёл З. Фрейд в своих рассуждениях в «По ту сторону принципа удовольствия»[204].
Итак, в основе этики блага лежит логика метафоры, логика замещения абсолютного блага объектом-заместителем. Иначе обстоит дело с логикой желания. Траектория желания — это траектория вне-удовлетворения, а поскольку на этой траектории удовлетворение недостижимо, то логику желания следует определить как логику не-успокоения или жизни. Эта логика организована как метонимия. Поясним этот тезис.
Благо всегда мыслится положительно, как то что есть. Следовательно желание обычно понимается как желание чего-то, желание какого-то предмета, который может принести удовлетворение. Благо — это всегда то, что есть, это реально существующие предметы, которые могут быть использованы субъектом. Логика метафоры — это логика стяжательства. Но Ж. Лакан определяет желание как нехватку[205]. Это определение наследует блестящему определению человеческого желания, которое дал В. Кожев, участником семинаров которого Ж. Лакан некогда являлся, что желание — это всегда желание желания, в отличие от животного желания, которое всегда желание недостающего объекта. Другими словами, желание — это нечто, что не дано изначально в качестве одного из предметов бытия, желание это не присутствие, а отсутствие, которое стремится быть, т. е. желание характеризуется как бы переходным состоянием из небытия в бытие, оно стремится быть. Это позволяет иначе прочесть «Толкование сновидений» З. Фрейда. А что если работа сновидения состоит не в том, чтобы скрыть запрещённое желание, а наоборот, дать желанию место осуществиться?[206] Но если желание не существует актуально, а только в виде нехватки бытия, как бы виртуально, то для того, чтобы быть, быть признанным оно должно обрести хоть какую-то определённую форму. Эту форму бытия и даёт ему взаймы те изобразительные средства, которыми обладает бессознательное — метафора и метонимия. Но в отличие от метафоры, которая придаёт желанию завершённую форму, т. е. форму блага, метонимия — это принципиально незавершённая форма, которая имеет порождающий потенциал. Структура желания, таким образом, определяет структуру желания как незавершённого, сопротивляющегося удовлетворению. В этом смысле следовать своему желанию — эта та этическая позиция, в которую может быть преображена изначальная этика пациента, как поиска удовлетворения благом. Этика желания — это этика не-отказа от жизни, но отказа от смерти как упокоения, удовлетворение благом. Подводя итог седьмого семинара Ж. Лакан утверждает, что «единственное, в чём человек <…> может быть виновен так это в том, что он поступился своим желанием»[207], предал своё желание, когда согласился обменять его на перспективу удовлетворения благом.
Итак, лакановский подход к определению сущности желания в корне меняет перспективу его соотношения с поступком. В этой перспективе желание предстаёт не тем, что может быть помыслено как мотив, движущая сила поступка, но именно как то, что задаёт этическое измерение поступка. В аристотелевской перспективе желание — это то, что уводит человека с пути добродетели, как бы прельщая его естественной притягательностью блага для себя. Ведь для того, чтобы ориентироваться благом общим, благом как таковым, приходится совершать усилия, в отличие следования собственному, частному, эгоистичному благу. Но если желание это не то, что производится влечением к благу, пускай в качестве блага ошибочного, но всё же блага по своей природе, а нечто такое, что к благу не сводимо ни в каком его виде, то следовать желанию означает решиться следовать чему-то такому, что не обещает вознаграждения (удовлетворения). Наоборот, следовать своему желанию означает решиться отказаться от перспективы удовлетворения, и сделать ставку на нечто принципиально неуловимое, не определённое, не завершённое, на то, что не может быть сведено к чему-либо сущему, что противостоит свершённости и конечности, и может быть в силу этого соотнесено с жизнью как таковой. Такой способ мышления Лакан назвал мысленным экспериментом, который «… состоит в том, чтобы рассматривать вещи в перспективе, как я выразился, Судного Дня, то есть при пересмотре этики, к которой нас приводит психоанализ, воспользоваться в качестве эталона отношением поступка к обитающему в нём желанию»[208].
Таким образом, психоанализ, будучи изначально и оставаясь методом лечения, но идущий «к своей цели путём возвращения к смыслу поступка[209], оказался способен вернуть поступок в этическое измерение там, где казалось бы, этическое измерение должно было быть окончательно утеряно в перспективе следования своему желанию.
4.5. Ермолович Д. В. Самоактуализация как удовлетворение/осознание сформированных потребностей и формирование новых потребностей
Исходя из позиции марксизма о целевой (вслед за этическим ригоризмом и долженствованием Канта) роли сущности человека для социума (этический ригоризм меняется на сущностное обоснование природы человека, как для человека, так и для социума, что раннего Маркса (младогегельянца) сближает с позицией Гегеля, а чуть позже и с Фейербахом, т. е. гуманизм и человек духовно абсолютизируются) и разрешение видится в творческой (трансцендентальной, диалектической) трансформации человеческой сущности… Трансформация произойдет, по мнению Маркса, в процессе труда и с самим трудом, а именно человеческий род в эволюции своей жизнедеятельности не только последовательно обнаруживает преодоление разрушающего человеческую личность физического труда, но и в стратегиях результативной социальной практики, программах профессионально-личностного самоопределения самодеятельно (творчески) созидает историческую перспективу человеческого общества.
Маркс однозначно выступает против всяких форм индивидуального труда (эффективный труд всегда разделённый — исторически только так и мог появится), а вместе с этим и всяких форм индивидуального потребления, не толкуемых, а фактически являющихся частно-собственническими, за коммунальную самодеятельность (в перспективе): «…пролетарии, чтобы отстоять себя как личности, должны уничтожить имеющее место до настоящего времени условие своего собственного существования, которое является в то же время и условием существования всего предшествующего общества, т. е. должны уничтожить труд… и должны низвергнуть государство, чтобы утвердить себя как личности»[210].
Таким образом, пролетарий знакомый с угнетающим, отчуждающим трудом берет на себя миссию не только могильщика всяких форм угнетения, но и миссию борьбы за труд самодеятельный, творческий: если рабский труд требовал силы физической, то современный, а особенно будущий труд, требует силы интеллектуальной и нравственной. Свобода поэтому не только осознание (знание) необходимости, но и результирующая (приносящая результат: освобождение и радость) деятельность, завершающая действия (поступательно, подконтрольно, воплощая замыслы), превращающиеся в человеческие поступки.
Онтологически, первопричинно обнаруживается особенная роль труда в формировании человека и становлении человеческой сущности (Ф. Энгельс), праксеологически — необходимость преодоления труда: множественное расщепление труда вплоть до отождествления противоположностей (созидательный и разрушительный, умственный и физический, творческий и рутинный), превращение труда в источник саморазвития, «строительный кирпичик» человека, где через неорганическое тело (природу) формируется органическое (социум), через материальное — духовное, т. е. в процессе трудовой деятельности (всегда социальной) преодолевается среда-природа в целях её преобразования (превращение средства в цель), собственно созидается человек в форме целевой самоактуализации (личностного развития), посредством коммунального творчества.
Вообще-деятельность опосредована социальной действительностью, т. е. подчинена мотивационным, ценностным, идеальным социо-культурно-историческим основаниям. По мере того как человек универсально-практически всю природу превращает в своё неорганическое тело (К. Маркс), он осознаёт свою социо-культурно-историческую ответственность. Деятельная человеческая универсальность проявляется в переживаниях, рефлексии, отношении к действительности; обнаруживается единство сознания и деятельности, открывается дорога к поиску смысла своего существования.
А. Н. Леонтьев описал в психологической теории деятельности[211] всякого рода ценностно-результирующие сдвиги («сдвиг цели на действие» после «сдвига мотива на цель»), порождающие не только непрерывность процесса, но и качественные трансформации форм деятельности и форм труда: в процессе достижения цели той или иной деятельности при положительных подкреплениях достижения, сама цель начинает вызывать интерес у субъекта деятельности, и трансформируется в мотив, образуя и расширяя систему мотивов побуждающую субъекта к деятельностной активности.
Смысл же человеческой деятельности не только в том, чтобы не совершать случайно или систематически «дурных» действий (о дурной бесконечности в мыследеятельности см. у Гегеля), но и в том, чтобы созидать обстоятельства, прекращающие саму возможность бесконечного поиска причины причины (поиска разного рода оправданий), ибо таковой (причиной причины) в определённый момент становится человек, берущий всю полноту ответственности за содеянное на себя.
В свою очередь разработка культурно-исторической традицией деятельностных стратегий понимается как средство объективации (интериоризации) действительности, а деятельностная тактика (управление) как деятельность по субъективации модели и образа действия действительности (экстериоризации) позволяет прийти к пониманию управления предметной деятельностью по контуру результата (модели результата), как базе целеполагания и целедостижения — встречи объекта и субъекта, как создание ансамбля средств и целей, как сближение-сдвиг результата на действие и действия на результат.
Последние обстоятельства придают человеческой практике прерывно-непрерывный характер: практическая деятельность всегда приостанавливает процесс и оформляет его не только в виде какого-либо промежуточного результата деятельности, но и требует достаточной удовлетворённости (катарсиса) для завершения. Теоретически, в логике процесса выявляются как минимум три стадии — рассудочная, негативно-разумная и позитивно-разумная[212]. Таким образом, снимается формальная (рассудочная) логика диалектической, но для Г. Гегеля это не цель — ему нужна спекуляция (позже это назовут симуляцией и сведут до симулякра), т. е. схватывающая единство система, то на чём можно остановить свою мысль (красивое, идеальное и потому абсолютное). Пока система касалась абстрактного (бытие, становление, действительное, которое разумно), то это претензий не вызывало, но когда речь пошла о конкретном (прусская монархия), то этой спекуляции Г. Гегелю уже никто не простил. Правда вины Гегеля в этом нет, фантазировать о сущности замыслов Абсолюта Г. Гегель всегда отказывался — достаточно было любоваться созданной им Системой (ну, а диалектика — это всего лишь средство). Методом, логикой, теорией, практикой и мировоззрением диалектика станет позже, у К. Маркса. Еще позже Л. С. Выготский скажет: «Мысль рождается не из другой мысли, а из сферы потребностей».
Из вскрытых множественных связей и общей природы генезиса, разного рода иерархий, причинно-следственных соответствий, возможно, обозначить ряд важных для понимания онтогенеза творческой деятельности (см. Таблицу) принципов: единства сознания и деятельности, развития, периодизации (цикличности развития, кризисов роста и формирования новообразований, как ориентиров развития, так и ведущих при этом типов деятельности — личностное развитие прямо связано с сензитивными периодами психического/природного «переформатирования» личности).
Уже буддизм осознает проблемное поле самоактуализации — необходимость разрыва круга, прекращения реинкарнаций, доводя до логического завершения критическую оценку мира, в котором живёт человек. Отождествив человеческое бытие и страдание (страда — тяжёлый труд на пределе возможностей), буддизм рисует особенно мрачную картину мира, в котором не только всё обречено на уничтожение, но даже любая радость, иллюзорно привязывая человека к такому существованию, таит в себе страшную опасность новых «кармических» перерождений, наполненных не менее страшным злом.
Таблица. Онтогенез творческой деятельности
| Предполагаемый сензитивный период | Иерархический уровень действий / деятельности | Ведущий тип деятельности |
|---|---|---|
| Моральная зрелость | Творческая (рефлексивно-индивидуализированная) деятельность | Творчество |
| Гражданская зрелость | Социально-значимая деятельность (социально-ответственное поведение) | Труд |
| Юность | Протодеятельность (нормативное поведение) | Общение |
| Отрочество | Социальные действия (целе- и ценностнорациональные) | Учение |
| Детство | Просоциальные действия (ритуальные и автоматизмы) | Игра |
| Младенчество | Рефлекторно-инстинктивные действия (подражательные) | Предметные манипуляции |
Рассматривая самоактуализацию как удовлетворение/осознание сформированных потребностей и формирование новых потребностей в логике фундаментального принципа единства сознания и деятельности (дан С. Л. Рубинштейном[213]) можно предложить умозрительный конструкт (см. Схему), раскрывающий смысл самоактуализации как процесса.
Утрата в современной, постмодернистской гносеологической культуре сначала объекта, субъект-объектных отношений, а затем и самого субъекта ставит разрешение проблем самопознания/ саморазвития в сложную ситуацию, т. е., чтобы разрушить образ субъекта (как это делает постмодернизм) сначала этот образ необходимо создать. Но реальная (рутинная, массовая) бытовая культура уже потеряла субъекта, а с ним и субъект-объектные отношения и неизбежно готова потерять сам объект, что окончательно не позволит превратить накопленные социально-гуманитарные технологии в инструмент воспроизводства человеческой цивилизации. Поэтому, альтернативной конструктивной идеей может выступить идея взаимоотношений «несубъекта» с «необъектом». Что это может значить?
Кантовско-фихтеанская гносеологическая антиномичность порождает своеобразную образовательную и медиа- (дистанционную) технологию, т. е. позволяет рассматривать с одной стороны несубъект как гносеологическое пространство существования потенциального объекта, иллюзию объекта, а необъект, с другой стороны, таким же образом для потенциального субъекта и его иллюзию. Об иллюзиях здесь речь ведется потому, что принятая дихотомия настолько проста, насколько и не верна, но вот как раз сама иллюзия сохраняется. Отношения же в этом случае необходимым образом становятся потенциальными, «виртуальными» и «конструировать» приходиться «искусство возможного».
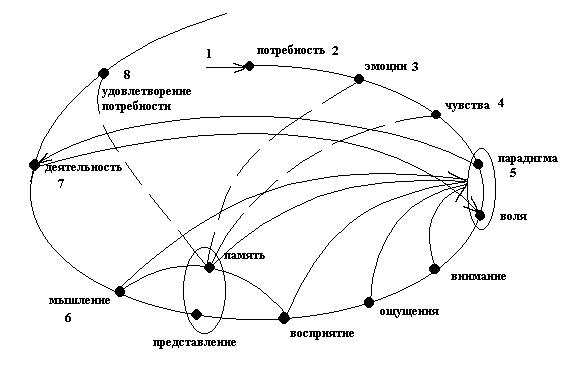
Осознание факта отношения как такового.
Осознание себя как объекта отношений.
Осознание себя как субъекта отношений.
Осознание себя «деятелем», мотивационная работа чувств.
Осознание цели, парадигма как образ сформированного «Я».
Осознание средств — мыследеятельность.
Осознание единства средств и целей.
Осознание своей безотносительности, чувство индивидуальной свободы.
Давая возможные характеристики несубъекта (вторичность, абстрактная тотальность, картина мира и др.) и необъекта (первичность, конкретная фрагментарность, образ «Я» и др.) мы попадаем в новое проблемное поле, это путь к наукам о «невозможном», парадоксам и парадоксальности творчества.
Принципиальная сложность цели — созидание (формирование, развитие, образование) Человека, требует раскрытия принципов процесса созидания: гуманности, креативности, взаимодейственности. Поиск оснований, ориентиров, средств (социо-, психо-, медиа- и т. д.) для достижения такой цели осуществляется через технологизацию названных принципов в рамках универсума отношений, в результате чего, возможно, конструируется, моделируется визуальный ряд, видимость решения поставленных задач. Пока же только формулируется проблема потенциальной результативности созидающих воздействий в наличных условиях решения задач развития.
Дать оценку творческой деятельности, динамичности рефлексивных процессов, видеть за индивидуальным сознанием способность к производству субъективного, понимать, что человек выступает субъектом деятельности,— значит, понимать, что деятельность очеловечивает, окультуривает, идеализирует человека в образе общественного существа. Таким образом понимаемая детерминация индивидуального сознания проявляет себя как субъектная модель развития и формирования человека, где ведущим параметром развития и формирования является индивидуальная творческая активность. Разделение процесса по этапам и достижение промежуточных результатов (для контроля процесса) приводит к неизбежному параллельному/боковому мышлению (концепция латерального мышления Э. де Боно) и/или проблематизации по Г. П. Щедровицкому, где без рефлексирования ни контроль, ни сам процесс невозможен. Этапность такого детерминирования характеризуется всё большей включенностью индивидуальной творческой активности в процесс, как человеческих взаимоотношений, так и отображения действительности вообще, а именно:
нулевой этап — игра, «недеяние»
– нулевой-первый этап — ощущение жизни, парадигма существования (сама возможность как естественность, что-то в духе декартовского «cogito ergo sum»);
– нулевой-второй этап — восприятие себя как несубъекта отношений (способность видеть, слышать и т. д.);
– нулевой-третий этап — восприятие себя как необъекта отношений (способность смотреть, слушать и т. д.— культ и культура сосредоточения и созерцания);
первый-третий этапы — единение сознания и деятельности
– первый этап — «осознание» факта отношения как такового;
– второй-первый этап — осознания себя как объекта отношений;
– второй-второй этап — осознание себя как субъекта отношений;
– третий-первый этап — осознание себя человеком (содержательно в узком или широком, т. е. индивидуальном смысле);
– третий-второй этап — осознание целей индивидуального действия;
– третий-третий этап — осознание средств индивидуального действия;
– третий-четвертый этап — осознание единства средств и целей, выход к индивидуальной деятельности;
четвертый этап — «деяние»
– четвертый-первый этап — самоопределение и самоактуализация;
– четвертый-второй этап — диалектическое снятие неопределенности взаимодействия, осознание своей безотносительности, чувство индивидуальной свободы, осознание смысла индивидуального существования.
Причём игра как несубъектная стратегия жизни, опыт культуры и подготовка к знанию и осознанию — «знание делает человека свободным, но и несчастным» (Э. М. Ремарк) — есть не только основание «искусства возможного», социально-гуманитарной стратегии, но должно, уже в настоящем, найти своё место в процессах личностного и профессионального становления.
Однако более важным выводом из приведённой схемы будет интерпретация разрешения социокультурной проблемы принципиальной возможности формирования высших потребностей (приобретённых — по Маслоу). Удовлетворяя ту или иную базисную потребность человек должен «разорвать» цикл жизнедеятельности: удовлетворение потребности снимает (диалектически отрицает) потребность. Обратное приводит не только к «зацикливанию», формированию привычки, автоматизмам, но и к формированию зависимости, когда процесс удовлетворения сворачивается до практически «бессознательных» конструкций и посредством закреплённых автоматизмов в памяти выходит на «удовлетворение». Снятие же потребности — не отказ от самой потребности (чего нельзя сделать с потребностями дефицитарными), а отказ от способа удовлетворения данной потребности, т. е. освоение иных способов удовлетворения потребностей — развитие способностей, творческой актуализации, самоопределения.
Результатом такой стратегии жизнедеятельности становится последовательная трансформация личности[214]: социализация, персонификация, индивидуализация, универсализация — с целью достижения человеческой максимы (А. Адлер, Ж. Пиаже), самости (К. Г. Юнг), самоактуализации (А. Маслоу).
Формальная технология процесса самореализации и трансформации личности требует соблюдать строгую последовательность конкретного разрешения проблем и исполнения каждого этапа трансформации. Единственно, что возможно в практике такой трансформации, это сознательное или нет прекращение движения к следующему этапу, ибо предшествующие шаги всегда будут образовывать самодостаточную (самоцельную и результативную) последовательность культурообразующих индивидуальные личностные качества начал. Так, завершение только первого этапа трансформации (социализации) — это готовность, установка, восприимчивость требований стандартов социально-культурных программ, имеющих ту или иную конкретно-историческую определённость. Завершение второго этапа (персонификации) выводит не только на способность исполнительски действовать в соответствии с существующими требованиями социально-культурных стандартов, но и осмысленно переживать чувство социально-культурной идентичности, соответствующей конкретным жизненным обстоятельствам. И только завершение третьего этапа трансформации (индивидуализации) предполагает истинную локализацию творческих функций развитой личности, её универсализацию в перспективе, мировоззренческую зрелость и готовность к осознанию своей социальной и культурологической роли, меры ответственности и как следствие возможность занять достойное место в обществе. Знание и соблюдение порядка рассмотренных выше этапов трансформации индивидуального сознания и деятельности ведут к универсальным организационным формам развития, жизни и как следствие обучения (индивидуальным программам развития; самоорганизации, личной заинтересованности и высокому уровню социальной поддержки), а потому к передаче, закреплению и распространению опыта творческих технологий в быту, науке, искусстве и культуре.
4.6 Никифоров А. В., Синяков О. В. Библия и Коран: истоки и параллели
Казахстан — многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором складываются взаимоотношения многообразных религиозных организаций с государством и обществом. Для стабилизации этих отношений важным является поиск диалога между религиозными организациями и объединениями, который предполагает сознательную ориентацию на взаимоуважение традиций, имеющих право на существование иного культурного мира. Для конструктивного диалога культур и религий необходимо акцентировать внимание на ценностных идеалах, являющихся едиными для всех религиозных систем, что предпринимается авторами в данном исследовании и представляет его актуальность. В век глобализации, технократичный век, продвижение духовных ценностей имеет особое значение.
Модель межконфессионального согласия, заложенная в казахстанском обществе, отражает саму политику государства, которая за одну из высших ценностей объявила создание единого общества. Данная цель достигается посредством последовательных шагов в рамках установления в обществе светских принципов и правовых норм. Поэтому в преамбуле Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 11 октября 2011 года прописана роль, ислама ханафитского мазхаба и христианства православного толка в развитии культуры и духовной жизни казахстанского народа[215], тем самым подчеркивая одну из особенностей религиозной жизни в стране.
С. 2016 года в школах Казахстана введён обязательный предмет — религиоведение. Основными целями введения данного предмета объявлены повышение общего уровня знаний о религии и формирование у молодежи толерантного сознания, не приемлющего идей экстремизма и терроризма.
Республика Казахстан посредством своей собственной модели реализовала человеческий потенциал казахстанского общества и направила его на созидание более тесных и дружелюбных связей внутри государства вне зависимости от его расовой, этнической и религиозной принадлежности. В ходе 11 сессии Ассамблеи народов Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил сделать религиозные праздники, первый день Курбан айта и православное Рождество, выходными днями. На ряду с мечетями возводятся и христианские храмы. Известный турецкий писатель Харун Яхья в своей книге «Ислам проклинает террор» пишет: «Важнейшая истина, которой Коран учит верующих — это глубочайшее почитание и уважение к местам совершения богослужений христиан и иудеев. Коран гласит, что места поклонений людей Писания, т. е. монастыри, церкви и синагоги находятся под защитой Аллаха»[216].
Как считают сегодня многие теологи, отношения между религией и наукой должны строиться по принципу дополнительности, без каких-либо крайностей — чрезмерного превознесения или принижения той или другой стороны. Одна из важнейших задач теологии — построение единой, целостной картины мира.
Современное общество, видимо обоснованно, видит в религии некую духовную силу, способную помочь обществу выйти из кризисного состояния, в связи с этим обращение к сакральным книгам, в которых мы видим квинтэссенцию религиозного мировоззрения, является насущной потребностью сегодняшнего дня. Необходимо преодолеть сложившееся отчуждение между обществом и священными книгами, ввести их в активный культурный оборот.
Актуальность обуславливается и тем, что и Танах, и Библия, и Коран представляют собой памятники, которые не могут быть локализованы исключительно границами религиозного видения. Их можно и должно осмысливать, и переживать как явление культуры в целом.
Исторически сложилось так, что Танах, Библия и Коран, сконцентрировавшие в себе мировоззренческие идеи иудаизма, христианства и ислама, явились основой культуры Казахстана. Знание этих сакральных текстов продиктовано жизненной необходимостью, поскольку эти религиозные тексты освещают особенности и своеобразие иудейской, христианской и мусульманской культур. В этих священных книгах представлены этические и эстетические идеалы, на основе которых сформировалась иерархия духовных ценностей христианской и мусульманской культур.
Танах, Библия и Коран уже не одно тысячелетие волнуют, будоражат, терзают умы миллиардов людей. Одни относятся к ним с религиозным трепетом, другие, считают их литературно-историческими памятниками, стремятся постичь премудрость этих книг научными методами или выискивают в них противоречия, а третьи, отвергают их. Есть и такие, кто просто равнодушен к ним. Эти великие книги — Танах, Библия и Коран, сыграли значительную роль в становлении человечества, в его социально-нравственном возвышении. Библия, включающая в себя Ветхий и Новый заветы,— святыня христиан; однако, первая ее часть — Ветхий завет (Танах) — святыня иудаизма — национальной религии евреев. Здесь следует оговориться, что термин «иудаизм» появился в 80-х годах XIX в. В иврите — священном языке евреев — понятие «иудаизм» отсутствует, так как для них религия — образ жизни, который помогал им отделить себя от инородных религиозных представлений и препятствовал их христианизации. Коран же почитается мусульманами, в то же время мусульмане не отрицают святость Торы — первых пяти книг Ветхого завета (Таура), Псалтири (Забур), Евангелия (Инджил). «И даровали Мы ему (Исе — авторы) Евангелие (Инджил), в котором — руководство и свет, и с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе и руководством и увещанием для богобоязненных» (5:50). «И вложили в сердца тех, которые последовали за ним (Исой авторы) кротость и милосердие (57:27)».
Религиозные верования наших предков на протяжении столетий, а нередко и тысячелетий впитывались в плоть и кровь народа, становились национальными верованиями, и поэтому оказали влияние на национальную культуру, обычаи, традиции, язык и т. д. Сегодня не только на уровне обыденного сознания, но и даже среди образованного населения наблюдается смешение национального и религиозного. Нередко на вопрос об отношении к религии респонденты отвечают: «Я — христианин; Я — мусульманин»,— хотя по сути дела не верят в Бога и не выполняют религиозных предписаний, т. е. являются неверующими. Подобное отождествление национального и религиозного способствует обособлению народов, издревле исповедующих различные религии, и не помогает сближению их, поскольку любая религия стоит на позициях вероисключительности. К примеру, русская православная церковь упорно стоит на позициях собственной вероисключительности, не желая идти на компромиссы с другими христианскими конфессиями в экуменическом движении. Даже в своем названии констатирует, что православные правильно славят Бога. А мусульманские богословы, размышляя о проблемах современного мира, утверждают, что последователи ислама не должны признавать того, что ни Аллах, ни пророк Мухаммад не сообщили им и что не согласуется с Кораном (140.412). Мусульмане непременно называют себя правоверными, т. е. правильно верующими в Бога. Отсюда следует, что одни правильно верят и славят Бога, а другие значит — неправильно, то есть являются кривославными или бесославными?
Светский вариант этой проблемы люди пытались решить еще с древнейших времен. Например, в Эпоху Возрождения Боккаччо в «Декамероне» в новелле третьей рассказывает о том, как еврей Мельхиседек рассказом о трех перстнях избегает подстроенной ему Саладином, султаном вавилонским, неприятности. Султан захотел завладеть имуществом еврейского купца, якобы законным путем. Он надеялся, что Мельхиседек на вопрос чья религия (иудеев, христиан или мусульман) лучше? Ответит, что религия его (еврейского) народа лучше других. И тогда Саладин посчитав себя оскорбленным (на законном основании) сможет отобрать имущество у заносчивого купца. Но Мелхиседек чувствуя подвох со стороны султана на его вопрос ответил следующей притчей:
Жил некогда знатный и богатый человек и был в его сокровищнице дивный и дорогой перстень, желая, чтобы перстень переходил из рода в род, он сделал распоряжение: тот из его сыновей, которому он завещает перстень, должен быть признанным за его наследника, и всем остальным следует почитать и уважать его как старшего в роде, за короткое время перстень сменил многих владельцев и в конце концов достался человеку, у которого было три прекрасных и благонравных сына, во всем послушных отцу, за что отец любил их всех одинаково и не знал на ком остановить свой выбор, в конце концов он счел за благо устроить так, чтобы все оставались довольны: он тайно заказал ювелиру изготовить еще два точно таких же перстня. Перед смертью он каждому сыну, втайне от других, вручил по перстню. После смерти отца все трое притязали на его наследство и почет, и каждый, отводя домогательства другого, как доказательство неотъемлемости своих прав на наследство, предъявлял перстень. Перстни были так похожи, что никто не мог отличить, какой из них подлинный, и вопрос том, кто наследует отцу остался открытым и остается таковым и по сей день. Из этого рассказа Мелхиседек делает вывод, что, то же самое можно сказать и о трех законах (иудаизма, христианства и ислама), которые Бог-отец дал трем народам: каждый народ считает себя наследником, обладателем и исполнителем истинного закона, открывающего перед ним путь правый, но кто из них им владеет — этот вопрос, подобно вопросу о трех перстнях, остается открытым. Этим рассказом Мелхиседек спасает свое имущество от посягательств Саладина[217].
Стоять на позиции национальной исключительности также опасно, поскольку она умаляет достоинства других народов, унижая их. Такая позиция непременно вызывает негативное отношение, создает межнациональное напряжение. А в настоящее время перед человечеством стоит задача не только социально-экономической консолидации, но и осознание духовного единства всех людей. И особенно важна эта задача для многонациональных, поликонфессиональных государств. К их числу относятся Казахстан и Россия, а также многие другие мультикультурные государства, правительствам и народам которых пора осознать, что в их государствах проживают не только православные христиане, но и католики, протестанты, мусульмане, представители нетрадиционных для полиэтнических и поликонфессиональных стран религий, а также люди, относящиеся индифферентно к религии и атеисты. И эти мультикультурные государства в своей политике должны учитывать интересы всех слоев населения. Поэтому в наши дни следует не размежевывать нации, исповедующие разного рода религии, но прежде всего их консолидировать, а для этого следует искать и вычленять в культуре, верованиях, обычаях, традициях народов то общее, что способствовало бы духовному возрождению не одного народа, а всех, проживающих на территории полиэтнических и поликонфессиональных государств. И не только их, а в масштабе всей земли. И поскольку наша планета становится все меньше и меньше не в физическом, а в социальном смысле: рушатся межнациональные границы в Европе, человек перемещается из страны в страну со сверхзвуковой скоростью, а информацию о происходящих событиях в какой-либо стране он получает в тот же день, в тот же час и в ту же минуту, находясь в любом уголке земного шара. Исчезает провинция. Благодаря интернету расстояния вообще сводятся к нулю. Сегодня экономический кризис охватывает не отдельно взятую страну, а протекает в глобальном масштабе. Возникающие межнациональные и межрелигиозные конфликты отражаются на Мире в целом. Экологические катастрофы также не знают границ. Человечество, несмотря на сохраняющиеся расовые, национальные, религиозные и иные различия, становится все более единым и у него формируется новое видение мира.
Немаловажную роль в этом процессе, думается, могут сыграть христианство и ислам, оказавшие значительное влияние на становление и развитие национальных культур народов Казахстана и России. А для этого, на наш взгляд, следует обратиться к идеологическим истокам данных религий, к их священным текстам — Библии и Корану.
4.7. Синяков О. В. Взаимосвязь религии и культуры Северного Казахстана
Совершенно очевиден тот факт, что понятия культуры и религии взаимопроникновенны и неотделимы от цивилизационного и общественного развития любого народа.
Религия в нашем крае оказала влияние на развитие письма, открытие медресе и церковно-приходских школ, творческой деятельности. Религия способствовала освоению новых территорий, совершенствованию хлебопашества, скотоводства, народных промыслов и ремесел. Но особенно ценным является то, что, как для мусульман, так и для христиан стала «образом жизни», способствовала становлению национальных традиций, духовности, развитию общества и человеческой личности.
«В самой общей форме можно сказать: религия есть сфера духовной жизни общества, группы, индивида, способ практически-духовного освоения мира и область духовного производства»[218].
Сегодня Казахстан — светское государство, базирующееся на поликультурном социуме его многонационального народа. При этом основой межэтнического согласия в республике являются национальные и религиозные традиции гостеприимного казахского народа. Поэтому программа «Рухани жаңғыру» (духовное просветительство), разработанная в 2017 году стала важной вехой в развитии казахстанского общества. «В ней обозначена основная цель нации на новый исторический период: сохранить и приумножить духовные и культурные ценности, войти в 30 развитых государств мира»[219].
В Северном регионе с огромной ответственностью приступили к ее реализации. Научные исследования автора данной статьи в течение ряда лет связаны с изучением теологических конфессий нашей области. Побывав во многих селах, удалось по крупицам собрать историю религиозных объединений, пустивших корни в Северном регионе. В итоге, подготовленные мною к редакции и публикации, в соавторстве вышли два информационно-аналитических справочника в качестве учебных пособий для студентов: «Религиозные объединения Северо-Казахстанской области: история и современность»[220], «Малочисленные и запрещённые религиозные объединения Северо-Казахстанской области»[221].
Материалы данных сборников стали базисом, на котором возник курс лекций для студентов Kozybayev University (Петропавловск, СКО) и других групп населения, заинтересованных в изучении краеведения.
Одним из самых популярных проектов программы «Рухани жаңғыру» является «Сакральная география Казахстана», который акцентирует такие воспитательные аспекты молодежи, как связь поколений, патриотизм, гордость за нашу историю, культуру, традиции, национальное единство и любовь к Родине.
Сакральные места и объекты — это символы Казахстана, вызывающие в душе почтенный трепет и поклонение. В рамках Программы Разработана Сакральная карта Казахстана, куда наряду с археологическими, историческими, культурными объектами вошли великолепные мечети, памятники христианского культового зодчества, выстоявшие варварское разорение, предание огню, забвение и использование не по назначению во времена безбожной эпохи. Народ сумел воссоздать те, которые действовали раньше, а также построить новые религиозные и культовые объекты. В Петропавловске также была сформирована интерактивная карта сакральных мест, которая непрерывно дополняется.
В число объектов, имеющих общенациональное значение входят: резиденция Абылай хана в Петропавловске, Мемориал Қарасай и Ағынтай батырам в Айыртауском районе, в этом же районе находится уникальный памятник — поселение Ботай, усадьба бабушки Чокана Валиханова — Айганым, которая располагается в селе Сырымбет
Айыртауского района, алтарь «Золотая звезда», находящийся в католическом костёле с. Озёрное Тайыншинского района и место захоронения батыра и талантливого полководца Кожабергена жырау — близ села Благовещенка Жамбылского района.
Остановимся подробнее на культовых сакральных сооружениях и различных около религиозных объектах, поскольку эта тема входит в сферу моей научной деятельности.
Конечно, наибольшее значение имеют культовые сооружения мусульманского толка, поскольку это самая крупная конфессия Казахстана (более 70% населения исповедуют ислам).
Мечеть «Дин-Мухаммад» — старейшая из ныне действующих мечетей области, построенная в 1851 году татарским купцом Дин-Мухаммадом Бичуриным.


При мечети было открыто медресе, где детей горожан обучили грамоте. Воинствующий атеизм коснулся и этого культового учреждения. Оно подверглось разграблению и разрушению в 1938 году. Вначале здание было переоборудовано под баню, затем передано спортивной организации. С приходом независимости в 1996 году мечеть и прилегающую территорию передали верующим. Культовое сооружение полностью отремонтировали и восстановили минарет только к 2001 году.
Центральная мечеть Петропавловска «Кызыл Жар» была торжественно открыта в 2005 году при участии Первого Президента РК Н. А. Назарбаева.
На втором месте после ислама по количеству прихожан в нашей республике стоит православное христианство. Культовые сооружения также представляют огромную культурную и историческую ценность. Они выполнены с невероятным архитектурным мастерством. Собор святых апостолов Петра и Павла — одно из старейших сохранившихся зданий города. Датой открытия каменной трёхапостольной церкви фактически считается 22 октября 1813 года. С приходом советской власти, Покровская церковь была закрыта, храм повергся вандализму, а священники стали жертвами репрессий. Многие были сосланы в лагеря или расстреляны, а здание переоборудовано под хлебопекарню. Однако в 1946 году церковь вновь передали общине православных. Более семи лет понадобилось на ее восстановление. В 1950 Покровскую церковь переименовали в Собор святых апостолов Петра и Павла.
Храм Всех Святых или Всехсвятская (кладбищенская) церковь — православная реликвия, оставшаяся в неизменном виде с времен ее постройки.
Церковь была построена на средства петропавловского купца Саввы Хлебникова и его жены в 1890–1894 годах. Храм каменный, однопрестольный. Один их немногих православных храмов, не пострадавших в годы атеистического прошлого и не был закрыт.


Следующий сакральный объект представляет третью по численности конфессию — Римско-Католическую церковь.
Храм Пресвятого Сердца Иисуса — памятник истории и архитектуры начала XX в., является старейшей католической святыней, сохранившейся в Казахстане (открыт в 1911 году). Это единственный католический храм в нашей стране, сохранившийся с дореволюционных времен.
Храм Пресвятого Сердца Иисуса в советские времена использовался не по назначению (там располагался датский сад «Заря»), но в 90-е годы был возрожден. С точки зрения архитектуры храм представляет собой типичный польский костел начала 20 в.: добротное каменное строение, имеющее строгие и сдержанные формы, без элементов декора. В 2017 г. храм стал сакральным местом Северо-Казахстанской области.
Алтарь «Звезда Казахстана» был установлен в приходе «Царица Мира» 2 июля 2014 г. Данная Святыня — подарок от католиков Республики Польша.


Алтарь является частью большого проекта «12 звезд в венце Девы Марии». Выполнен из различных драгоценных металлов, включая золото, серебро, платину, титан. Во всем мире установлено 12 таких Алтарей, первый из них — «Иерусалимский триптих» — в Иерусалиме, второй — в селе Озерном. Все неслучайно: каждое из 12 мест, по задумке, каким-либо образом должно быть связано со страданиями человека. Также Алтарь представляет собой знак уважения Республике Казахстан и народу, который приютил в тяжелые годы репрессий поляков и немцев. Село Озерное является одним из крупнейших католических центров, местом поклонения всех католиков Казахстана, Польши и других стран дальнего и ближнего зарубежья. Музей-усадьба Айганым, бабушки Шокана Уалиханова. Усадьба для Айганым была построена в 1824 году по указу императора Александра и являлась центром культуры и просветительских идей в казахской степи. Усадьба — образец деревянного зодчества, где наряду с домом, школой, мельницей и другими и хозяйственными постройками, наибольший интерес для нас представляет мечеть (все остальные мечети каменные). Мемориальный комплекс Қарасай и Ағынтай батыров, был открыт 15 октября 1999 г. Величавый монумент представляет собой необычное и очень красивое архитектурное сооружение — ступени на высоком холме ведут в мечеть, расположенную между двумя шлемами батыров, сражавшихся с врагами за нашу Родину. Копья Қарасая и Ағынтая рядом, но мирно скрещены, потому что сейчас нам никто не угрожает. Сами батыры мирно покоятся в усыпальнице, а мавзолей стал олицетворением вечного братства и единства многонационального казахстанского народа. В мемориальном комплексе проводятся ежедневные экскурсии в сопровождении опытных экскурсоводов. Тысячи туристов стараются посетить эти святые места.


Архистратиго-Михайловский женский монастырь. Подворье женского монастыря представляло собой хорошо отлаженный экономический субъект. Своим организован-ным бытом монастырь являл небольшую метрополию (как бы государство в государстве). Чтобы реально представить его масштабы, впечатляет то, что на его территории действовали два храма с богатейшими иконостасами, вмещающие тысячи верующих со всей округи. Монахини занимались благотворительностью, обучали грамоте и воспитывали детей, оставшихся без попечения родителей. Монастырь действовал до 1921 г., затем был подвергнут вандализму. В Советский период на его территории организовали социалистическую сельхозартель «Труд». Впоследствии здание переоборудовали под детдом для сирот и детей «врагов народа». Детский дом был закрыт в 60-е годы. Сейчас мы наблюдаем печальную картину. Монастырь почти полностью разрушен и от былого величия ничего не осталось. Однако дошедшее до нас и по-прежнему красивое здание стоит на святой земле, привлекая множество верующих и паломников из Казахстана и зарубежья.
Святилище «Байкара» — археологический объект, отмеченный на сакральной карте. Храмовый комплекс Байкара был обнаружен в 1956 году экспедицией известного казахского археолога К. Акишева.
Курган кочевников представлял собой типичное храмовое сооружение времен скифов. Культовое строение было возведено в V веке до нашей эры, представляющее собой алтарь в виде круга сооруженного из камней, хвороста, глины и дернины.


В нашем регионе имеется множество культовых объектов, с богатой историей, но к сожалению, пока не вошедшие в Сакральную карту Казахстана:– старейшая мечеть «Нұр» (г. Петропавловск) (каменная мечеть построена в 1882 году);– храм Вознесения Господня (г. Петропавловск), построенный в 2005 году. В сентябре 2006 г. его посетил Н. А. Назарбаев;– храм в честь пророка Илии (с. Лебяжье, район М. Жумабаева). Это самый старый сохранившийся сельский храм в области, построен 1774 г., который никогда не закрывался во время атеистических гонений;
– храм Новоапостольской церкви в г. Петропавловск, построенный в 1992 г. благодаря деятельности апостола региональной церкви Берлин-Бранденбург;
– дом молитвы Церкви Евангельских Христиан Баптистов СКО (г. Петропавловск), основанный в 1908 г.;
– храм Миссии благотворения и евангелизации «Еммануил», христиан веры евангельской (г. Петропавловск). Официальное открытие Миссии состоялось в 22 июля 1995 г.
Культурное сообщество североказахстанцев надеется, что сакральные объекты нашего края станут местами аттракции неравнодушных к истории культуре и на форсирование индустрии туризма.
Как отметил Нурсултан Назарбаев, у государства и религиозных общин существует две общие сферы сотрудничества: проповедь мира, гражданского согласия и возрождение культуры[222].
Задачу национальной интеллигенции на новом этапе определил и Касым-Жомарт Токаев — «укоренить новые принципы национального характера, а также способствовать повышению качества нации»[223].
Немаловажную роль в этом процессе, думается, могут сыграть ислам и христианство — две основные религии, оказавшие значительное влияние на становление и развитие национальных культур народов Казахстана.
4.8. Семенова Ю. А., Орленко Е. М. Эскапизм как духовное оздоровление человека в ареале природного бытия
Влияние ареалов природного бытия на мировоззрение человека отражается в таком явлении как эскапизм. Современное общество повсеместно использует Интернет и другие информационные и коммуникационные технологии, соединяющие каждого с каждым, но в результате растет одиночество и самостоятельное отстранения человека от социального окружения. Выработка множества материальных, сервисных услуг, возникновения товарного фетишизма, наводнение «фейковых» новостей в информационном пространстве общества приводит к тому, что вместо многогранно развитой личности появился искусственно сформированный потребитель, над которым доминируют вещи, индивид, лишенный необходимости и возможности реализовывать связь с обществом. Наряду с различными формами эскапизма (алкоголь, наркотики, компьютерные игры, серфинг в интернете по волнам виртуальной действительности, искусство т. п.), в некоторых случаях эскапические тенденции принимают форму отшельнического стиля жизни и обоснования необходимости уединения в природе.
Эcкапизм позволяет человеку временно ограждать себя от давления негативных социальных факторов, от необходимости решать тяжелые проблемы в частной и публичной жизни, и радикально освобождает от нежелательной информации и реализации действий, противоречащих его этическим установкам. К бегству в ареалы природного бытия человека побуждает и желание иметь более разнообразную жизнь, адреналиновый голод, экзистенциальная усталость, неудовлетворенность персональным бытием. Это становится одной из причин увлечения экстремальными видами спорта, туризма и путешествий в ареалы природного бытия. Ценность таких ареалов природы для многих романтиков обусловлена рассмотрением их как места релаксации, отдыха и оздоровления от удушья цивилизации.
Следует отметить, что мировоззренческие установки, обусловленные воздействием ареалов природного бытия, сталкиваются с реалиями рыночной экономики и её влияния на мировоззренческие установки современного человека. В ткань мировоззренческих установок проникают идеи и ценности рыночного мировоззрения. Рыночное мировоззрение как предпосылка социализации современного человека, базируется на следующих ценностях. Это владение интеллектуальным капиталом, способность правильно анализировать соотношение спроса и предложения на локальном и глобальном рынках и умение предлагать социально-эффективные решения; достижения престижного социального статуса; креативность, умение быть конкурентоспособным лично, "товаром", на который есть локальный или глобальный спрос. Сюда же можно добавить деньги и технологии их получения; собственность на средства производства товаров и услуг. Проблемой современного общества является формирование рыночного мировоззрения, рассматривающего ареалы природного бытия как экзистенциал бытия, как сакральное пространство. Современное образование должно научить человека такому социально-экономическому поведению, которое ему соответствует, свободе от экспансии и разрушительных действий человека. К сожалению, «свободный рынок» в современном обществе на самом деле является монополистическим рынком, контролируемым корпорациями, которые экономят на разработке и внедрении дорогих экологических технологий.
Примечательным, на наш взгляд, является обновление представлений о тенденциях развития социума и выявление логики конструирования геополитической модели мира. Актуальным становится анализ роли кросскультурного пастиша в этих процессах[224]. Суть проблемы этого социального феномена и его влияния на функционирование современного общества надо анализировать, исходя из принципа социокультурного детерминизма. Результативным является использование диалектического, постмодернистского, синергетического и компаративного подходов при изучении исследуемой проблемы. Разнонаправленный вектор современных изменений социума, противоборство и взаимодействие основных социальных субъектов, рост мобильности населения планеты обусловили широкое распространение такого феномена как кросскультурный пастиш. Его можно концептуализировать как сущностную характеристику современного социального развития, как неотъемлемый компонент мировоззренческих поисков современного человека и его духовного оздоровления. Кросскультурный пастиш — это самостоятельное социальное образование, которое носит эклектичный, гибридный характер, и возникновение которого обусловлено существованием современного человека на перекрестке культур. Для этого типа социальной конструкции, являющегося мейнстримом для современного социального развития, характерна эклектика стилей социального бытия, социокультурная неоднородность и атомарность. Понятие «пастиш» фиксирует определенный способ соотношения между собой социальных явлений, процессов, событий, текстов, жанров, стилей в условиях тотального отсутствия семантических или аксиологических приоритетов. Кросскультурный пастиш ведет к приватизации и вытеснению коренных культур и появления новых культурных комплексов, способных повлиять на человека. Он размывает границы между реальностью и вымыслом, фикцией и фактичностью в видении мира, он существует как «гибридная» смесь, внутри которой граница между фактом и вымыслом, реальностью и желаемым легко пересекается в обоих направлениях. Основным атрибутом кросскультурного пастиша является вытеснение традиционных культурных форм и создание эклектической смеси элементов из разнотипных культур жизнедеятельности человека. Различные формы преобразования событий и артефактов в пастише свидетельствуют о бесконечности его репрезентации. Пастиш соотносится с такими ключевыми признаками эстетики постмодернизма как фрагментарность, деканонизация, ирония, гибридность, карнавальность, сконструированность. Пастиш является одной из форм современного культурообразования. Полифункциональная природа пастиша проявляется и в ностальгийности по традиционной культуре, и в ироничности по отношению к некоторым её базовым ценностям[225].
Отметим, что экзистенциальная встреча человека с первозданной природой, вызывает у человека чувство восторга, преклонения перед её абсолютной красотой. Созерцание её ландшафтов закладывает в человеке определенные мировоззренческие установки. Расширение жизненного пространства является естественным стремлением всех живых организмов, и человек не является исключением. На протяжении всей истории человечества происходил процесс освоения ареала природного бытия, создание искусственного мира, который до последних веков уступал по масштабам естественной окружающей среде. Неотъемлемыми атрибутами современного социума выступают уже искусственная инфраструктура и виртуальный мир. Стремление к комфортности, быстротечность времени в повседневной жизни ведут к тому, что жизнь современного человека проходит все в большей степени в среде техногенных ландшафтов и искусственных материалов. Но это же обостряет необходимость общения человека с первой природой.
На современном этапе основным источником противоречий человека с природной средой выступают её материальные потребности и интересы, стремление максимально выжать из природы все, что ей необходимо для своей жизнедеятельности. Поскольку потребности человека все время растут, расширяются, а возможности освоенной уже природы не безграничны, то человек, чем дальше, тем в большей степени стремится использовать потенциал природы.
Экологические проблемы современности, а также рост темпов жизни человека в урбанистической среде актуализировали необходимость общения человека с ареалами природного бытия, формирование отношения у него к природе как к сакральному пространству[226]. Какие же основания для этого можно выделить? Отметим, что понятие «святое» и «священное» близки по значению и могут быть атрибутом одного и того же предмета, в данном случае — ареалов природного бытия. Толкование природы как священного пространства имеет и религиозную подоплеку. Святым есть творение Богом природы, существование природы предшествовало появлению человека, который с первых шагов своей активности начал процесс социализации природы. Согласно такому подходу дикая природа как священное пространство имеет онтологический статус. Нужно видеть природу уже как священную и признать, что её святость зависит от того, что она рассматривается как отдельная от человечества[227].
Атрибут «священное» подчеркивает обособленность ареала природного бытия от мирского, меркантильного и подчеркивает необходимость особого к ней отношения, как такого, что относится к сфере сакрального и имеет благодатные свойства. Ареалы природного бытия — это земные версии порядка и совершенствования, где человек может наиболее полно «перевоплотиться». Стремление человека к порядку также побуждает его рассматривать ареал природного бытия как сакральное пространство, в котором царит гармония, совершенство и системность. «Этика дикой природы — это аксиоматическая система чувств и убеждений. Подобно всем аксиоматичным системам, она организована пирамидально, с главным доводом в вершине и с кругом значений у основания. Порядок является не в меньшей степени делом рук человека, чем природы, поэтому порядок дикой природы может быть вдохновением и действием для человека»[228].
В ареале природного бытия горы выступают символами могущества, вечности, бесконечности, их ценят за величество и стабильность. Показательно стремление многих альпинистов и туристов покорить Эверест. Эта гора — самая высокая вершина мира — имеет статус горы величия, красоты и смерти. Приписывают сверхъестественную силу и камням — их обожали, им поклонялись, использовали их в религиозных обрядах. Священные камни были местом проведения обрядов в системе местных языческих верований. Отображение культа камней можно найти в трудах христианских богословов. На вершине горы Синай Моисей получил от Бога два камня, на которых перстом самого Бога были начертаны десять заповедей. В исламской традиции также присутствуют камни, имеющие сакральное значение. Главный из них — Черный камень из храма Кааба в Мекке в Саудовской Аравии, куда во время хаджа должен прийти хотя бы 1 раз в жизни каждый мусульманин. В культуре многих народов есть священные рощи — небольшие участки леса, которые почитают как место пребывания божества. Чтобы не потревожить богов, в них ничего нельзя делать и забирать с собой. В такие священные рощи заходили только по большим праздникам избранные члены сообщества. В таких ареалов природы царила абсолютная заповедность, существовал запрет осквернения их людьми, строгий охранный режим границ таких участков. Деревья определенной породы или отдельно расположенное дерево также имели в некоторых культурах статус священного, потому что считалось, что они имеют связь с божествами, духами и есть тотемами (объектами поклонения). Ареалы природного бытия выступают источником мировоззренческих установок человека, национальными символами, которые служат идентификации определенной страны, этноса, личности. Сегодня возникновение общественного интереса к ареалам природного бытия становится важной чертой современного стандарта жизни, и все чаще осуществляется через память, миф, символы. Символ облегчает усвоение сложных положений путем замещения простыми знаками, которые легко и быстро запоминаются. Заповедные объекты природы становятся нравственными, культурными, религиозными, духовными символами. Состояние ареалов природы, отношение к ним в данной культуре и в данную эпоху влияют на характер природопользования, на социоприродные отношения в целом и на мировоззренческие ориентации людей. Экофилософия видит мотивом защиты природы её самоценность, потому ареалы природного бытия — сакральное пространство, творение Бога, и человек не имеет права уничтожать то, чего он не создавал[229]. Но в повседневной жизнедеятельности человек руководствуется эгоистическими мотивам выживания здесь и сейчас. Быстрое разрушение биосферы, обострение экологического кризиса заставляет человека переосмысливать своё поведение в ареале природного бытия. Главным стимулом, способствующим пониманию необходимости сохранения и приумножения ареалов природы и возрождение экосистем, является инстинкт самосохранения человека.
Пространство природы выступает как сакральное, поскольку является «оригиналом» природного ареала человечества и требует сохранения, формами которого выступают, как абсолютный запрет на вмешательство человека, так и эффективная заповедная природоохранная деятельность социальных субъектов. К сожалению, настоящее свидетельствует об угрозе уничтожения значительного количества объектов первозданной природы[230]. Сохранение неприкосновенности дикой природы предусматривает, в частности, использование новых источников энергии, не связанных с выбросами углекислого газа. Влияние ареалов природного бытия на формирование мировоззренческих ориентаций современного человека актуализировало тему сохранения природы. Так, Джефф Безос, самый богатый человек планеты, хочет сохранить Землю в качестве места проживания человечества, а все вредное производство для сохранения ареалов природы перенести в космос. Цель космических проектов Джеффа Безоса — создание искусственных миров или так называемых цилиндров О’Нила, названные в честь преподавателя Д. Безоса — профессора Принстонского университета Джерарда О’Нила. Эти цилиндры — космические колонии, которые имеют свою гравитацию и атмосферу и могут поддерживать жизнь до одного миллиона человек, независимо от условий на планете или спутниках. Луна — это первая стратегическая цель освоения ресурсов космоса[231].
До возникновения масштабного экологического кризиса считалось, что человек может бесконечно пользоваться ресурсами природы для расширения своих возможностей. Природа рассматривалась как неисчерпаемая сокровищница, как необходимое условие производственной активности человека, ресурс для воспроизведения в ней искусственной окружающей среды и удовлетворения собственных потребностей. Экстенсивное освоение горючих, минеральных и биологических ресурсов природы, тотальное загрязнение окружающей среды, техногенная экспансия человечества в целом ведут к исчезновению многих видов растений и животных в ареалах природного бытия. Это обусловливает необходимость рассматривать территории ареалов природы как «резервы» для сохранения устойчивости земной биосферы. Ареалы природы являются неотъемлемым системным элементом биосферы, выполняют функции ее сохранения и стабилизации, в том числе за счёт поддержания баланса, ограничения экспансии человечества в окружающей среде[232].
К сожалению, наступление на сакральное пространство ареалов природы пока трудно остановить. Важным является решение практической проблемы: как заставить человека уважать природу и заботиться о ней. Настоящее проживание в природе приносит человеку идентификацию и опыт, который распространяет уважение и симпатию на весь мир природного бытия. Другой способ основан на удовлетворении от посещения ареалов природы. Мировоззренческие ориентации современного человека относительно природы имеют как традиционалистское, так и модернистское основания. Традиционалистское видение взаимоотношений с природой опирается на консерватизм в миропонимании, а модернистский формат больше настроен на изменчивость, текучесть в понимании дикой природы и учитывает интересы человека, в том числе и хозяйственные. В восприятии дикой природы имеет место мировоззренческое противостояние, столкновение с различными принципами использования или хранения, абсолютной охраны объектов дикой природы. Феномен мировоззренческого противостояния представляется как форма противоречия, как столкновение вариантов ответов на экзистенциальные вопросы человеческого бытия. «Сущность мировоззренческого противостояния проявляется в возникновении противоречий (конфликта положений), в ответах на системообразующие мировоззренческие вопросы экзистенциального бытия человека и их последующего преобразовании в альтернативные течения мировоззренческого дискурса. Мировоззренческое противостояние — это столкновение и противоборство социальных субъектов по поводу понимания мира, смысла существования человека, путей совершенствования социального бытия, вызванное несовместимостью взглядов, ценностей, идеалов, интересов, программ жизнетворчества[233]. Это касается содержания и принципов отношения человека к природе, его участия в общественном обустройстве и развитии социума. Это обусловливает борьбу социальных субъектов за доминирование их мировоззренческих установок о пространстве ареалов природного бытия
Мировоззренческие ориентации современного человека по отношению к природе базируются на различных идейных основах, которые отличаются субстанциональным основанием, иерархией ценностей, стратегиями активности и стилями жизнедеятельности. Считается, что основой в осмыслении ареалов природного бытия станут философские корни текущего состояния мира, ибо последний находится в опасности, и спасение лежит в изменении мировоззрения. Патологические черты современного мировоззрения связываются с доминированием редукционистского мышления и фрагментацией знания. «Редукционистская философия неадекватна не только для понимания живых систем, но и для преодоления трагедии разрушительного социального и экономического роста»[234]. Губительным является переход «от целостного рассмотрения реальности к её разделению на множество мелких, а не связанных друг с другом фрагментов. Необходим возврат к системному видению ареалов природы, а также природной и социальной жизни. Этому поможет согласие между религиозными и научными поисками в этой сфере»[235].
«Новое Просвещение» направлено на фундаментальную трансформацию мышления, результатом которой должно стать целостное мировоззрение. Его принципами являются гуманизм, проявляющийся в открытости к развитию, ценность устойчивости существующего многообразия, забота о будущем, защита ареалов природы, опора на долгосрочное мышление, объединение усилий человечества ради общего процветания[236].
Наряду с комплиментарностью, постулатами «нового Просвещения» Римский клуб видит синергию как поиск мудрости, через примирение противоположностей, и баланс, который необходимо достичь в отношениях между человеком и природой — устойчивое развитие, экологическое сознание; между кратковременной и долговременной перспективой; между скоростью и стабильностью, изменения и прогресс не должны восприниматься как самоценности; между индивидуальным и коллективным, признавая значение личной автономии — одного за важнейших завоеваний европейского Просвещения[237].
Сохранение природы обусловливает поиск альтернативной энергетики, постепенное приближение окончания эры «нефти и газа», всего ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники, строительство «экологической цивилизации» с альтернативной энергетикой из возобновляемых источников[238].
В мировоззренческих установках современного человечества все сильнее должна утверждаться идея, что экономика будущего должна стремиться к устойчивости, а не к безумному росту. Экономика и другая преобразовательная деятельность человека должны работать на общее благо, а не максимизировать только частную выгоду для отдельных социальных субъектов. Римский Клуб видит основную задачу образования в формировании у молодежи «грамотности относительно будущего. Можно согласиться, что такое образование и должно основываться на формировании «связанности» (формировании определенной системы отношений); на использовании информационных технологий, способствующих связи между людьми; опираться на сохранение благополучия всех живых существ и мира в целом. Образование должно вызывать интерес, освобождать энергию и активно задействовать способности каждого студента для обучения самого себя и для помощи учиться другим, уважая культурные различия[239]. В докладе Римского клуба «Cоme On! Капитализм, близорукость, населения и разрушения планеты» отмечается, что планета деградирует, авторитаризм и фундаментализм на подъеме, а спекулятивный капитал доминирует в экономике. Исследователи выделяют «шестое массовое вымирание»– стремительное сокращение фауны, ареалов природы через непредсказуемые последствия применения технологий и угрозу ядерного конфликта. Необходимостью выступает переход к новой стратегии гарантирования планетарной безопасности и выживания. Глобальное потепление климата остается самой главной планетарной проблемой, влияющей на ареалы природного бытия и функционирование современного социума. Миру нужно пройти через быструю и фундаментальную трансформацию систем общественного производства и потребления. Так, чрезмерное потребление обусловливает значительное увеличение выбросов CO2, что считается главной причиной глобального потепления.
Процессы урбанизации значительно увеличили количество населения, проживающего в городах. Это, в частности, обусловлено и тем, что жители больших городов потребляют в четыре раза больше ресурсов, чем другие жители планеты. Территориально экологический след городов намного превосходит занимаемую ими площадь. Надежды на диджитализацию и масштабную технологизацию производства в функционировании общества сталкиваются с уклонением от общих расходов на городскую инфраструктуру, на сохранение ареалов природного бытия. Поэтому реальна опасность неконтролируемого развития, неэтичного и неэкологического использования технологий в ущерб природе.
Ареалы природного бытия выступают сакральным пространством, источником мировоззренческих установок и объектов поклонения для социальных субъектов, являются музой для вдохновения и творческой деятельности человека; рекреацией для его отдыха, испытания сил и восстановления здоровья. Первозданная природа — это пространство, где человек не влияет на природные процессы, где природа саморегулируется, а существующее биологическое разнообразие меняется только под влиянием внутренних факторов. Мир природы в процессе человеческой эволюции постепенно уменьшался под давлением технологической активности постоянно возрастающего количества людей на планете и через вовлечение в хозяйственную деятельность все большего количества ресурсов природы. Современность сообщает обществу о надвигающейся экологической катастрофе, возникает вопрос о дальнейшем пути существования, при котором социально-экономическое развитие должно сравниваться с возможностями природа и биосферы в целом. Экономика всегда является оппонентом природы, поскольку её ресурсы выступают необходимой составляющей производства материальных и духовных благ для мыслящего и действующего человечества[240]. На современном этапе экономика должна стремиться использовать возобновляемые ресурсы только «второй природы». Появление новых технико-технологических возможностей ускорило освоение новых ареалов первичной природы и создание культурного ландшафта, который полностью или частично противоречит принципам существования ареалов первозданной природы. Дальнейшее развитие общества в значительной степени зависит от разработки и внедрения в различные социальные практики принципов сохранения существующих ареалов природы. От доминирования ареалов первозданной природы человечество перешло к жизнедеятельности в условиях культурного ландшафта и постепенному сокращению ареалов первозданной природы. Это эволюционно отражает адаптацию человека, преобразующего мир природы. Сегодня человечество стоит перед необходимостью разработки стратегии сохранения ареалов природного бытия и внедрения в практику мировоззренческих установок по рассмотрению его как сакрального пространства. Доминирование непознанных ареалов природного бытия, тайны природы обусловливают мистическое восприятие мира, наделение природных объектов и процессов свойствами тотемов, фетишей, магии. Красота дикой природы вызывает эстетические яркие чувства и переживания и обусловливает специфическое духовное, чувственное отношение к ней, как сакральному пространству.
Необходим переход от рационального природопользования к сохранению ресурсов и потенциала природы, что соответствует принципам дальнейшего развития общества. Одним из факторов формирования мировоззренческих ориентаций человека выступает природа, её флора, фауна и ландшафты. Необычность, загадочность, гармоничность процессов в первозданной природе обусловливает идейное многообразие мировоззренческих установок человека — мифологические, религиозные, научные, философские, художественные представления о мире и месте человека. Ареалы природного бытия формируют в человеке определенные табу, поверья, суеверия, нормы совместной жизнедеятельности, ценностные установки, этническую ментальность, архетипы и направляют активность человека на конкретные форматы социальных практик.
5. Образование и образовывание человека в контексте современных социальных процессов
5.1. Лимонченко В. В. Прагматическое образование как обманчивый дар
Прагматическая утилитарность неустранимо доминирует в жизни цивилизованного человека, при том, что и мировое искусство, и философски ориентированные интеллектуальные практики свидетельствуют об узости и недальновидности установок близкой корысти и непосредственной эффективности. Хотя и здесь все не так прямолинейно. Трудно опровергнуть слова Джона Рескина, что скряга не может петь о потерянных деньгах, но как не вспомнить известную с детства отповедь муравья стрекозе — сюжет басни Иван Крылов взял у француза Лафонтена, который в свою очередь позаимствовал его у древнегреческого баснописца Эзопа, т. е. порицание легкомысленно «поющей» стрекозы проведено практически через всю историю цивилизованного мира. В детстве стрекозу всегда было жалко, и муравей виделся занудой, но уж таков жанр басни.
Возможно возражение, что в структуре современной жизни развлекательная шоу-деятельность стрекозы приносит доход гораздо более существенный, чем кропотливая работа деловитого строителя муравья. Хотя современная ковид-ситуация опять возвратила смысл словам, звучащим как житейская истина, но сказанным по поводу марксистской концепции истории «Люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией»[241]. Всплывают в памяти часто повторяемые моей мамой в детстве слова «Соловья баснями не кормят», и вполне возможна апология утилитарной деловитости как истины здравого смысла, противостоящего высящимся над человеком умозрительным истинам, которые при опоре на Гегеля могут быть названы спекулятивными, что подставляет их под град насмешек и сарказма, поскольку в смысловой структуре нашей повседневной речи спекуляция имеет отчетливо выраженный негативный оттенок. Для наших дней характерно подозрительное отношение ко всему возвышенному, что порой можно объяснить неуместным и лицемерным употреблением, но существеннее то, что подметил Бердяев при рассмотрении позиции Льва Толстого: «Христиане обычно строят и организуют свою практическую жизнь на всякий случай так, чтобы это было выгодно и целесообразно и дела шли хорошо, независимо от того, есть ли Бог или нет Бога. Нет почти никакой разницы в практической жизни, личной и общественной, между человеком, верующим в Бога и не верующим в Бога. Никто, за исключением отдельных святых или чудаков, даже не пробует строить свою жизнь на евангельских началах, и все практически уверены, что это привело бы к гибели жизни, и личной, и общественной, хотя это не мешает им теоретически признавать абсолютное значение за евангельскими началами, но значение внежизненное по своей абсолютности. Есть Бог или нет Бога, а дела мира устраиваются по закону мира, а не по закону Бога»[242]. Умение обустраивать мир и свою жизнь в нем — чрезвычайно важная способность и ревностное служение Богу также предполагает соизмерение известной истины и выпавшей человеку доли участия в деле воплощения ее.
Считается общепризнанным, что жить по Истине невозможно. Вся история человечества поражает несоразмерностью между тем, что люди знают как истину и тем, как они живут. Вполне логичен вывод, что жизнь, вечно идущая вперед, должна подправлять истину, застывшую в своем совершенстве. Представляя творчество П. Слотердайка, А. Перцев упоминает его именование современной ситуации «диффузным цинизмом»: все знают, какие должны быть идеалы, но не следуют им, люди прошли процедуру просвещения — но не просветились[243]. К последствиям такого образования обратимся в дальнейшем.
А вот столь же часто упоминаемые слова «Делу время, а потехе час» предоставляют если не развернутую апологию досуга, то устанавливающее правило: приписка царя Алексея Михайловича к уставу соколиной охоты обычно трактуется как указ потехе уделять меньше внимания, чем делу. Но в самой цитате стоит чуть-чуть иначе: «делу время и потехе час», т. е. всему должно быть свое место. В отношении распространенных формулировок необходим скепсис и это понуждает к продумыванию того, что же предстает делом и что потехой — ведь если «потеха» устанавливается рядом с делом, то она обретает параметры «деловитости». Существенны и значимы параметры «потехи».
Прямолинейное принятие доминирования деловитой практичности подчиняет теоретические формы деятельности утилитарно-общественным целям и это пагубно сказывается на самой жизни. Николай Бердяев, анализируя послереволюционную ситуацию 1906 года отмечает, что делающая акцент на общественно значимом деле народническая интеллигенция считает «почти безнравственным отдаваться философскому творчеству, в этом роде занятий видели измену народу и народному делу. Человек, слишком погруженный в философские проблемы, подозревался в равнодушии к интересам крестьян и рабочих. К философскому творчеству интеллигенция относилась аскетически, требовала воздержания во имя своего бога — народа, во имя сохранения сил для борьбы с дьяволом — абсолютизмом[244]. В наши дни приняты иные «имена бога»: они устанавливаются либо государственными чиновниками, предписывающими приоритетные направления развития науки исследовательским институтам, либо СМИ, переводящими настроения улицы в словесную форму и чаще всего «обожествлены» либерализм и евроинтеграция в причудливом сочетании с идеологией национального государства. Но способ остался тот же и максимы политкорректности работают так же утилитарно и насильственно, как порицаемые принципы тоталитаризма. В поле внимания попадает тугой клубок из сентенций различного характера, распутать который очень хочется, но уловить единую нить никак не удается.
В различном контексте мне не раз приходилось рассматривать соотношение умозрительности теории и практичности жизни, но как только в поле зрения попадает мышление как главный орган теоретического умозрения апория теории и практики видится превзойденной, поскольку, как известно, нет ничего практичнее хорошей теории. И если частое повторение этих слов затерло их смысловое острие, то можно сказать проще: без умения мыслить невозможна никакая практика. Но вот и главный вопрос: как научить мыслить? Орудийно-инструментальное «как» распадается на предметное «что» и пространственное «где» и вопрос трансформируется: учит мыслить школа с ее установкой на знание или жизнь, главную установку которой не так легко обозначить, но рискну принять достаточно устойчивый словесный оборот «хочешь жить, умей вертеться». Проблема мышления, его сущности, форм, средств проявления и свидетельств представляет средоточие как философии, для которой исходным основанием от греков стал принцип тождества мышления и бытия, так и оформившейся гораздо позже философии образования. Необходимость связи философии и педагогики занимает центральное место в творчестве Э. Ильенкова, что на первый взгляд не так очевидно, однако убедительно раскрыто мыслителями, идущими вслед за ним и принимающим его исходные основания (В. Возняк[245], Н. Гусева[246], Г. Лобастов[247]). Существенной характеристикой этого пути является опора на классические формы культуры, к характеру действия которых я обращалась неоднократно[248].
В контексте данного рассмотрения подчеркну, что классическое образование организовано так, что в нем доминирует установка на знание, обретение которого предполагает терпеливое волевое служение истине, но мир неклассических форм культуры не приемлет диктата истины и видит в этом ущемление свободы, рецидив ненавистного тоталитаризма: «демократия — в ее популярной, вульгарной, то есть народной, версии — приняла форму маргинального протеста против знания. ‘Какая же это демократия, когда меня заставляют читать и заучивать всякие скучные, неинтересные, непонятные вещи? Кому интересно, пусть ковыряется в истории, физике, биологии. Никто не запрещает. Демократия ведь! Но и принуждать не имеют права. Не старый режим, слава богу[249]!». В установке на знание современные реформаторы системы образования видят отрыв от жизни и, пытаясь устранить это расхождение, вводят установку на компетентность и это не просто переименование. К сожалению, большинство рассуждений на эту тему имеют конъюнктурно-ситуативный характер, но среди этой шелухи я с удивлением обнаружила автора, известного мне совсем в другом контексте и позицию которого трудно считать конъюнктурной. Проблема соотношения школы и жизни волнует многих и уместно обрисовать ее очертания при обращении к различным позициям.
Александр Архангельский, исходя из собеседования с абитуриентами «Высшей школы экономики», сравнивает современных выпускников школ и свое поколение, при этом он отмечает, что конкретных знаний у них меньше, а умения думать и превращать свои знания в компетенции — значительно больше[250]. Он называет современных выпускников школ «очень ясными головами», поскольку они в духе доминирующих сегодня тенденций признают ценность знания примененного и очень рано начинают работать на различных площадках, вследствие чего быстро осваивают разные жизненные стратегии, в чем он видит их преимущество. Этому возражать трудно — результативная эффективность жизненных стратегий демонстрируется легко, хотя принимать все стратегии, которые предлагает жизнь, достаточно проблемно — ведь сначала их надо осмыслить, т. е. соотнести близкие и отдаленные перспективы, а главное осознать их место в цельности мира.
Исследователи отмечают, что однозначная прагматизация разрушает последовательную целостность процесса образования, культивируемую в классическом образовании: «Классическая триада целей образования, сформулированная еще в античности предполагала последовательное формирование у учащихся способностей к пониманию, целеполаганию, деятельности. Последовательность была именно такой. Греческие философы считали, что сначала нужно научить человека понимать окружающий мир, т. е. снабдить его знаниями и интеллектуальными инструментами. Затем — сформировать ценностную позицию, ибо целеполагание основано на ценностях, выбор целей — это всегда выбор тех или иных ценностей. И лишь потом — научить действовать, обеспечить инструментами практической реализации целей. Быть образованным означало понимать окружающий мир, быть способным к ценностному выбору и уже потом — к эффективной деятельности»[251]. Желание быстрой и эффективной результативности обостряет внимание к легко видимому и исчислимому, пренебрегая тем, что подготавливает результат. Научаясь письму, ребенок начинает с палочек и кружочков, с прописей и повторяющихся движений, но в последствии к этому не возвращается. А. М. Эткинд в очерке развития прикладной психологии 20-х годов, отмечает, что когда в обществе доминирует прагматическая или даже утилитарная направленность, это резко изменяет нормальное развитие науки и показывает это на примере агрессивно-невежественных вмешательств идеологии, характерных для возбужденного революцией советского общества[252], но подобное воинствующее вмешательство возможно на почве любой идеологии, и технократической в том числе.
А. Архангельский не занимается, как он говорит, «отвлеченными» вопросами и не размышляет о специфическом характере человеческой жизни, однако на основании проставленных им акцентов жизнь человека видится подчиненной наличным социальным практикам, вследствие чего как человек, так и культурные институции (он говорит о школе и библиотеке) «либо вписываются в изменившуюся реальность, либо исчезают»[253]. Разговор на злободневную тему не предполагает углубленного анализа и тщательной понятийной работы, но многолетняя практика преподавания философии в вузе натренировала «ухо», улавливающее понятийную произвольность и непродуманность то и дело возникающие в разговоре — например, понятие конкретного взято в обыденно-непроработанном смысле, в силу чего возникает провал смысла, равно как неизбежен вопрос о природе изменяющейся реальности и месте в этом процессе человека. Конечно, дело не в том, чтобы сначала дать определения используемым терминам и понятиям и лишь после этого начинать беседу, но любому разговору предшествует предпонимание, которое складывается стихийно-жизненно автоматически без специального продумывания и невольно движется по накатанной колее. Выпускники школ, знающие чего они хотят (а это, пожалуй, главное, что отмечено в качестве преимущества), чаще всего усваивают непосредственно действующую наличную структуру потребностей, которая диктует доминирующие правила жизни. Для осмысления собственной единичной ситуации необходима остановка, мыслительная пауза, предоставляющая возможность взгляда «со стороны», но сначала нужно отойти в сторону, и это возвращает значимость обесцененным современностью «отвлеченным» знаниям.
В этой связи показательны воспоминания С. Аверинцева о выборе жизненной профессии: поскольку в годы его юности побеждали «физики», думая о равновесии общей лодки, он выбирает старомодную классическую филологию[254]. Он формулирует «правила» взаимоотношения личности со своей эпохой: «Человек, который знает в своем умственном и человеческом опыте только ходячие представления сегодняшнего дня,— жертва, так сказать, исторического провинциализма. Каждое время имеет свои возможности и свои границы: только вникание в мысли различных эпох — шанс расширить свой кругозор и научиться отличать прогресс от моды и аксиомы от предрассудков»[255]. Опыт взаимоотношений со своей эпохой предполагает важное умение мыслящего человека — «заново обрести правильную линию человеческого поведения в условиях развала всех этико-социальных норм и ценностей»[256]. Возможность такого опыта и реализуется знаниями, названными отвлеченными. И они крайне необходимы, поскольку возможность отвлечься от автоматизма сложившихся обстоятельств — первое основание творчества как одного из центральных измерений «природы» человека, причем главное измерение творчества — это выстраиваемая целостность человеческой жизни, в которую могут быть включены предметно-вещные свидетельства, хотя порой они отсутствуют — не все пишут стихи, сочиняют мелодии, открывают законы природы и изобретают технические новшества.
Итак, именно необходимость выстраивать свою жизнь предполагает не только (а может быть даже не столько) практически-полезные умения, необходимость которых бесспорна, при этом не избежать освоения «отвлеченных» знаний, касающихся как исходной мотивации, так и целевой устремленности, что чаще всего происходит неосознанно и стихийно, и, следовательно, как любое бессознательное в дальнейшем работает помимо человеческой воли (и как желания, и как свободы), создавая опасность утраты открытости — человек становится «рефлексом» социальности, легко манипулируемым и зависимым. Поскольку предпонимание складывается стихийно-жизненно автоматически без специального продумывания и невольно движется по накатанной колее, человек теряет (или так и не находит) свою волю, жизненная стихия подчиняет его безличной структуре социума, закрывает любые иные возможности. Так называемые «отвлеченные» знания, не применяемые прикладным техническим образом, касаются самого человека и зачастую не обретают предметно-объективной формы, оставаясь в силу этого незаметными и ненужными.
Таким образом, отвлеченные знания о «природе» человека чрезвычайно практичны. Заключение слова «природа» в кавычки вызвано необходимостью подчеркнуть неоднозначность привычного слова, что предполагает специальное осмысление его. Говоря о природе человека как человека, нельзя не видеть «неестественности» его, в силу чего факт рождения как природный акт в дальнейшем не только обрастает дополнительными умениями (например летать, или передвигаться быстрее гепарда), но претерпевает радикальное преображение, что и делает человека человеком: «Есть какие-то прирастания к человеку, через которые, живя с которыми, заботясь о которых, человек только и может быть человеком, а предоставленный сам себе, своим биологическим, природным способностям понимания, действия и так далее, человек — чушь какая-то, ничто»[257]. Хотя можно согласиться, что «век традиционной школы подходит к концу», однако считать всех «поголовно грамотными»[258] преждевременно. Если грамотность относить к умению читать, писать, считать, то с этим еще возможно согласиться, однако о грамотности относительно знания самого себя говорить не приходится: несогласованность различных антропологических дискурсов, засвидетельствованная М. Шелером в начале XX века, сохраняется. Более того, несогласованность только возросла и яркое свидетельство этого антропологические проекты трансгуманизма и постгуманизма. Технико-научное оснащение преобразовательной деятельности человека сопровождается архаичным редуцированным мышлением о человеке. Умение грамотно мыслить о человеке чаще всего отсутствует — считается, что ответ на этот вопрос дают биология и медицина, в силу чего человек укладывается на прокрустово ложе «природы», и даже искренне озабоченные судьбой детей организаторы новых форм образования редуцируют человека до чистой врожденности, мысля человека по аналогии с растением: «Есть растение. И на самом деле, несправедливо говорить, что это я его выращиваю. Моего влияния в этом процессе практически нет. Я только поливаю, ставлю на свет и кормлю. Я не могу это растение заставить расти, а тем более расти против его природы. Все, что будет происходить,— будет по природе ребенка. Исключительно все. И чем меньше мы будем мешать следовать ему своей природе, тем лучше»[259]. Конечно же, речь о том, что насильственно-принудительным формам не место в структуре образования и спорить тут не с чем, но где и каков тот свет, на который нужно вывести ребенка, чем кормить его — не его тело, хотя и здесь есть проблемы, собственные пищевые предпочтения детей очень причудливы — но его душу, т. е. его ум и чувства? Расти против своей природы растение не может, но человек-то не растение, его природа удобопеременчива и в этом главная проблема. «Выставленный» на свет, человек далеко не всегда оказывается способным воспринять его — он может пройти просвещение и не просветиться.
Современный человек чрезвычайно требователен к качеству продуктов, питающих тело, но как часто без разбора заглатывает и «генно модифицированные» броские фейкоподобные сенсации, и явную ложь псевдо-исторических преобразований, и навязчивую визуальную и интонированную информацию, оставляя хиреть от недоедания самую способность мышления — способность удерживать дление рассыпающейся множественности единичных впечатлений, что возможно при условии вхождения в мир идеальной предметности. Много раз ссылалась на Ги Дебора, опровергающего всеобщую современную грамотность: «С раннего детства обучение школьников с легкостью и энтузиазмом начинается с Абсолютного Знания информатики, в то время как в дальнейшем они почти всегда не могут научиться чтению, которое требует подлинной способности суждения о каждой строчке»[260]. Умение читать — это не процесс складывания букв в слова, приносящий удовольствие гоголевскому Петрушке, когда смысл прочитанного не улавливается. Способность понимать не возникает сама по себе, а предполагает специальную озабоченность этим, что и культивируют филология и философия, чтение и размышление о прочитанном, включая и разговор о прочитанном, требующие пространства свободного времени. Раннее активное включение в «различные жизненные практики» такого пространства не предоставляет и одна из самых серьезных проблем образования — освоение свободы, что предполагает различение ипостасей и измерений свободы, ложных и существенных форм ее. Кстати, слово «школа» восходит к древнегреческой основе: греческое слово имело значение «свободное время, досуг, отдых от физической работы», а вовсе не подготовительную стадию научения полезным профессиональным навыкам, правда, уже заимствованное латинское schola имеет привычное для нас значение.
Иное дело, что слишком часто взрослеющий человек поставлен в ситуацию, когда он лишен пространства свободы выстраивания своей жизни и вынужден отдавать предпочтение жизни, а не школе, но предпочтение это связано не с тем, что жизнь в отличие от школы предоставляет истину, а с задачами выживания, что и следует называть своим именем. Но сразу слышится саркастическое восклицание современного Пилата: «Что есть истина?». И опять приходится возвращаться к предметам, которыми занимается «отвлеченное» знание.
Прагматизм современных студентов — не следствие продумывания наиболее оправданных путей к истине, он вынужденный и вполне достоверно звучит тезис, что ориентированный на успешность современный студент находится в ситуации психоза: «Студенты с самого начала считают, что живут в ситуации жесткого рынка, в который нужно встраиваться как можно раньше, начинать делать карьеру уже со студенческой скамьи. Их буквально трясет начиная чуть ли не с начальных курсов: а тому ли меня учат? А зачем нам эта математика или философия? А нужен ли я на рынке? А кем я буду работать? и т. д. Они требуют больше прикладных вещей, которые востребованы прямо сейчас. И сколько ни объясняешь, что карьеру во всех смыслах делают умные люди с развитыми мозгами, а не те, кто прослушал какие-то прикладные курсы, они не верят, полагая, что так могут рассуждать лишь те, кто уже всего добился. Это принимает форму устойчивого прагматического психоза. Они рвутся на рынок труда уже со студенческой скамьи, считая, что даже с красным дипломом, но без опыта работы ты никому на рынке не нужен. Жесткое давление среды порождает представление о том, что нужно идти наиболее прямыми путями, изучать, грубо говоря, не экономическую теорию, а бухгалтерский учет, не социологические доктрины, а методику проведения фокус-групп»[261]. И как следствие — низкий образовательный уровень как властных элит, так и человека из массы.
Хотя если говорить о падении образовательного уровня, то значит неявно признавать, что прежде он был выше, что в целом обосновать трудно: возникает мифологический образ истории как отпадения от Золотого века и ухудшения по принципу «век Богов, век Героев, век Людей», хотя вполне можно говорить об обесценивании знания. В стиле и духе Слотердайка А. Перцев рисует грустно-ироническую картинку: «Сегодня во всем мире идет революция двоечников. Как и всякое ранее угнетаемое меньшинство, двоечники отстояли свои права, добились права безнаказанно сочинять, распространять и потреблять свои произведения и даже добились признания своего языка государственным. Отличник — асоциален, ему никто не нужен. Он сам сделал уроки, сам ответил, сам ушел. А двоечник ничего не готовил, зато организовал половину класса — один сделал для него математику (дал списать), другой — русский и т. п. Двоечник вырос в крупного организатора и эффективного менеджера, а отличников превратил в экспертов — в интеллектуалов по вызову. Но диктатура двоечников, которую мы ныне переживаем, заканчивается. Современное общество сбежало из школы, а сейчас ему трудно вернуться назад, не потеряв лица. Поэтому все говорят — мы вернемся к культуре, но пусть она будет веселой. Чтобы учиться с увлечением. Появился «энтертайнер»– развлекатель-преподаватель. П. Слотердайк — именно такой «энтертайнер». Эпатажник, говорящий увлекательно и скандально об очень серьезных вещах. Слотердайка читает вся Германия — и смеется. Но смеясь, как известно, человечество расстается с прошлым»[262]. Легко узнается двоечник, выросший в крупного организатора и эффективного менеджера, и сбежавшее из школы современное общество очень убедительно, и прошлое уходит, хотя очень часто вовсе не до смеха. Выразительные высказывания, ставшие афоризмами, редко становятся предметом осмысленного толкования: сказанные в контексте вполне определенном, что и придавало им осмысленность, они теряют контекст и в силу этого становятся универсальными орудиями, обретающими смысл из нового контекста. Контекст в данном случае таков: «все знают, какие должны быть идеалы, но не следуют им, люди прошли процедуру просвещения — но не просветились» т. е. обесценена структура идеальной предметности, предполагающей в первую очередь умение удерживать в поле зрения максимально возможную полноту целого без деформирующей частичности и одномерности. Стоит отметить возникающее в этой связи корневое созвучие: человека, как растение, надо выносить на свет, человек проходит процедуру просвещения, хотя возможно при этом и не просветиться, т. е. если для растения это процесс бессознательно-автоматический, то человека нет без сознательно-волевой деятельности, конститутивным средоточием которой и предстает идеальное. Какими бы ни были исходные врожденные данности у человека, они не работают без специального культивирования.
Создание классической концепции идеального принадлежит Э. Ильенкову, и его экспликация этой темы, представляющей в вышеупомянутом словаре отвлеченное знание, выводит на две сферы выразительно практического характера — педагогику и искусство, рассматриваемые в тесной связи. Контекст рассматриваемой ранее темы, сосредоточенной на важных для человеческой жизни умениях, т. е. на полезных для жизни «компетенциях», выводит на проблему выстраивания человеком своей собственной жизни, что предполагает способность не быть манипулируемым наличным социумом, не сливаться с окружающим миром, иметь средства избирательного отношения, оценивать и смотреть на все (в том числе и на самого себя) с позиции такой дистанции, в чем состоит специфика такой жизнедеятельности, которая включает в себя сознание. Такая способность реализуется при условии сохранения идеального измерения, в случае устранения которого происходит однозначное слияние и неразличение смыслового и вещественного, существенного и случайного, сохраняющегося и изменчивого — т. е., происходит умопомрачение, о котором говорит Э. Соловьев[263], устраняется способность видеть. Не случайно, а по сути дела от Платона зафиксировано — идея (и идеальное) имеет отношение к тому, что видно, в этом смысле чувственное восприятие работает благодаря идеальной детерминации. Несколько выпрямляя и в силу этого упрощая, можно сказать, что человек способен видеть то, что есть благодаря свету того, что доведено до чистой неискаженной формы — именно такое видение продуктивно-творческое, без него человек редуцируется до потребителя, поглощающего все без разбора. То, что меняющий свои лики мир несовершенных вещей доведен в понятии до чистой предельной формы, в той или иной мере общепризнанно, но дело в том, что и образы искусства работают по этому же принципу, очищая жизненные ситуации от случайных и несущественных обстоятельств, предоставляя возможность смотреть со стороны, т. е. уйти от детерминации своего единичного опыта. Метафора работает как понятие, но в искусстве такое понятие-метафора не обрела измерения всеобщности и универсальности, делающие применение понятия вездесущим, но несущие опасность отвлеченности, утери существенности. Большинство понятий первоначально возникали как художественные образы-метафоры, поэтому есть основания считать образный язык первоначальным оригинальным языком человечества.
Совсем неслучайно, в общении с детьми доминирует художественный, а не технологический язык. Музыкант и психолог Дина Кирнарская в ответ на вопрос родителей как подготовить ребенка к школе вполне обосновано говорит, что лучшая подготовка к школе — занятия музыкой. Она обосновывает такую точку зрения тем, что именно в музыке происходит координирование работы двух полушарий — гармонизация аналитически-логического и образно-интуитивного, как помним, эту двойную природу музыки раскрыл еще Пифагор и, что очень показательно, она стала основанием философского дискурса — любовного, т. е. чувственного отношения к мысли, т. е. к знанию. Возвращаясь к дилемме дела и потехи и вопросу о существенных параметрах потехи, можно сказать, что дело «потехи» не в развлекательности и бегстве от «дельности», но в том, что это «тешит» душу, т. е. в этом есть измерения «филии»: не отстраненное противостояние, но вовлеченная причастность. Позитивные коннотации, которыми привычно наделяется жизнь, пожалуй, связаны именно с тем, что в отношении к ней человек находится в вовлеченно-участном отношении — как только жизнь становится в предметно-объектное отношение, она отходит в ведомство науки.
Обращаясь к языку М. Хайдеггера, озабоченного предуготовляющим мышлением — непредметным и потому трудно фиксируемым — деятельность в сфере искусства может рассматриваться как предуготовляющее мышление, это мостик, соединяющий жизненные и интеллектуальные сферы, а вернее, упругий трамплин, позволяющий подпрыгнуть и оторваться от сферы представления, улететь от мышления «картинками», но именно удачная метафора предоставляет мысли опору для отрыва. Иван Вырыпаев, драматургическое творчество которого имеет выраженный философски-антропологический характер, снял фильм, который попытался развернуть как художественное доказательство бытия Бога для современного человека — без обильного цитирования Библии и благочестивых дидактических ситуаций. В разговоре двух героинь возникает образ человека как пылесоса, что в чем-то шокирует, но течение разговора выявляет главный смысл: постоянное всасывание всего, что есть в мире, загрязняет человека, в силу чего становятся необходимы «процедуры» очистки (сеанс психоаналитика, исповедь, семейный скандал), и надо перестать «быть пылесосом», перестать впускать в себя все без разбора. И звучит центральный вопрос, обращенный к юной монахине: «Разве вас в монастыре не учат не быть пылесосами?». То, что разговор происходит на Тибете подчеркивает желание и задание для человека уметь выработать дистанцию по отношению к безудержному потреблению, обрести способность созерцания — включенности в мир не посредством переработки и поглощения его, но вовлеченного в него присутствием. Одно из важных умений, взращиваемых живописью, литературой, музыкой — созерцательная сосредоточенность, возвращающая человеку и миру целостность.
Культивирование такого умения — одна из главных задач образования, что зорко подмечает Симона Вейль: «Обучение, образование должно ставить перед собой одну-единственную цель: подготовить эту возможность упражнением внимания. Все же остальные выгоды образования не представляют никакого интереса. <…> Вообще метод развития ума, который как раз и состоит в том, чтобы всматриваться[264]. По отношению к практичности жизни искусство исполняет роль предуготовляющих действий, Вейль для объяснения сопоставляет заповеди и гаммы: «Заповеди даны не ради их исполнения, но исполнение их необходимо для того, чтобы понять заповеди. Это гаммы. Мы не сыграем Баха, не научившись играть гаммы. Но точно так же мы не играем гаммы ради самих гамм»[265]. И доминирует в этом многоликом и многоступенчатом процессе установка восстановления целостности: как однозначная утилитарность, так и оторванная от жизни элитарность не способны удерживать целое, искомый образ человека. Установка образования на цельность человеческого бытия выражена Симоной Вейль афористично-точно: «Вся корова целиком дает молоко, даже если выдаиваем мы его только из вымени»[266].
Исходное основание умения мыслить (как помним, противостояние теории и практики, школы и жизни преодолевается посредством мышления) выявляется как культивирование чувственной сферы, следуя классической традиции, Э. Ильенков напоминает, что это и есть главное дело искусства: «специфически человеческая „чувственность“ (в том широком значении этого слова, в котором оно фигурирует в философии) есть культурно-исторический продукт, а вовсе не простой дар матушки-природы. Способность чувственно воспринимать окружающий мир — так же как и способность логически мыслить, рассуждать о нем — формируется уже самими условиями человеческой жизнедеятельности, в систему которых каждый человек включен с момента рождения. Поэтому элементарные, всеобщие формы этих способностей формируются вполне стихийно,— не усвоив их, индивидуум не сможет сделать ни шагу в человечески организованном мире. Однако по-иному обстоит дело с высшими, развитыми формами и той и другой способности. Для развития способности мыслить диалектически «не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения истории философии» (Ф. Энгельс). По отношению к способности воспринимать мир в формат развитой человеческой чувственности такую же роль играет сокровищница мирового искусства»[267]. Однако искусство все более устраняется из сферы образования, приобретающего характер подгонки неотесанных сгустков человеческой жизни под функционирование социума. Реформы системы школьного и вузовского образования сосредотачиваются на двух вопросах — удешевление образования и предоставление готовых к поддержанию существующего социального организма элементов его.
Уместно опять обратиться к мысли Ильенкова. Он подчеркивает, что «Лебединое озеро» или «Король Лир» не могут рассматриваться как материальные явления, поскольку эти театральные представления — именно представления: «В самом точном и строгом смысле этого слова — в том смысле, что в нем представлено нечто иное, нечто другое. Что? „Мозговые нейродинамические процессы“, совершившиеся когда-то в головах П. И. Чайковского и Вильяма Шекспира? „Мимолетные психические состояния отдельной личности“ или „личностей“ (режиссера и актеров)?»[268]. Ильенков принимает ответ Гегеля: «„субстанциальное содержание эпохи“, то бишь духовная формация в ее существенной определенности»[269].
Первичная — не существенно-первая, а замечаемо-первая — «полезность» искусства заключается в возможности посмотреть на время своей жизни с иной точки зрения, т. е. выйти за пределы привычных взглядов. В романе Исигуро Кадзуо «Не покидай меня» развернут образ предельно утилитарно-прагматически ориентированного мира. Сюжетно-тематически речь идет о найденных наукой возможностях продлевать человеческую жизнь посредством использования органов искусственно выращенных клонов, но показательно, что события отнесены не к будущему, как это обычно происходит в произведениях подобного жанра, а к уже действующему с семидесятых годов XX века порядку. Историки культуры рассматривают 60-70 годы как границу, обозначившую новую культурную ситуацию, осмысление приходящего нового происходит со временем, оглядываясь назад и происходит многократно. Вариант произошедших изменений предложен в романе, более глубокий смысловой слой которого: аналогия между все более настоятельно внедряемой системой образования и выращиванием клонов для замещения структурных составляющих доминирующего устройства мира. Выращивание клонов — метафора утилитарного образования, искусство может быть противоядием искажения утилитарным функционированием — в экранизации Андреем Эшпаем книги Рыбакова «Дети Арбата» противополюс ужасу государственной вездесущести не политическое диссиденство, но танец, вихревым движением разверзающий монолит власти. Своеобразный вариант фиксации фальшивой неистинности комсомольских собраний приводит Ольга Седакова — музыка Моцарта свидетельствовала против уродливой идеологической жизни (в разговоре с Николаем Солодниковым). Кадзуо печально констатирует устранение из образования искусства — остается натуралистический функционализм, но можно указать и на иной результат. В фильме Отто Рипперта 1916 года «Гомункулус» искусственно созданный (функционально образованный) человек редкостного интеллекта и несгибаемой воли проговаривает основание, предопределившее его судьбу: «Меня обманом лишили самых замечательных вещей, которые есть в жизни», что на мой взгляд, становится определяющим вектором образования: утилитарный прагматизм устраняет самые замечательные вещи, которые возможны для человека и делает его марионеткой социума, конституирующего даже самые интимные сферы желаний и мечты. В студенческие годы, пришедшиеся на 70-е годы XX столетия, порой смутно, в некоторых аспектах явно, мы были ориентированы на выискивание смыслов, не представленных системой, и как я это вижу теперь, искусство было тем, что разрушало нашу идейную наивность. Как диагноз человеческой ущербности звучали строчки из неизвестно как попавшего в наши руки стихотворения В. Лившица «Квадраты»:
И всё же порядок вещей нелеп.
Люди, плавящие металл,
ткущие ткани, пекущие хлеб,—
кто-то бессовестно вас обокрал.
Не только ваш труд, любовь, досуг —
украли пытливость открытых глаз;
набором истин кормя из рук,
уменье мыслить украли у вас.
Порой явственно проступает, что система утилитарно-прагматического образования — это способ лишить человека собственного личностного проживания своей жизни и в конечном счете это опасно не только для него. Ранее отмечалась опасность легкого манипулирования таким человеком, становящегося послушным орудием, но уязвленный собственным ничтожеством «человек из подполья» живет по принципу «Миру провалиться, но чтобы мне всегда чаю пить!». З. Кракауэр отмечает пророчество «Гомункулуса»: «фильм поразительно предсказывает карьеру Гитлера. Одержимый ненавистью, Гомункулус становится диктатором огромной страны и начинает ею править с неслыханной жестокостью. Переодевшись рабочим, он подстрекает массы на забастовку, чтобы потом зверски расправиться с ними. В финале картины он развязывает мировую войну». Функциональный утилитаризм образования угрожает болезненной извращенностью психики и сознания, что проследить возможно именно при вхождении в мир искусства — никакие методики оценивания ситуации это не способны показать. Техническое оснащение современного мира позволяет реализовать это вхождение, на что остается лишь надеяться.
5.2. Возняк В. С. Замещения понятийного как способ закрепощения ума человека
История, в том числе и особенно — современная цивилизация весьма изощрены в формах закрепощения человека, среди которых одно из первых мест занимает закрепощение ума. Способом осуществления последнего является замещение понятийного: вместо умения и своего рода искусства оперирования понятиями достаточно активно внедрено простое использование терминов, в лучшем случае — общих представлений.
Вот совершенно точно о замещении понятия термином пишет Н. В. Гусева: «Нельзя отрицать, что сегодня понятие отчуждения находится в постоянном “обиходе”, что само по себе не говорит о действительной глубине постижения социальной реальности при введении его в обиход. Напротив, введение в обиход понятия отчуждения, как правило, переводит его в статус термина, за которым уже не стоит полагаемый Марксом смысл и, таким образом, движение мысли прекращается. Вместо него происходят наборы манипуляций высказываниями»[270].—Что тут стоит отметить: «введение в обиход», далее — перевод понятия в статус термина, что непременно ведет к «прекращению движения мысли» и к «набору манипуляций высказываниями».
А вот как Мих. Лифшиц уличает своего оппонента М. С. Кагана в злоупотреблении игрой «терминов»: «Главное и, может быть, единственное открытие нашего ученого состоит в методе переименования. Любые давно известные понятия или, скорее, представления (а вот это весьма важно! — В. В.) немедленно превращаются в немыслимую вязь специальных терминов, симулирующих движение мысли. Здание, выстроенное М. Каганом, снизу доверху покрыто архитектурными украшениями из ученых слов[271]. Итак: движения терминов способы симулировать движение мысли, однако никоим образом оно не являются способом его реального осуществления, просто выступает архитектурным украшением из ученых слов. Правда, при этом далее Мих. Лифшиц достаточно точно замечает: «Конечно, наш автор (М. С. Каган — В. В.) может сказать, что моя цель — запретить употребление терминов в науке, но видит бог, что это не соответствует действительности. Название, термин, номенклатура — не пустое дело. Посмотрите, сколько терминов, да еще латинских и греческих, в самых богатых фактами разделах знания. И то обстоятельство, что термины взяты из мертвых языков, также не лишено значения. Это возвышает их над обычной человеческой речью, недостаточно определенной и часто болтливой, сообщает им всеобщий и неподкупный характер. Термин — зарубка, которую делает ученый в твердом грунте науки, чтобы поставить ногу и подняться выше (выделено мной — В. В.). Но если наш ученый употребляет термины зря, то он скоро неминуемо окажется висящим в воздухе»[272]. Запомним характеристику «термина», предложенную Мих Лифшицем.
Теперь — немножко от Э. В. Ильенкова: давая рекомендации лектору, желающему достаточно доступно рассказать слушателям о классической, философ утверждает: «Если он (лектор — В. В.) начнет пересказывать произведения Спинозы, лишь переводя его термины на современный язык, то вряд ли что получится путного от такого разжевывания. Нужен совершенно иной подход. Необходимо показать ту реальную проблему, в которую уперлась мысль философа, совершенно независимо от того, как он сам осознавал и в каких терминах выражал для себя и других. Иными словами, надо прояснить проблему на языке нашего, XX века. Подчеркиваю: прояснить проблему, а не терминологию. Тогда человек получит ключ к прочтению, тогда и терминологию освоит без особого труда. В общем-то даже в самых сложных философских системах нет ничего такого, чего каждый при желании не смог бы понять и освоить»[273].
Иначе говоря, дабы довести слушателя до понимания, следует раскрыть реальную проблему, которая кроется за весьма замысловатой терминологией того или иного философа. Кстати, это — наиболее сложное: обнаружить реальность, действительность, реальную проблему, реальное вопрошание (еще точнее — противоречие) мыслящей эпохи. А вот терминологий — потом. «Первым делом, первым делом — самолеты, ну а термины, а термины — потом» (очень вольный, однако по сути — дела не менее точный — парафраз известных строчек).
Что касается цитирований, сложно удержаться, дабы не привести хорошие слова известного мыслителя Карена Араевича Свасьяна относительно того, что термин — это термит, съедающий содержание. Однако при этом такое высказывание следует погрузить в тот контекст, в котором оно было приведено (что кстати, касается всех собственно философских текстов). Итак, сие взято из блестящей книги философа о Гёте. Автор приводит известные слова Гёте: «Нет ничего труднее, чем брать вещи такими, каковы они суть на самом деле» И далее читаем от К. А. Свасьяна: «Трудность связана прежде всего с тем, что наше восприятие вещи бессознательно сращено со словами и обусловлено словами; мы настолько отвыкли от первозданного, младенчески чистого созерцания вещи и, с другой стороны, настолько привыкли к языковым знакам, что, образно выражаясь, взгляд наш, брошенный на мир, лишь в редких случаях достигает самого мира, без того чтобы по ходу он не был перехвачен мощными пеленгаторами беспредметной лингвистики, коренящейся в самих наших инстинктах. Возникает ситуация, действительно подмеченная многими языковедами; беда в том, что патология восприятия выдается за норму восприятия. Слова, охраняющие, как Цербер, доступ к вещи, подменяют нам саму вещь ее акустическим образом; в результате мы оказываемся замкнутыми в некоей лингвистической монаде, в которой есть и понятие вещи, и ее акустический образ, и еще целый набор терминологических случайностей и нет лишь одного: действительности». И далее: «Гёте, несомненно, подписался бы под саркастической поправкой Киркегора к известному афоризму Талейрана: язык дан нам не для того, чтобы скрывать мысли, но для того, чтобы скрывать отсутствие мыслей. “Добрая вы душа,— сказал он однажды Эккерману в этой связи, ни мысли, ни наблюдения не интересуют этих людей. Они рады и тому, что в их распоряжении имеются слова для голословия» <…>[274]. А далее снова К. А. Свасьян: «<…>слишком серьезные партнеры страдания и художник для того, чтобы выбалтывать свою связь открытым текстом, да еще украшенным междометиями и наспех позаимствованными из какой-то научной дисциплины терминами. Эти термины — термиты, пожирающие вещь и мысль; наивернейший признак отсутствия вещи и мысли– слова, нарушающие молчание, слова-выкидыши, непочтительные к смыслу и оттого лишенные смысла, обладающие разве что значением, о котором уже написано и будет еще написано столько научных трудов (выделено мной — В. В.)»[275].
Таким образом, чрезмерное увлечение терминологией, игрой в термины основательно чревато утратой предмета. По своей природе термины никоим образом не претендуют на замещение предмета: они просто-напросто обозначают какое-либо понятие, именно в этом содержится их чрезвычайная важность как в науке, так и в иных сферах жизни. Само слово «термин» происходит от латинского terminus — «предел, граница, пограничный знак». Именно посему известнейший закон формальной логики — «закон тождества» — приложим именно к терминам, которые воистину являются «пограничным знаком» для неряшливого мышления. Но не более того. Применять же этот «закон» к мышлению как таковому, к его понятиям — значит обнаруживать клинически неизлечимое непонимание природы как понятия, так и мышления.
Общие представления также весьма часто выступают способом замещения понятийного. Кстати, этому способствует многовековая традиция формальной (рассудочной) логики. Гегель замечает: «В рассудочной логике понятие рассматривается обычно только как простая форма мышления и, говоря более точно, как общее представление; к этому подчиненному (untergeordnete) пониманию понятия относится так часто повторяемое со стороны ощущения и сердца утверждение, будто понятие как таковое есть нечто мертвое, пустое и абстрактное. На деле все обстоит как раз наоборот: понятие есть принцип всякой жизни и есть, следовательно, вместе с тем всецело конкретное»[276]. И еще: «То, что обычно понимают под понятиями, представляет собой рассудочные определения или лишь общие представления, они поэтому вообще суть конечные определения»[277]. В рассудочной логике процесс образования понятий трактуется как простое обобщение, т. е. как поиск повторяющихся признаков у определенного класса предметов. По этому поводу Г. В. Лобастов пишет: «Поверхностное, чисто эмпирическое, описательное исследование особенных форм духовной, познавательной деятельности приводит к выводу, что понятие есть обобщение и выделение общих признаков предметов определенного класса, данных в чувственных формах, в первую очередь, в представлении. Дело выглядит иначе, если исходить из того, что понятие есть не “тощая” абстракция, полученная путем выделения сходного в различном, а идеальная форма деятельности общественного человека, снятая с формы чувственного материально-практического процесса»[278].
А как «понятие» определяется в формальной логике? — Слово или сочетание слов, выражающие совокупность существенных признаков вещи или явления. Ох уж это словечко «признак»! Трудно по этому поводу удержаться, чтобы не привести слова Гегеля: «Обычное разделение понятий на ясные, отчетливые и адекватные принадлежит не учению о понятии, а психологии, так как под ясными и отчетливыми понятиями имеют в виду представления-, причем под ясным представлением разумеется абстрактное, простое представление, а под отчетливым — такое представление, в котором выделен еще какой-нибудь признак, т. е. какая-нибудь определенность, служащая указанием для субъективного познания. Нет более красноречивого признака внешнего характера и упадка логики, чем эта излюбленная категория признака»[279].
Замещение понятийного общими представлениями особенно наглядно проступает в разнообразных пособиях по «теоретической» педагогике, которая о природе собственно понятия не имеет никакого понятия. А тем самым в подобных текстах отсутствует понимание сущности тех реалий, в которых обязательно и со знанием дела должен ориентироваться педагог. Исповедуя известную «троицу» — знания, умения и навыки — в качестве предмета педагогической деятельности, в одном из пособий указано, что знание есть просто информация о чем-то. Понятие развития расшифровывается как некое «совершенствование физических и духовных качеств человека» (определять неизвестное через неизвестное запрещает даже формальная логика). Широкое распространение в последнее время получил «компетентностный подход», при этом мало кто имеет более или менее адекватное представление о том, что такое «компетенции», не говоря уже о доведении такого представления до собственно понятия. Считается, что компетентностный подход приходит на смену предыдущему, «знаниевому». Конечно же, если знание толковать предельно абстрактно как просто информацию, то его неминуемо следует чем-то дополнить, лучше — зарубежным. Что ж, ошибался платоновский Сократ, когда утверждал, что душа «дышит знанием»… А игра во всевозможные «инновации», «образовательные технологии» — не более, чем игра терминами. Употребил, по возможности чаше, такие словечки-термины, и можешь прослыть передовым человеком, шагающим в «ногу со временем», способным отвечать на «вызовы времени». Вот, кстати, еще один пример терминологического замещения понятийного.
Современная школа весьма успешно продолжает практику закрепощения ума. Ведь традиционная дидактика, от которой никто и не думал отказываться, ориентирована на формирование у учащихся рассудочно-эмпирических «понятий», широко используя способы формально-эмпирического обобщения. Выдающийся российский психолог XX века В. В. Давыдов еще в начале 70-х годов обосновал идею о необходимости и главное — возможности формирования основ собственно теоретических понятий у младших школьников. Однако для этого вся дидактика должна быть радикально перестроена в сторону диалектической логики. Овладевание теоретическими понятиями в процессе обучения непременно требует ограничения способов формально-эмпирического обобщения и рассмотрения условий формирования того или иного предмета в процессе решения учебно-познавательных задач, разрешения противоречий. Знание не должно преподноситься учащимся в препарированном готовом виде. Идеи В. В. Давыдова были успешно апробированы в ряде школ. Освоила ли современная дидактика этот опыт? Изучается ли он в педагогических университетах? — Вопрос риторический.
Подлинное понятие о понятии содержится только в логике Гегеля. Подобный уровень понимания требует основательной философской культуры, которая, увы, недоступна современным педагогам. Да что говорить о педагогике, как практической, так и теоретической, если в современном философском сообществе гегелевское учение о понятии разделяет абсолютное меньшинство исследователей…
Современная как практическая, так и теоретическая педагогика не ведает о принципиальном различии между абстрактно-общим и конкретно-всеобщим. А вот Гегель предупреждал: «В высшей степени важно как для познания, так и для практического поведения, чтобы мы не смешивали голое общее с истинно всеобщим, с универсальным. Все упреки, которые обыкновенно выдвигаются с точки зрения чувства против мышления, и в особенности философского мышления, а также часто повторяющиеся утверждения об опасности, грозящей якобы со стороны слишком далеко заходящего мышления, основаны на этом смешении»[280]. Равным образом педагогика безнадежно погрязла в непонимании природы абстрактного и конкретного. Без Гегеля разъяснить это невозможно. Вот немецкий мыслитель замечает: «<…> абстрагирующее мышление следует рассматривать не просто как оставление в стороне чувственного материала, который при этом не терпит-де никакого ущерба в своей реальности; оно скорее есть снятие реальности и сведение ее как простого явления к существенному, обнаруживающемуся только в понятии. Конечно, если то, что от конкретного материала следует принять, согласно рассматриваемому воззрению (имеется в виду обычный рассудок — В. В.), в понятие, должно служить лишь признаком или знаком, то оно в самом деле может быть и каким-то лишь чувственным единичным определением предмета, которое ради какого-то внешнего интереса избирается из числа других и есть того же рода и имеет ту же природу, что и прочие»[281].
В педагогике бытует мнение, что учащиеся чрезмерно перегружены умственным материалом, и сей рационалистический крен как-то надо преодолевать, дабы школа была «ближе к жизни». Не следует «пичкать» юные головы всякими «понятиями», ибо это «не пригодится в жизни». Ведь «понятие» — это одно, а «конкретная» реальность — совсем другое. В связи с этим вновь стоит обратиться к Гегелю: «“Это только понятие”– так обычно говорят, противопоставляя понятию как нечто более превосходное не только идею, но и чувственное, пространственное и временное осязаемое существование. В этом случае абстрактное считается менее значительным, чем конкретное, потому что из него, дескать, опущено так много указанного рода материала. Абстрагирование получает, согласно этому мнению, тот смысл, что лишь для нашего субъективного употребления из конкретного изымается тот или иной признак так, чтобы с опущением столь многих других качеств и свойств предмета он не утрачивал ничего из своей ценности и своего достоинства, а они по-прежнему оставляются как реальное, лишь находящееся на другой стороне, как сохраняющее по-прежнему полное свое значение, так что лишь неспособность рассудка приводит, согласно этому взгляду, к тому, что он не может усвоить все это богатство и должен довольствоваться скудной абстракцией»[282].
Традиционная педагогика представляет собой сплошное замещение разума рассудком. Торжество рассудка закрепощает умы– как учащегося, так и учителя. Иными словами, на уровне рассудка господствует вещно-объектная логика. Об этом превосходно сказано у Гегеля: «Когда, как это обычно принято, говорят о рассудке, которым я обладаю, под этим понимают некоторую способность или свойство, находящееся в таком отношении к Я, в каком свойство вещи находится к самой вещи– к неопределенному субстрату, который не есть истинное основание своего свойства и не определяет его. Согласно этому представлению, я обладаю понятиями и понятием точно так же, как я обладаю сюртуком, цветом и другими внешними свойствами»[283]. Согласно же гегелевскому пониманию природы понятия, не «я обладаю понятиями», а я вхожу в понятие, беру на себя труд и напряжение понятия (понимания), я сам становлюсь понятием как подлинным субъектом. Овладеть настоящим понятием означает «быть в своем бытии своим понятием»[284].
В диалектике понятие означает понимание существа дела. Заместить последнее такими «симулякрами», как термины или общие представления — значит обрекать учащихся (и самих себя) на неразвитость ума. Вопрос об овладении учащимися понятиями в их подлинности — отнюдь не второстепенный. Г. В. Лобастов замечает: «Понятие, понимающая способность, есть всеобщее условие труда. Более того, определенность всех действий человека вытекает из понятия. Потому требуется понять само понятие. Категориальный состав мыслящей способности Кант считал условием опыта. Школа такое условие, которое Гегель, кстати, возводит в ранг субъекта, и должна формировать. Это значит, что, формируя понятие, понимающую способность, школа формирует действительного субъекта, способного к самоопределению в деятельности, к определению всех ее составляющих моментов»[285]. И далее: «Школе должна быть понятна природа и объективные условия обобщения понятий. Процесс их научно-педагогического формирования сталкивается с весьма сложными проблемами объективного и субъективного порядка. Потому существенным вопросом теоретической педагогики является проблема формирования способности понятия — как универсальной формы внутри наличных социальных условий разделения труда. Ведь эта способность выступает существенным моментом свободно-личностного развития. Как осуществляется этот процесс, каким образом здесь снимается необходимость,— вот главнейшие вопросы теоретической педагогики[286].
Никоим образом педагогика не должна, не имеет права — абстрагироваться от «наличных социальных условий разделения труда», от факта нарастания отчуждения во всех сферах жизни. Как же противостоять этому? Во-первых, перестать воспроизводить, усиливать ситуацию расчеловечивания. Во-вторых, решительно и основательно изменить взгляд на понятие как таковое. Не замещать его терминами и общими представлениями. А внутри подлинно понятийного найдется и необходимое место терминологии, ведь, вспомним Мих. Лифшица — термины представляют собой зарубки в твердом грунте науки, чтобы поставить ногу и подняться выше. Научить становящегося человека подниматься выше — вот задача педагогики.
Первейшее условие освобождения человека — раскрепощение ума, развитие ума. Без этого освобождение человека рискует сорваться в весьма рискованное, неумное, однозначно глупое — пике. И все иные выходы из такого обрушивания окажутся безуспешными…
5.3. Суханов В. Н. Логика Гегеля и проблема инноваций в научно-педагогической деятельности
Гегель в статье «С чего следует начинать науку», предворяющей «Науку логики», предлагает начинать с бытия, тождественного ничто. Это начало, увы, до сих пор не освоено наукой. И педагогической наукой в частности. Могут спросить, если все ученые до сих пор не могут понять Гегеля, то какие претензии к педагогике? Почему учителя становятся крайними в этом процессе? Почему начало становления человека в его собственной форме выводится на передний рубеж? А не, скажем, начало поиска ученого-физика?
Два последних вопроса предполагают ответ — чтобы ученый-физик смог найти начало своей науки, это начало он уже должен иметь в себе. Не в этом ли объяснение слов Ильенкова, «что будущее зависит от успехов двух фундаментальных наук, причем это не математика, не химия, не кибернетика и даже не ядерная физика. Это политическая экономия, во-первых, и педагогика, во-вторых»[287].
Гегель отождествляет понятие с субъектом. Третий том «Науки логики» так и называется «Субъективная логика или учение о понятии». В предисловии к нему Гегель пишет: «В отношении предыдущих частей я мог рассчитывать на снисхождение справедливых судей ввиду немногочисленности подготовительных работ, которые могли бы мне дать опору, материалы и путеводную нить для движения вперед. В отношении же настоящей части я смею просить снисхождение скорее по противоположной причине, так как для логики понятия имеется вполне готовый и застывший, можно сказать, окостеневший материал, и задача состоит в том, чтобы сделать его текучим и вновь возжечь живое понятие в таком мертвом материале»[288]. Задача исследователя в области теоретической педагогики близкая задаче, которую ставит перед собой Гегель, но с одним исправлением — грамотному учителю, в первую очередь, требуется сжечь весь мертвый материал. Дотла. До основания. До той точки, где деятельность педагога абсолютно ничтожна. Так, где же эта точка?
«Быть спинозистом, это — существенное начало всякого философствования»[289],— говорит Гегель. Но можем ли мы со стопроцентной уверенностью утверждать, что это же «существенное начало» и у всякого педагогического действия? Очевидно, да. Не случайно выдающийся советский психолог Л. С. Выготский ставит проблему разрешения психологического кризиса и уяснения его исторического смысла именно со спинозистских позиций. Задача, стоящая перед Львом Семеновичем, была неимоверно трудная,— ему нужно было увидеть в Спинозе основание развития личности, понятия сугубо идеального. Хотя само понятие идеального только еще ждало конкретизации и уточнения в трудах Ильенкова. Исходить из фактов, из богатейшего эмпирического материала, но не утонуть в эмпирии, не сбиться на тропу «ползучего эмпиризма». Насколько глубоко Выготский понимал, что мышление — атрибут субстанции,— это другой вопрос, но что мышление живет в деятельности всего человеческого тела — однозначно утверждалось советским психологом. Мысль рождается не в голове, а в деятельности человека,— вот лейтмотив изысканий Выготского по проблемам личности. Поэтому и понять личность можно лишь в генезисе деятельности, подобно тому, как Спиноза понимал окружность. То, что было не под силу осознать человеку, находящемуся в плену картезианства, становилось для ученого, ставшего на позицию Спинозы, предметом глубочайшего и напряженнейшего исследования. И продолжается до сих пор. Это задача детальной экспликации причин возникновения Я. Задача, с которой не справились ни Декарт, ни современная педагогика. Но у Декарта, как у великого мыслителя, хватило мужества признаться в своей неудаче и поставить психофизическую проблему. Современная педагогика, увы, здесь и проблемы не видит никакой.
Но как современному учителю обнаружить Спинозу в себе? Здесь только один путь — самому стать спинозовским Богом, субстанцией. Сотворить субстанцию в себе.
Насколько далека от этой задачи теоретическая педагогика в вузах (а в средней школе тем более, поскольку там степень свободы учителя бесконечно мала) можно судить о конференциях, публикациях в журналах, посвященных проблемам образования. Для примера — номер Вестника ВГУ, посвященный «главной» проблеме образования. «В начале XXI века основным вызовом, отражающим развитие глобализации, становится интернационализация высшего образования. Интернационализация образования представляет собой процесс, который включает разнообразные форматы международного взаимодействия и выступает главной характеристикой интеграционных процессов, происходящих в этой сфере»[290]. Но какая польза студентам от «разработки и внедрения новых образовательных программ; возможности вписаться в единое образовательное пространство», от «обмена опытом; освоения новых методов и технологий образования»? В первую очередь — «это возможность стать конкурентноспособным на рынке труда»[291].
В своих речах и публикациях «стратеги образования» постоянно обнажают противоречие современного образования, но не фиксируют его, поскольку рефлексия собственной деятельности у них отсутствует. С одной стороны, ученые-методисты предлагают «вписаться» в процессы глобализации за счет интеграции национальных и дисциплинарных методик; с другой стороны — основную цель развития как вуза в целом, так и отдельного студента видят в «возможности стать конкурентноспособным на рынке труда». «Боливар не выдержит двоих»,— емко зафиксировал принцип глобализации еще О. Генри. То есть реализация возможности «получить качественно другое образование, обрести навыки межкультурной коммуникации, пройти социокультурную адаптацию в новой среде, усовершенствовать языковые навыки, получить «двойной диплом» и степень»[292], нужна студенту, чтобы в решающий момент грамотно и культурно «засадить нож» в спину своего компаньона.
Понятно, что ни о каком воспитании личности, субъекта как такового, в упомянутых проектах образования речь не идет. И даже в тех, где ученый-психолог как бы «идет за студентом». «Для повышения одной из исследовательских компетенций (умение писать научные тексты) студентов были учтены психологические особенности учащихся поколения Z (преобладание «клипового мышления», неумение распределять временные и психические ресурсы, необходимость в помощи организации контроля)… Так был составлен краткий перечень рекомендаций для написания учебно-научных текстов, обобщающий пособия и статьи других методистов. Он отвечает на большинство возникающих у пишущего вопросов и систематизирует материалы касательно процесса организации текстов в психолого-педагогической сфере»[293].
«Здравствуй, племя младое, незнакомое!»… Поколению, выросшему на клипах, предлагается новый клип — методичка по всем психолого-педагогическим методичкам… Насколько она поможет написать студенту научный текст? К тому же, коль скоро речь идет о науке, студент, чтобы соответствовать уровню, должен знать «с чего следует начинать науку?». Уж никак не с инструкции по «процессу организации текстов».
Конечно, можно порекомендовать студенту читать Г. Гегеля. Тем более, что те ярлыки, которые вешают на своих учеников преподаватели (поколение Z), зачастую вовсе не отражают истинного состояния ума молодого исследователя. Но увлечь студента Г. Гегелем не так просто. Так же как и К. Марксом. Здесь тоже противоречие. Заинтересованность в содержании текстов великих классиков исторической мысли у студента возникнет тогда, когда у него уже есть интенция преобразования действительности в соответствии с общечеловеческими смыслами. То есть сами человеческие смыслы должны быть предположены научному исследованию студента. Но предположены не внешним образом, а самой деятельностью студента. То есть, сами условия деятельности студента должны уходить в основание его деятельности. И если уж говорить о какой-то настоящей методической помощи в научной работе в педагогике и психологии, то лучше пожелания Ильенкова о создании условий, при которых ученик не мог не стать личностью, в качестве общей рекомендации, человечество пока не придумало. Именно в этом направлении движется действительная психолого-педагогическая мысль.
И все же вернемся к студенту, пишущему научный текст по психологии. Коллеги из «Вестника» предлагают помогать ему лишь формально. Но как быть с содержательной стороной? Насколько студент способен «познать самого себя»? Ведь что может быть трудней и одновременно интересней, чем обнаружить собственное начало? Начало того атрибута духа, о котором говорит Гегель в «Науке логики». «Природе же духа еще в более высоком смысле, чем характеру живого вообще, свойственно скорее не принимать в себя другого первоначального, иначе говоря, не допускать в себе продолжения какой-либо причины, а прерывать и преобразовывать ее»[294]. Именно за счет предположенности субстанции в своей деятельности, человек способен преобразовать любую внешнюю причину в причину самого себя. Вопрос о качестве такой деятельности и должен, в первую очередь, волновать методистов, а вовсе не «количество абзацев в параграфе, столбцов в таблице, выводов в заключении, позитивное значение используемой лексики»[295].
Известно, что японцы при резком обильном снегопаде бросают все работы и любуются падающим снегом. Этот процесс у них так и называется — «Любование». В контексте обнаружения человеческого начала это действие (отсутствие действия есть тоже действие) намного значимей, чем «количество абзацев в параграфе». Обнаружить в действии абсолютное единство природы и человека — вот первый шаг написания научной статьи по педагогике и психологии. Выйти на историческое начало пробуждения человеческого духа. «Пантеизм вообще не доходит до расчленения и систематизации. Там, где он является в форме представления, он –опьяняющая жизнь, вакхическое созерцание, не позволяющее выступить расчлененными единичным формообразованиям универсума; напротив, же, созерцание снова погружает эти формообразования в сферу всеобщего, возвышенного и необъятного. И тем не менее это воззрение составляет для каждой здоровой натуры отправной пункт. В особенности в юности мы себя чувствуем через посредство все вокруг и нас самих одушевляющей жизни в братском единении со всей природой, симпатизируем ей; так обретаем мы ощущение мировой души, единства духа с природой, имматериальности самой природы»[296].
Но в контексте этого высказывания Гегеля о связи пантеизма и юности напрашивается вполне законный вопрос — почему людей, ощутивших мировую душу, миллионы, а личностями становятся очень и очень немногие? На наш взгляд, основная проблема здесь в переходе от тождества представления «братского единения со всей природой» к тождеству рефлексии, которое есть «не абстрактное тождество, иначе говоря, не возникло через относительное подвергание отрицанию, которое происходило бы вне его и лишь отделило бы от него то, что от него отлично, в остальном же оставило бы это отличное по-прежнему как сущее». В тождестве рефлексии «бытие и всякая определенность бытия сняли себя не относительно, а в себе самих, и эта простая отрицательность бытия в себе и есть само тождество»[297]. Далее Гегель добавляет. «Поэтому тождество есть еще вообще то же самое, что и сущность»[298].
Первый шаг рефлексии — это нахождение тождества, которое, по Марксу, есть «ансамбль всех общественных отношений». То есть нужно снять предметно-чувственное бытие человека и слиться, отождествиться с сущностью. Но отождествиться не в чувстве. Все определенное, конечное, чувственное должно быть снято в тождестве рефлексии.
Можно сказать, что студента нужно вывести на божественную позицию, на позицию абсолюта. Но и абсолюты бывают разные — метафизического и диалектического толка. Поэтому самому преподавателю нелишне знать движение человеческой мысли в области понимания абсолютного основания.
Определение Бога религиозными философами Средневековья переросло, благодаря мыслителям Возрождения и Нового времени, в определение бытия. Размышления Гегеля в «Науке логики» о том, что есть Бог, выглядят вполне и вполне материалистическими. «Отбрасывая боженьку» (Ленин), мы обнаруживаем в гегелевских пассажах емкое и лаконичное определение объективной действительности человеческой деятельностью. Приведем два таких высказывания из первого и второго тома соответственно. «Бог как чисто реальное во всем реальном или как совокупность всех реальностей так же лишен определения и содержания, как и пустое абсолютное в котором все есть одно.
Если же, напротив, брать реальность в ее определенности, то ввиду того, что она содержит как нечто сущностное момент отрицательности, совокупность всех реальностей становится также совокупностью всех отрицаний, совокупностью всех противоречий, прежде всего абсолютной мощью, в которой все определенное поглощается, но так как сама эта мощь имеется лишь постольку, поскольку она имеет против себя нечто, еще не снятое, то когда ее мыслят как мощь, ставшую осуществленной, беспредельной, она превращается в абстрактное ничто. То реальное во всяком реальном, бытие во всяком наличном бытии, которое будто бы выражает понятие Бога, есть не что иное, как абстрактное бытие, то же, что и ничто»[299]. «Касаясь онтологического доказательства бытия Бога, мы отметили, что исходное его определение — это «совокупность всех реальностей». Относительно этого определения обычно указывают прежде всего то, что оно возможно, так как оно, мол, не содержит никакого противоречия, потому что реальность берется [в этом доказательстве] лишь как безграничная реальность. Мы отметили выше, что этим указанная совокупность превращается в простое неопределенное бытие или, если реальности берутся действительно как многие определенные реальности,— в совокупность всех отрицаний. При более тщательном различении реальности различие ее превращается из разности в противоположность и тем самым в противоречие, а совокупность всех реальностей вообще — в абсолютное внутреннее противоречие. Обычный horror [страх], который представляющее, неспекулятивное мышление испытывает перед противоречием, как природа перед vacuum [пустотой], отвергает этот вывод, ибо такое мышление не идет дальше одностороннего рассмотрения разрешения противоречия в ничто и не познает его положительной стороны, с которой противоречие становится абсолютной деятельностью и абсолютным основанием»[300].
Если коротко резюмировать слова Г. Гегеля, то можно сказать, что Бог (бытие) есть тотальная совокупность отрицаний, имеющая свое начало в тождестве бытия и ничто. Определяя бытие, мы определяем себя.
Определить бытие может только человек. Животное бытие (вещь) лишь потребляет. В определении же бытие вещи утверждается. Omnis determinatio est negatio,— со ссылкой на Спинозу не раз говорит Г. Гегель. Животное не держит напряжение противоречия. Человеку это умение подвластно. За счет чего? Благодаря коллективной орудийной деятельности. ««Человек,— говорит К. Маркс,— сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку»[301]. Это отношение к другому человеку есть отношение, опосредованное орудием. Человек видит себя в другом, а другого в себе именно потому, что они оба одинаково представлены в орудии их совместной деятельности, и их совместная орудийная деятельность позволяет увидеть другого как себя самого, а себя как другого»[302].
В орудии, в котором представлены оба труженика, человек видит себя как нечто, но чтобы обнаружить принцип бытия, а соответственно и свое собственное начало, человек должен увидеть себя как ничто. Как это сделать? Как в своей собственной предметно-орудийной деятельности обнаружить ничтожность бытия? Или по-другому: каким способом снять орудийную деятельность, чтобы обнаружить собственное начало?
Очевидно, это будет какая-то особенная деятельность, отличная от непосредственно орудийной, но, тем не менее, связанная с ней крепчайшими узами.
Исторический человек разрешает это противоречие и рождает Слово. Первые названия вещей, первые мифы, первые религии, первые наскальные рисунки, первые танцы у огня с изображением охоты, первая живопись, первая музыка и есть это Слово, которое, как бы величественно оно не было, также необходимо было снять. Снять, чтобы, повторюсь, обнаружить собственное начало в чистом виде. Начало бытия. Первым в истории это удалось Пармениду. Но и личность всегда осознанно или неосознанно не минует эту точку. Потому так важно в процессе онтогенеза сотворить Слово, рождающее начало свободного, необусловленного действия. Слово, снимающее предметно-чувственную деятельность, и обладающее интенцией к снятию себя. Интенцией к абсолютному вычищению представления, созданному тобой. Но после этой чистки «нечто» все же останется, и это «нечто» есть то пространство, в котором ты будешь определять бытие и самого себя. Пространство, задаваемое как категория, априорно в учении И. Канта. На самом деле оно (пространство) создается трудом индивида, направленным к обретению собственной формы — личности.
Недавно я был свидетелем сцены «подготовки к экзаменам» в школу в близлежащем с моим домом детском саду. Детям для занятий физкультурой пригласили специального учителя — молодого, крепко сложенного мужчину в сером спортивном трико, подчеркивающем его мускулистые ноги. Синяя футболка и легкая красная куртка дополняли образ спортсмена, всем своим видом и энергичными разминочными движениями стремящегося увлечь четырехлетних малышей, построенных в две шеренги для физзарядки. Воспитательница, женщина средних лет с красивой прической, следила за процессом. Внимательно пересчитав детей, она вдруг обнаружила, что одного ребенка не хватает. И принялась искать «пропажу». Но хитрый мальчик («пропажа») уже в своем действии имел цель. И строил траекторию движения сообразно с целью. Ему очень хотелось добежать до одной из куч золотистых листьев (дело происходило в середине сентября), аккуратно собранных дворником у забора детского сада, при этом ни в коем случае не попасться на глаза воспитательнице — иначе заставят махать руками. Малыш исполнил задуманное гениально и просто. Интуитивно поймав мертвую зону за спиной воспитательницы, он обежал беседку своей группы с тыла и, словно Валерий Борзов на Олимпиаде в Мюнхене, ломанулся к забору. Куча листьев, в которую с разбегу сиганул мальчик, находилась в метре от высокого сеточного ограждения. C другой стороны забора остановился, затаив дыхание, я, боясь прервать непрерывность движения ребенка. Но мои опасения оказались напрасны — у малыша был свой «процесс». Ничего не замечая вокруг, он стал что-то искать в куче листьев, зарывшись по пояс. Разворошив кучу, малыш перешел к следующей. И снова зарылся. И вот нашел! — маленькое синее пластмассовое ведерко и совочек. Лицо его засветилось счастьем и радостью от обретения дорогих сердцу предметов. И только тут ребенка «нашла» воспитательница. И предложила добрым толерантным голоском попрыгать или поприседать. Да какой там! У мальчика было дело поважнее, у него уже пробудилась «воля человека».
Попробуем более четко зафиксировать проблему. С одной стороны, современная индустрия выпускает «море товаров» для детей, которые, не скупясь, покупают им родители, с другой стороны, ребенок лишен возможности взаимодействовать с предметами, опосредующими его вход в истинно человеческое бытие.
В чем умнее «мальчик с ведерком» остальной послушной детворы? И ведерко, и внутриобщинные предметы быта являются посредниками вхождения в образ общественного бытия. И ведерко, и предметы общинного быта отличны от «моря товаров» внутренней связью с маленьким человечком, пробуждением способности действовать сообразно с внезапно возникшей, абсолютно новой ситуацией. Наличие такой способности «малыш с ведерком» прекрасно продемонстрировал. «Воображение есть способность представлять предмет также и без его присутствия в созерцании… Поскольку способность воображения есть спонтанность, я называю ее иногда также продуктивной способностью воображения и тем самым отличаю ее от репродуктивной способности воображения, синтез которой подчинен только эмпирическим законам, а именно законам ассоциации»[303].
Если малыш в своей первичной предметной деятельности не разовьет этой важнейшей способности, то он рискует вырасти в сплошного «репродуктива», предел поступков которого — «действие по ассоциации». И хотя, как утверждал Маркс, «идеализм … не знает действительной, чувственной деятельности как таковой», сама «деятельная сторона»[304] способности продуктивного воображения зафиксирована Кантом в необходимом ключе. Если ребенок не обретет способность входить в образ человеческого бытия, то и само «пространство свободы» для него окажется закрытым. Духу в его лице просто некуда будет возвращаться. И неоткуда стартовать в развитие. Парадокс безо́бразного взаимодействия с «морем вещей» в том, что такое обилие пустой предметности полностью исключает из себя момент рефлексии. Скажем точнее,— рефлексия первого круга не осуществляется вообще! Проскочив этот необходимый момент развития, педагоги сразу приступают ко второму кругу рефлексии,— втискивают в голову ребенка всевозможные знания,— начиная от освоения различных языков, заканчивая основами ядерной физики. Но и это не есть истинная рефлексия! Нет гегелевского движения «от ничто к ничто». Поскольку изначально не было «ничто, из которого должно произойти нечто».
Наигравшись с дорогущим радиоуправляемым катером, вертолетом, ребенок выбросит игрушку, подаренную родителями. Здесь нет Я — ни в управлении вещью, ни в самой вещи — лишь свинячий восторг обладания.
Ребенок, играющий с ведерком, находится в спокойном состоянии удержания своего Я и возможностей ведерка, которое, вот ведь что удивительно! — тоже его Я. Именно он, а не кто-то другой ищет это ведерко в куче листвы. Именно он засыпает в ведерко совочком песок. Именно он высыпает песок из ведерка в собственную кучу песка, из которой можно построить замок. У Канта трансцендентальное единство самосознания задано априорно, мальчик творит это единство, играя с ведерком. Малыш «переворачивает» Канта, становясь маленьким Марксом, постигая объективную действительность субъективно, через практику. «Взрослый человек не может снова стать ребенком, не впадая в детство. Но разве его не радует наивность ребенка и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы на более высокой ступени воспроизвести присущую ребенку правду? Разве в детской натуре в каждую эпоху не оживает ее собственный характер в его натуральной правде?»[305].
А ведь, действительно,— разве сущность капиталистической формации лишь в покорном подчинении пролетариата буржуазии? Лишь в беззастенчивом и циничном наращивании капитала? Да, суть капитализма как бы в этом. Но не только. «Малыш с ведерком» в своей «войне с воспитательницей» осуществил в свернутой детской форме весь круг движения буржуазного строя — от первичной производственной дисциплины мануфактур и фабрик до свободной предметной деятельности, ничего кроме радости (даже в моменты крайнего отчаяния творческих мук!) трудящемуся не несущее. И здесь Маркс абсолютно прав,— внимательно вглядываясь в ребенка, мы способны выйти из состояния перманентного пессимизма, которое нам навязывает наличное бытие, и обрести характер, потенцию эпохи к преобразованию действительности в соответствии с целью исторического процесса.
Действие «малыша с ведерком» очень хорошо «озвучивает» Ф. Т. Михайлов. «Разве не правы те, кто включает жизнь человека в причинно-следственные отношения с внешним миром? Но, c другой стороны, человек живет своим будущим, мотивируя каждое жизнедействие свое образом его цели. Потому, в отличие от всего живого на планете, человек творит себя произвольно и целесообразно! Такова третья антиномия чистого разума… Мы подчиняемся обстоятельствам, когда они непреодолимы? Нет, тысячу раз нет! Без попытки их изменить человек и шагу не сделает. Его судьба — в борьбе за целесообразное и произвольное изменение обстоятельств, что оборачивается самоизменением. Творчество — вот суть человеческой жизни. Даже отказ от творчества, приспособление к обстоятельствам требует пусть тупой, но энергии отказа от борьбы. Снова воля самого человека!»[306].
«Малыш с ведерком», конечно, не вычленяет противоречия в логической форме, но рефлексия у него уже присутствует. Ее, очевидно, можно назвать эстетической. Абсолютное безразличие к «педагогическому процессу» детского сада отождествляется с небезразличным отношением к ведерку и разрешается у малыша в радость общения с предметом, в развитие фантазии, воображения. Не эту ли рефлексию ты замечаешь на Кубе — так и хочется ее назвать танцевальной. И не только на Кубе — танцует вся Африка, все родовые племена Латинской Америки. Негритянский блюз — выше него так и не сумела подняться культура Соединенных Штатов. И даже те, кто, казалось бы, черпали из блюза силу творчества. Имеется в виду, в первую очередь, Элвис Пресли. Почему? В мощи негритянского блюза — свободное проявление протеста против многовекового угнетения чернокожего населения на плантациях Юга. Противоречие предельно тяжелого физического труда и предельного бессилия перед плантаторами разрешается в предельно сплачивающую могучую песню. Это их песня. И они здесь боги.
Не случайно говорят, что писать для детей нужно также как для взрослых, но намного лучше. Потому и вошло нетленное произведение Астрид Линдгрен в классику детской литературы[307], что шведская писательница, уча диалектику «не по Гегелю», обладала могучей интуицией ума,— Карлсон не просто разрушает старый мир,— толстяк с пропеллером создает вселенную Малыша. В самом что ни на есть всеобщем смысле. Фактически Карлсон — alter ego Малыша.
Поэтому, уж если учиться у «малыша с ведерком», у Карлсона, у блюза, то нужно сотворить такую «шалость», которая бы изначально содержала в себе противоречие,— с одной стороны, это только твоя вселенная, с другой стороны, творчество твоей вселенной выводится из всего снятого тобой мира. Конечно, Элвису Пресли удалось прославиться, но мощи негритянского блюза он так и не достиг. И в этом трагедия певца. Себе-то он не врал. Чего не скажешь о Чарльзе Буковски. Начав печататься в послевоенное время в престижных журналах, Хэнк принялся осваивать рабочие специальности. В литературном творчестве сохранилась лишь искорка. Но она разгорелась со временем в яркий костер утверждения в романах и рассказах американского писателя идеала истинно человеческого, свободного труда. Поскольку было из чего.
Астрид Линдгрен просто и сверхталантливо показывает нам, что малышу в семь лет уже есть из чего сотворить своего Карлсона, который «лучше собаки». Пространство «шалостей» Карлсона безгранично. Его «шалю» — его «творю». Творю образ неограниченности творчества. Образ свободы. Образ собственной формы Малыша.
Изначальная божественная позиция студента (малыша, школьника) — это позиция бога Гегеля. И она существенно отличается от «божественной позиции», занимаемой современным учителем, и к которой, используя догматические или «продвинутые» толерантные подходы, педагог стремится подтянуть ученика. И отличие этих позиций, как это четко прописано у Гегеля,— отношение к противоречию. «Абсолютное внутреннее противоречие» бога-студента только тогда будет «внутренним», а значит и удерживаемым в любой деятельности, когда оно сотворимо самим студентом.
Исторически к этому пришло все развитие немецкой классической диалектики. У Гегеля мы читаем. «Постижение того или иного предмета состоит в самом деле единственно лишь в том, что Я делает его своим, проникает его и придает ему свою собственную форму, т. е. всеобщность, которая есть непосредственно определенность, или определенность, которая есть непосредственно всеобщность. В созерцании или даже в представлении предмет есть еще нечто внешнее, чуждое. В-себе-и-для-себя-бытие, которым он обладает в процессе созерцания и представления, превращается через постижение в положенность, Я проникает его мысленно»[308]. Но как Я будет придавать предмету «свою собственную форму», когда оно еще этой формой не обладает? Ведь проникнуть мысленно в предмет можно лишь тогда, когда ты способен удержать внутреннее противоречие сознающего и сознаваемого — самосознания и сознания. Поэтому Г. Гегель и пишет далее. «Объективность предмет имеет в понятии, и понятие есть единство самосознания, в которое он был принят; поэтому его объективность или понятие само есть не что иное, как природа самосознания, и не имеет никаких других моментов или определений, кроме самого Я»[309].
Поэтому начинать нужно с Я. Это, конечно, откровенно фихтеанский педагогический ход. Но как еще в психологических исследованиях выйти на позицию Спинозы? Только занимая изначально абсолютно противоположную позицию, позицию пантеизма Я.
Может быть, это чересчур смело? Но, полагая себя как бога, студент предполагает себя как бога. Через что? Через обнаружение надлома, противоречия в своей реальной, практической деятельности. Тем самым утверждая гегелевский тезис — «небытие конечного — это бытие абсолютного»[310].
5.4. Камбур Н. А. Самообразование и обучение как результат имплементации технико-технологических инноваций
В современной науке отдельную сферу исследований формируют вопросы, связанные с влиянием технологий на процессы взаимодействия человека и общества, в частности коммуникации, управления, политики, науки и образовании. Сегодня одним из наиболее исследуемых является влияние технологий на развитие образования и образованности людей, распространение и воплощение идеалов гуманности в современной культуре. За последние сто лет мировое сообщество приложило немало усилий к созданию условий для развития международного сотрудничества с целью распространения образования, науки и инновационной деятельности. Одной из ведущих организаций, которая занимается интеллектуальным, общекультурным и моральным развитием человечества, является ЮНЕСКО, считающая науку и образование главными средствами содействия миру, поддержки устойчивого социально-экономического развития и экологической безопасности. Деятельность этой организации руководствуется установками целостного и гуманистического видения качества образования во всём мире, реализации права каждого на образование и веру в фундаментальную роль образования в гуманитарном, социальном и экономическом развитии и реализует принципы уважения к жизни, человеческому достоинству, обеспечения культурного разнообразия, социальной справедливости и международной солидарности[311]. С целью внедрения указанных установок ЮНЕСКО широко пропагандирует использование новейших технологий в образовательном процессе и культурном пространстве.
Современные технологии обеспечивают материальные и информационные ресурсы для реализации главных гуманитарных стратегий нового тысячелетия, в частности, образования без границ, образования на протяжении всей жизни, доступности образования для людей с ограниченными возможностями, трансграничной культурной коммуникации, обеспечивая формирование глобального мирового культурного сообщества, распространение общечеловеческих ценностей и смыслов. Исследователи подчёркивают значение основных тенденций образования последних лет, направленных на усиление познавательной активности учеников / студентов и изменение роли учителя от наставника к координатору образовательного процесса. Во-первых, отмечается перераспределение классных / аудиторных часов обучения и самостоятельной работы учеников / студентов. Во-вторых, можно отметить гибкость расписания и учебной нагрузки. В-третьих, осуществляются преференции в пользу таких форм, как поисковое, проективное, проблемное, самостоятельное и игровое обучение. Распространение этих тенденций стало возможным благодаря электронному (видео- и аудиолекции, электронные книги, учебные задачи на электронных носителях, образовательно-учебные игры) и сетевому обучению (онлайн-лекции, тестирование, распространение учебных задач и мониторинг их выполнения через социальные сети, обсуждение на форумах). Благодаря расширению мобильных приложений и использованию планшетов сетевое обучение стало ещё более гибким и доступным практически в любое время и в любом месте.
Новейшие достижения в технико-технологической отрасли открывают все интересные возможности для модернизации образования, которые становятся предметом рассмотрения международных организаций, заинтересованных в их распространении[312]. Так называемая расширенная реальность (англ. augmented reality), которая возникает в результате дополнения реальных объектов виртуальной сенсорной информацией, позволяет наглядно отслеживать динамические процессы; увеличить или уменьшить, упростить или усложнить объекты изучения, создавая необходимую для эффективной работы с ними форму; моделировать явления и процессы в 3D формате и тому подобное.
Интернет вещей (англ. Internet of things) — сеть взаимодействия между собой физических объектов без непосредственного вмешательства человека с помощью встроенных устройств для накопления, обработки и обмена информацией. Умные объекты (англ. Smart objects), которые возникают при этом, открывают доступ к сбору данных, проведению наблюдений, ранее недоступных для человека, а также становятся средствами для предоставления информации субъектам обучения.
Расширение границ традиционной учебной аналитики учащихся и студентов делает возможным мониторинг и оценивание значительного массива данных о различных видах их образовательно-учебной активности (учитывая образовательное пространство Интернета, социальных сетей и т. п.), а также позволяет преодолевать возникающие при этом трудности, разнообразит формы консультирования, увеличивает резервный потенциал самоанализа, самооценки и прогнозирования результатов обучения.
В краткосрочной (от двух до пяти лет) перспективе внедрения в образовательную отрасль ожидают: 3D печать, гибкие дисплеи, нательные технологии, виртуальные игры и геймификация рутинных учебных процедур и процессов и прочее[313]. Все эти инновации и нововведения не являются самоцелью и направлены на реализацию ценностей, в основе которых лежит преобладание самообразования над обучением. Они оказываются в ряду образовательных принципов и подходов. Прежде всего, признается самостоятельность, активность, вовлечённость и ответственность учеников и студентов как субъектов познания, что создает основания для акцентуации субъект-центрированного подхода в учебном процессе. Вместе с тем возникает необходимость сочетать индивидуальный подход с установками интерактивности, коллективной работы, синергии субъектов образовательно-познавательного процесса. Одной из характерных черт человеческого способа бытия и деятельности признана способность к саморазвитию и творчеству; соответственно, целью образования выступает не только и не столько усвоение знаний и формирование навыков, сколько гармоничное развитие личности и раскрытие её творческого потенциала. Также важную роль играет ориентированность образования на реальные потребности, интеллектуальные и практические запросы учеников / студентов, постоянная трансформация которых обусловливает вариативность содержания образования.
Меняется и понимание сущности педагогического образования. Современные университеты ставят себе целью готовить специалистов, которые способны не только обучать, консультировать, моделировать образовательный процесс, но и вести за собой, вдохновлять на обучение в течение жизни, постоянный рост и саморазвитие, отвечая на изменения и вызовы, с которыми человек встречается в нестабильном, динамичном обществе, привлекая в учебный процесс постоянно обновляющиеся и прогрессирующие технико-технологические достижения[314].
Анализ прогнозных результатов имплементации последних технико-технологических новаций в образовательный процесс за несколько предыдущих лет показывает, что образование остаётся одной из самых консервативных социальных сфер. Для примера возьмем ожидания, связанные с введением массовых открытых онлайн-курсов (англ. massive open online courses), которые, согласно модели «Hype cycle», разработанной исследовательской компанией «Gartner» для новых технологических продуктов, с «пика завышенных ожиданий» в 2012 году упали до «низины разочарования»[315]. Авторы исследования называют ряд причин наблюдаемого разочарования: 1) базовый уровень образования реальных слушателей не совпадает с необходимым и достаточным уровнем целевой аудитории, на который рассчитывали разработчики курсов; 2) низкий процент успешности и качества знаний студентов, которые прошли онлайн-курсы; 3) неприспособленность многих профессоров к работе онлайн и другие. В целом онлайн-курсы оказались эффективным форматом образования лишь для незначительного количества лучших студентов. Однако эта форма обучения может служить своего рода тестом, так сказать, пробным камнем для тех, кто хочет попробовать овладеть какой-то специальностью, не тратя при этом значительных материальных ресурсов и времени, даже если эти попытки окажутся неудачными. Она достаточно эффективна для повышения уровня профессионального образования и решения неотложных образовательных проблем и вызовов, которые встают перед человеком и требуют немедленного решения. Онлайн-курсы чаще всего рассматривают как одну из составляющих комбинированного обучения.
Особый вид технологий, непосредственно не связанный с развитием технических приборов и средств, формируют так называемые гуманитарные технологии или, в широком смысле, технологии воздействия на человека. Частичными формами их воплощения в различных социальных сферах стали политтехнологии, коммуникационный менеджмент, связи с общественностью, формирование имиджа, коучинг и др. Гуманитарные технологии отражают присущие постмодернизму установки гибкого управления или координации усилий, согласованности внешнего воздействия и внутренних тенденций развития[316].
Главный образовательный ресурс, с точки зрения гуманитарных технологий — это внутренние потенции субъектов обучения, их интерес и потребности. Задача гуманитарных технологий в процессе обучения — удовлетворить запросы индивида, учитывая социальный заказ на формирование и реализацию признанных ценностей. При этом большинство стран мира соглашаются с требованием учитывать в национальных стандартах образования не только государственные интересы, но и общечеловеческие ценности и нормы. Сегодня формирование многих образовательных целей происходит не на уровне государств, а на межгосударственном уровне, когда основные приоритеты образования и цели провозглашаются в международных конвенциях и документах и являются стратегическими ориентирами для международного сообщества. Совместные образовательные принципы и нормы создают предпосылки для формирования трансграничного образовательного пространства, прежде всего на ментальном уровне.
Основой и залогом успешного образования признают интеллектуальное и культурное развитие личности, высокий уровень которого определяется её способностью быстро реагировать на меняющиеся социальные запросы. Прежняя образовательная парадигма отражала интересы и сущность индустриального общества, воплощая принципы детерминированного познания и однозначности оценок, но её постепенно заменяет методология информационного общества, плюралистического познания и вероятностных оценок и суждений. В информационном обществе уже недостаточно ориентации на знание как результат обучения. Информация сама собой перестает быть абсолютной ценностью, поскольку благодаря технологиям доступ к различным источникам её получения значительно расширяется. Кроме того, образование ориентировано на рынок труда, признаком которого становится постоянное ускорение темпа изменений, и, соответственно, невозможность предусмотреть, какие именно знания будут актуальными в ближайшее время. Именно поэтому сейчас важным является не только умение оперировать собственными знаниями, но и быть готовым меняться и приспосабливаться к новым потребностям рынка труда, оперировать и управлять информацией, активно действовать, быстро принимать решения, учиться на протяжении жизни.
Современное образовательное сообщество сегодня ставит перед собой новую задачу — сформировать у школьника, и у взрослого умение учиться. Это умение формируется на основе постнеклассической методологии: открытости, обмена информацией с внешней средой, органичного перехода от стабильности и порядку к хаосу и наоборот, самоорганизации и т. п. Ожидаемые результаты обучения определяют в виде целостных комплексов знаний, умений, практических навыков, познавательных установок, ценностей, эмоций и элементов поведения — компетенций. Образованный человек должен уметь выполнять поставленные задачи и решать насущные проблемы, постоянно овладевая новыми знаниями и навыками. Понятие компетентности в обобщенном виде определяется как совокупность способностей и качеств личности, необходимых для успешной профессиональной деятельности в определённой области. Для каждой профессии общество определяет свой набор компетенций, которыми нужно овладеть в процессе подготовки. Важное место занимают базовые (ключевые, интегрированные) компетентности, удовлетворяющие главные требования к образованию: способствовать достижению профессиональной компетентности и повышению качества общественных институтов, отвечающих разнообразным сферам жизни. Компетентности выполняют роль индикаторов, определяющих готовность образованного человека реализовать свои жизненные цели, развиваясь как автономная и одновременно социально активная личность. В компетентности как интегральном понятии должны гармонично сочетаться ориентации на как индивидуальные, личностные приоритеты, так и социальные, общечеловеческие ценности. В процессе профессиональной подготовки студенты приобретают социально значимые умения: участвовать в поддержке и развитии общества, утверждать социальную справедливость, способствовать взаимопониманию между членами общины, общества и защищать права человека. Ключевые компетентности должны быть благоприятными для всех членов общества, то есть соответствующими всем независимо от пола, класса, расы, культуры, семейного положения и языка. Кроме того, они должны быть не только согласованы с этническими, экономическими и культурными ценностями и конвенциями соответствующего общества, но и соответствовать приоритетам и целям образования и иметь личностно-ориентированный характер. Современные системы образования, как видим, основываются на паритетности двух главных ценностей: индивидуальной свободы и социальной ответственности.
Различные международные организации акцентируют внимание на тех задачах образования, которые предстают приоритетными в соответствии с декларируемыми намерениями. Согласно компетентностной концепции ЮНЕСКО, в процессе обучения важно: «научиться жить вместе», «научиться познавать», «научиться работать» и «научиться быть». На первый взгляд, такая формулировка довольно абстрактна и требует наполнения конкретным содержанием. Но главная задача состоит в правильном формировании цели и задачи образования в виде системообразующих образовательных целей. Они определяют жизненно важные компетентности в области самообразования и саморазвития, рациональной продуктивной деятельности, а также поликультурную, информационную и коммуникативные компетентности.
К общечеловеческим жизненно-ценностным составляющим компетенций следует отнести чётко очерченные ожидаемые результаты профессиональной подготовки в высшей школе: общение на родном языке; общение на иностранных языках; математическая компетентность и базовые компетентности в области науки и техники; цифровая вычислительная компетентность; умение учиться; социальная компетентность и гражданская компетентность; инициативность и предприимчивость; культурная образованность и выразительность. При этом компетентный специалист отличается от квалифицированного тем, что он реализует в своей работе профессиональные знания, умения и навыки; он всегда занимается саморазвитием и выходит за пределы своей дисциплины; при этом он считает свою профессию большой ценностью. Заметим, что компетентностный подход предполагает не просто постановку новых образовательных задач для студентов; он коренным образом меняет отношение преподавателя к определению целей учебно-воспитательного процесса. Прежде всего в фокусе внимания должна находиться деятельность по организации и координации действий всех его участников, а не только передача и воспроизведение знаний и информации. Его реализация возможна на основе междисциплинарности и межпарадигмальности (естественной и гуманитарной схеме-парадигме). Актуальной проблемой современного научно-образовательного пространства является сопоставимость запросов высокотехнологичной промышленности, нуждающейся в квалифицированных специалистах в узкоспециализированных областях, с одной стороны, и запросов демократического гражданского общества, которое требует сознательных и ответственных личностей с широкой гуманитарной базой, высоким уровнем эрудиции, развитой культурой мышления и поведения,— с другой. Оба эти запроса, обе потребности обращены к научно-образовательному сообществу. Не одно десятилетие педагоги и широкий круг учёных пытаются согласовать эти два разнонаправленных вектора, разрабатывая концепции и проекты развития соответствующих отраслей знания и обучения.
Гуманитарные технологии характеризуются, прежде всего, направленностью на развитие в человеке способности к рефлексии и поощрением углубленного осмысления в повседневных делах и работе. Рефлексия трактуется не только как специфически философская компетентность (движение человеческого мышления на осознание и осмысление своих собственных форм, предпосылок, анализ содержания и методов познания), но и как базовое свойство человека (способность взглянуть на себя, свои мысли и убеждения как бы со стороны), связанное с самосознанием, сознательным отношением к своим действиям, управлением своей жизнью и саморазвитием. Соответственно, гуманитарные технологии закладывают фундамент для развития и стимулирования способности человека к совершению выбора, принятию решений, формированию ответственности за себя и общество, в котором он живет. Главным инструментом и средой реализации гуманитарных технологий становится усвоение гуманитарной культуры человечества, воплощенной в символической знаковой форме, прежде всего текстах (литературно-художественных, научных, публицистических, рекламных и т. д.). Специфика гуманитарных технологий заключается в опоре на свободный выбор человека, стимулирование его внутреннего интереса к реализации поставленных целей и задач. Итак, гуманитарные технологии формируют навыки осмысления в широком смысле — выявление объективного смысла вещей и действий или наделение их субъективным смыслом. При этом гуманитарные технологии по своей направленности могут касаться не только отдельной личности, но и группы лиц или даже общества в целом.
В государстве крайне необходимо наличие смыслового центра, осей координат развития науки и образования для координации усилий специалистов, прежде всего из разных областей гуманитарного знания, для определения общепризнанных ориентиров в учебно-воспитательном процессе и ожидаемых результатов этого процесса.
Распространенной остаётся мысль о месте гуманитарных наук на периферии научно-образовательного пространства. Поскольку эффективность гуманитарной составляющей образования не доказана и не подлежит точному оцениванию, то и затраты на её обеспечение всегда можно назвать лишними или чрезмерными. Этот тезис, как правило, обоснован экономическими приоритетами развития государства и по своей сути является актуализацией вульгаризированной формулировки «бытие определяет сознание». Предоставление преференций одним (технико-технологическим) направлениям в ущерб другим (социально-гуманитарным), в том числе морально-этическим, художественным, правовым и т. п., имеет одним из своих последствий односторонне определённую перспективу развития науки и образования, что, в свою очередь, противоречит выводам самых современных научных теорий, согласно которым для эффективного направления процесса развития необходимо учитывать системно-синергетические характеристики как мира в целом, так и отдельных явлений и процессов в нём.
5.5. Ткаченко А. А. Традиция и «третий субъект» образовательного процесса
В педагогической теории и практике актуальной, а нередко и конфликтной является проблема соотношения инновации и традиции, точнее игнорирование их диалектического единства. Ситуацию в современном образовании можно назвать иронией исторической судьбы человечества. Мудрость разума как онтологическая данность человека (универсальное самопознание духа) остается отчужденной формой и на авансцене истории продолжает «безобразничать» главный герой — рассудочный прагматизм, натурализм и неодухотворенный рационализм. Используя свое положение, за словами И. А. Ильина, этот хам занял место диктатора и показывает все свое хамское нутро. А его хозяин стал бездумным рабом[317]. А «…сама душа — система рациональных принципов — оставляется без культуры и без сведения о самой себе и о своем отношении к последним целям человеческой личности»[318]. Многие мыслители XX в. (Ю. Габермас, Г.-Г. Гадамер, Ф. Р. Ливис, К. Ясперс, В. Лепениз, Я. Пеликан и др.) c тревогой отмечали, что современная система образования переживает период «гипертрофии средств и атрофии целей». А В. Возняк, акцентируя внимание на преобладании в образовании технократического рассудочного мышления, пишет: «Рассчитывая на получение максимальной выгоды в данный момент, оно одновременно теряет сам смысл движения… Конечные цели подменяются и замещаются частичными, промежуточными… Технократизм — апогей средств, посредственности. С точки зрения технократической идеологии школа, образование, обучение — только подготовка к жизни, но не сама жизнь»[319].
В результате изменений незначительных и рассчитанных только на полезные последствия в настоящем, в системе образования увеличивается диспропорция (даже разрыв) между традицией и инновациями; между глубинным духовным содержанием культуры и ее репрезентативными формами. Педагогическая наука и ее чиновники, пребывая в эйфории постоянных реформ, и продолжая предлагать формальные способы и методы образовательно-воспитательного процесса, забывают о том, что «если бы родители своих детей выкармливали-воспитывали в строгом соответствии с последними данными науки педагогики, Земля давно была бы пустой»[320]. Воспитание (как питание души духом),— согласно В. Возняка,— некое трансцендентальное, оно осуществляется не за логикой целесообразности, а за логикой цело-сообразности[321].
В связи с этим актуализируется вопрос о вхождение в традицию как цель образования. Мы рассматриваем традицию в широком социально-философском значении как особенную онтологическую реальность. Традиция — это метафизическая основа бытия культуры, сущность человеческого существования. «Освоить традицию — это значит приобрести искусства соразмерять опыты собственной жизни, здесь и сейчас совершающейся, с духовными, ценностными ориентирами, на которых держалось общество на протяжении сотен лет. Это значит войти в традицию, стать ее носителем, “своим среди своих”, познать действенность смыслов и ценностей традиции, практически испытать их энергию и созидательную власть»[322].
Традиция создает условия для единства временных, пространственных, фрагментарных условий реализации духовного потенциала человека, народа, общества и в целом человеческой истории. «Содержанием этой традиции является то, что создал духовный мир, а всеобщий дух никогда не останавливается в своем движении»[323].
Разные эпохи, культуры, разные способы жизни. Но они неразрывны только в том случае, когда переход с одного жизненного пространства в другое предполагает сохранение полноты культурной памяти. Речь идет о культуре, которая содержит в себе вечную идею и для которой не существует, за словами Августина Блаженного, настоящего, а существует «настоящее прошлого» и «настоящее будущего».
«Созданное каждым поколением в области науки и духовной деятельности есть наследие, рост которого является результатом сбережений всех предшествовавших поколений, святилище, в котором все человеческие поколения благодарно и радостно поместили все то, что им помогло пройти жизненный путь, что они обрели в глубинах природы и духа. Это наследование есть одновременно и получение наследства, и вступление во владение этим наследством. Оно является душой каждого последующего поколения, его духовной субстанцией, ставшей чем-то привычным, его принципами, предрассудками и богатствами; и вместе с тем это полученное наследство низводится получившим его поколением на степень предлежащего материала, видоизменяемого духом»[324]. Истинной субстанцией индивида у Г. Гегеля есть «дух народа» (Volkgeist), к которому он принадлежит. Г. Гегель акцентирует внимание на обусловленности индивида социокультурным пространством, тем смысловым горизонтом, в котором он осознает себя. Автентичность индивида, его моральная жизнь возможна только тогда, когда он являет себя не только как особенное, но и как всеобщее.
Вхождение в традицию как цель образования и воспитания непосредственно связана с проблемой «третьего субъекта» образовательного процесса, которая остается центральной в философско-педагогических размышлениях В. Возняка.
На основе идеи самоопределения культуры Ф. Т. Михайлова, украинский философ делает вывод о том, что «быть человеком каждого из нас определила культура, и только поэтому мы способны собой определять культуру»[325]. Преобразование содержания образования в культуру в истинном значении этого слова — суть идеи «третьего субъекта» как трансцендентального феномена, который не ограничивает субъектность других, а сохраняет и возрождает их. «Культура (как содержание и содержательность учебного процесса) — третий субъект, и самая сложная и главная задача педагога — “предоставить слово” именно “третьему”, активировать субъектность культуры, ее идеальную природу, для того, чтобы именно она и учила, и воспитывала — в смысле: питала собой– душу, сердце и разум каждого ученика»[326].
Таким образом, традиция независимо от обстоятельств (речь идет о содержании, а не о различных ее внешних формах) остается потенциальным условием «прорастания души в пространстве культуры и с культуры» (В. Возняк). Действительно, человек остается человеком только в том случае, если он включен в живой процесс развития культуры, в которой находит смысл и источник творчества. Пытаться прерывать традицию и разрушать культуру — значит отрицать саму человеческую природу.
Традиция содержит в себе предметность, которая согласно И. Ильина, вместе с любовью и свободою должна определять воспитание. Предметность выводит человека из состояния безразличия, напоминает ему об ответственности и долге, которые непосредственно связаны с отношением к духовным основам культурно-исторического процесса. Жить предметно — значит единить себя с той ценностью, которая вносит в нашу жизнь высший смысл.
Служение, посвященность… Не случайно этими словами называет Г. Батищев третий тип педагогики — педагогику воспитания или педагогику со-творчества и безусловно-ценностной посвящённости. Такая педагогика отдается приоритет такому уровню в структуре душевно-духовного мира, назначение которого — «устремлять всего человека, всю его судьбу-жизнь к согласию с истиной и красотой, добром и общительством… На этом ярусе человек обретает то со-творческое отношение ко всему миру и к самому себе, которое есть предпосылка любой творческой деятельности, но которое не обязательно переходит в нее. Это со-творческое отношение глубже, многомернее, диалектичнее. В не м — духовныи облик человека, его духовно-культурное устроение»[327].
К сожалению, мы живем в такой период истории, который ведет «к отрыву от субстанциальных предпосылок, от традиций, к тому, что составляет голое мышление, будто в этой лишенной субстанциальности сфере чистой рациональности (ratio) может быть что-либо создано. Это — просвещение, которое наперекор самому себе не просвещает, а ведет в пустоту»[328].
Но к счастью, еще остаются люди, которые осознают, значимость абсолютного, духовного, непреходящего, значимость укорененности человека в мир со всеми его смыслами и отношениями. Не случайно культура, традиция, «третий субъект» образовательного процесса рассматриваются нами в единстве — речь идет о животворящем, непрекращающемся диалоге, универсалиями которого есть мироутверждение; со-причастность; приоритет безусловно-ценностного отношения; доминантность на всех Других; предваряющее утверждение достоинства каждого другого; творчество как свободный дар встречи, дар междусубъектности; со-творчество[329].
И если неразрушимыми остаются истинные смыслы, рожденные духовной глубиной традиции, то человек имеет возможность не только выжить, но и достойно прожить свою жизнь, не навредив себе и Другому.
Может мы и ошибаемся, но система образования — пространство, где не обязательно постоянно экспериментировать. Она предполагает традиционность. Необходимо быть осторожными, чтобы «вместе с грязной водой не выплеснуть ребенка»!
5.6. Некрасов С. Н. Миссия гуманитарного образования в переходе к ноономике
При рассмотрении вопроса о формировании специалистов в российском ВУЗе, а простых специалистов теперь практически не готовят — выпускают бакалавров, магистров, равно как в самом названии министерства пропал термин «профессиональное», говорить следует не о гуманитарных технологиях в образовательном пространстве. Речь должна идти о гуманитарных науках, образовании людей, формировании в них человеческого образа. Мы видим актуальным не форму образования и не технологии в образовательном педагогическом пространстве, но содержание — гуманитарное образование взрослых людей, андрагогика и гуманитарные науки в ВУЗе. Стоит вопрос не как образовывать людей из детей (педагогика) или как образовывать взрослых людей (андрагогика), но как сформировать взрослых и ответственных людей. В противном случае мы упустим цели и сущность образовательного процесса, а увидим лишь форму, средства и сосредоточимся на технологиях дидактических единиц, общих и профессиональных компетенций, модулей и дисциплин, баллов и рейтинга. На самом деле вопрос нужно ставить о подготовке людей средствами гуманитарных наук для социальных технологий. В противном случае разрыв между людьми, «человеческим, слишком человеческим» и «нечеловеческим» (говоря словами Ф. Ницше) станет непреодолимым.
Какие технологии встречают людей за пределами ВУЗа? Это должны быть технологии неоиндустриальной системы, а не постиндустриальной системы либералов-западников, полагающих, что только активная монетаристская политика в интересах богатого меньшинства и, связанные с ней финансовые манипуляции, могут спасти Россию и мир. Либералы, тем самым в антидемократическом духе оправдывают колоссальные потери промышленности, народонаселения, образовательных учреждений и научных институтов страны в их «святые 90-е». Именно такое разрушение национальных промышленных и государственных систем называется в духе решений ООН, как утверждает советник президента РФ по экономике С. Ю. Глазьев, «геноцидом». Именно так названа его книга[330].
Подготовка людей как специалистов для народного хозяйства (и этот термин исчез из оборота в ходе капиталистического преобразования России) в виде гуманитарного образования и овладения структурой гуманитарных наук в процессе обучения в ВУЗе должна исходить из того факта, что промышленный комплекс страны возник исторически в советский период. Народнохозяйственный комплекс был изначально тесно связан с двумя другими системами — образовательной и научной.
Признание единого промышленно-образовательно-научно-исследовательского комплекса, компоненты которого не могут быть волюнтаристски реформированы в духе постиндустриального общества и выполнения условий МВФ — такова позиция нынешнего политического руководства России. У нас провозглашен курс на модернизацию с опорой на средний класс и цифровую экономику развития суверенной страны посредством реализации национальных программ, указов и введения в действие единого президентского указа прямого управления.
Поскольку в постсоветской России в качестве универсальной гуманитарной технологии последние 30 лет внедряют только одну систему западного рыночного мира, неудивителен конфликт между ценностными системами в жизни и сознании людей. Так, преподаваемые сегодня в Вузах науки об обществе — будь то политическая экономия (экономика как дисциплина и «Экономикс» как практическое манипулятивное приложение), социология, политическая наука, межкультурные исследования, этнология и структурная антропология или иные дисциплины — возникли как средство понимания реальности в интересах определённых групп и навязывания этого понимания другим группам. Они возникли как единая гуманитарная технология, с помощью которой господствующие в XIX-XX вв. группы могли бы объяснять мир и подавлять все остальные точки зрения как альтернативные. консервативные и нетолерантные. Социальные науки западного образца эпохи модерна как гуманитарные технологии власти в их англосаксонском виде, закреплённом в мозаичной структуре УМКД, программах и ФОСов очередного поколения, возникали благодаря практическим нуждам: необходимости анализа рынка, создания новых институтов, потребности объяснять и контролировать негативные процессы, выявлять потребительский спрос и манипулировать человеком, как так называемым человеческим капиталом. Формы образовательного процесса конвертируются в образовательные технологии и потому не могут быть поняты как нейтральные по отношению к содержанию и целям образования. Это значит, что более предпочтительны классические формы образования или классическое образование. Образование в аудитории, а не на дистанции, экзамен перед экзаменатором, а не перед компьютером, оценки цифровые, а не бально-рейтинговые.
Физическая экономика и ноономика. На самом деле в жизни выпускники встречаются с результатами нового курса страны на процесс инновационного развития науки, образования и промышленности. В результате в стране в короткие сроки предполагается формирование ноономики, в ходе формирования которой мы должны пробежать большую историческую дистанцию в ходе модернизационного развития. В сущности, этот путь и есть русский прорыв в будущее. И тут возможны три типа проектов ускоренного развития российской социальности в контексте динамики единого комплекса суверенной страны-цивилизации. Первый тип проектов основан на традиционных отраслях промышленности и может быть назван консервативным вектором, замораживающим отсталость. Для понимания этих проектов и работы с ними требуется знание всего объема советской и классической зарубежной культуры, марксистских гуманитарных наук и классического зарубежного обществознания. Второй тип направлен на создание новых форм промышленности и таких ее отраслей, которые ныне находятся в эмбриональном состоянии в лабораториях по оптоэлектронике, лазерной технике и выращиванию кристаллов, созданию роботов. Для работы с этими проектами нужны работы в области неомарксистской и современной постструктуралисткой идеологии. Третий тип ориентирован на создание метапромышленности как основы метаэкономики, связанной с циклами инновационной деятельности в рамках корпоративных университетов и технопарков. Источники развития извлекаются из сферы человеческого потенциала (не потребительского и платежеспособного спроса) как отечественного ресурса — мышления и образования. Единственный критерий развития — физическая экономика. Для работы с этими проектами необходимы обширные знания в области «физической экономики» Л. Ларуша и концептуальные разработки в ноономике и исследования четвертой и пятой мировой теории в области альтернативного цивилизационного развития[331].
Президент Вольного экономического общества России профессор С. Д. Бодрунов показывает, что сегодня изменения в материальном производстве серьезны, и нельзя просто говорить о реиндустриализации, но следует толковать о радикальном изменении производства в связи с наукой и образованием. «Новое индустриальное общество второй генерации», как выражается С. Д. Бодрунов, в мире ноосферы влечет за собой рождение качественно нового типа отношений — ноономики[332]. Как мы можем интегрировать проекты развития ноономики России и одновременно спасти ее от социального взрыва архаической социальной структуры?
Это невозможно без восстановления культурного единства общества и без использования культурного потенциала русского человека в новых условиях становления так называемого цифрового общества XXI в. Понятно, что Россию ждет либо второе издание антибуржуазной революции, либо модернизация без мобилизации в направлении формирования неоиндустриального цивилизационного типа общества, но с опорой на культурный потенциал русского народа. Сейчас народы мира ждут спасения от катастрофы постиндустриального общества. Они нуждаются в избавлении от свободного рынка, информационной эры, от свободной торговли. Здесь необходимо применить силу и политическую волю — вернуться средствами стратегического планирования к развитию цифрового сельского хозяйства и умной промышленности, улучшению качества образования и повышению жизненного уровня. Локомотивом такого глобального неоиндустриального развития в общее и безопасное будущее объединенного человечества может и должна стать Россия. Историческая Россия в ее расширении поставит вопрос о народной мечте и русском космизме, освоении космического пространства Луны и Марса на основе создания на Земле единого нового индустриального комплекса в рамках русского цивилизационного неоиндустриализма как четвертой мировой теории.
Единство гуманитарного образования и гуманитарных наук. Гуманитарные науки восстанавливают отечественный культурный код, основанный на негласном общественном договоре, в рамках которого право строится на правде, а этика основывается на коллективной совести, справедливости и стыде. В управлении таким образовательным процессом и в самом образовательном процессе с приобщением к гуманитарным наукам можно выделить две составляющие: специальная — индустриальная (или профессиональная) составляющая, гуманитарная (общекультурная) составляющая — формирующая мировоззренческие основания знаний, умений, навыков специалиста любого профиля, где знания об истории и теории культуры человечества должны даваться целостно, концептуально, без описания. В науках гуманитарных пора переходить от идеографических методов к номотетическим.
В числе первоочередных действий государства в системе государственного высшего образования могут быть зафиксированы предложения:
Создать единый Центр координирующий, управляющий процессом культурологической подготовки на протяжении всего процесса подготовки специалиста — Гуманитарный межкафедральный комплекс. Исходя из требований методологического обеспечения процесса, обязанности руководителя Комплекса или Департамента возложить на заведующего кафедрой культурологии, то есть назначить заведующего кафедрой распоряжением ректора по решению Ученого Совета проректором по гуманитарному образованию и гуманитарным наукам.
Целесообразно ввести единый выпускной итоговый государственный экзамен по истории и теории культуры и гуманитарным наукам как экзамен по «основам мировоззрения гражданина России» для государственной аттестации результатов общекультурной подготовки специалистов как квалификационное выпускное испытание.
Создать Общественный Совет ВУЗа по гуманитарной составляющей образования из заведующих выпускающими, в том числе частно-профильными гуманитарными кафедрами под руководством заведующего кафедрой культурологии.
Разработать учебные планы гуманитарной подготовки с учетом специфики специальностей студентов и аспирантов. К данной работе можно привлечь учебно-методические комиссии факультетов и всего ВУЗа.
Обеспечить целостность, интегративность учебно-воспитательного процесса общекультурной подготовки — создать структуру при Гуманитарном межкафедральном комплексе (департаменте), активно занимающуюся общекультурной подготовкой во внеучебное, внеаудиторное время.
Перечисленные шаги позволят перенести центр тяжести с трансляции знаний на образование, со структурированного образовательного пространства на гуманитарные науки, с электронного коммуникативного обмена на человеческое общение. Все это позволит вернуть людей в теорию, а Россию и образование в историю.
Образование и наука под знаменем великой мечты. Парадоксально, но в сложнейшие моменты истории не раз происходит прорыв под знаменем великой мечты. Само выражение «под знаменем» предполагает социальные преобразования, озаренные народной мечтой. Первым шагом новой русской мечты в современной России стало открытие А. А. Прохановым Академии Русской Мечты на Урале в Екатеринбурге в 2019 г. Побеседовав на открытии с Александром Андреевичем, автор понял его замысел — нужна концептуализация мечты. Для усиления эпистемологического обеспечения этого дискурса, автор уже издал двухтомник, посвященный анализу социальной диалектики в конце предистории, и вспомнил, что, как и какие слова писал его отец на Рейхстаге[333]. А, побывав у Рейхстага, автор нашел самую подходящую форму записи мечты не там, а на чугунной доске у входа в Рейхсканцелярию: «Ну вот, твою бабушку, и мы здесь!» И внизу было приписано разъяснение для непонятливых: «Конец немецкого фашизма».
А кто такая бабушка германцев? Русская мечта гласит: по материнской линии у русских бабушка — это «матушка Россия», и «дедушка Крылов». По отцовской линии — «дедушка Ленин» и «отец Сталин». Сказанное свидетельствует о том, что бинарная парадигма цивилизаций Востока и Запада не объясняет специфику и причины ускоренного развития или торможения русской цивилизации. Необходимо рассматривать русскую народную мечту и русскую модель социального управления и выводить из них причины краха многочисленных перестроек, предпринимаемых элитами. Сказанное не вытекает из науки и образования, но обеспечивается гуманитарным образованием и гуманитарными науками. В Философском манифесте Московской Антропологической Школы первым пунктом фиксируется сложность отношений мышления и науки, науки и философии: «Сегодня многие думают, что наука — это мера мышления. Мы думаем иначе. Наука не мера мышления, а его противник. Мыслят парадоксами, многозначными образами. Наука стремится к однозначности. Философия усложняет. Наука упрощает. Это и определяет горизонт её существования. Учёный сегодня, как правило, ретроград, реакционер. Есть только одна мера мышления — философия. Но философия — это не наука».
И далее последний 24 тезис: «Чтобы мыслить, нужно воображать. Нужно научиться придавать смысл бессмысленному. Нас интересует не язык, а речь, которая соединяет реальное и воображаемое. Науки о мозге ничего не знают о воображаемом. Наш мозг слишком примитивен, чтобы, минуя сознание, реагировать на символы. Искусственный интеллект лишь повторяет операции, совершаемые человеком. Человек — ритм, но не алгоритм. Не число, а чистый цвет, чистый звук и чистая форма непосредственно воздействуют на человека. Ничто во внешнем мире не является цветом, звуком и формой. Это все то, что возникает и существует во внутреннем мире человека. Мы — новые антропологи»[334]. Цифровые технологии в образовательном пространстве разрушают науку и образование, закрывают возможности мечте и философскому преодолению узкого горизонта бытия. Русский народ всегда грезил, а не конструировал искусственные идентичности, именно поэтому на крутых поворотах истории русская мечта всегда выводила его вперед в деле очищения космоса и человечества.
Работа по изменению системы образования и отхода от гибридных западных, российских и советских форм в этой сфере (вроде «рогатого зайца», по выражению А. А. Зиновьева) направлена на совершенствование гуманитарного образования в контексте идущих процессов усложнения и диверсификации классификационной структуры современных гуманитарных наук. Научно-методический синтез научного исследования и педагогического инверсированного исследованию результатов научного поиска, изложения достижений науки в образовании обеспечивает в новых исторических условиях настоятельно требуемой временем цифровой экономики возвращение методов проектного и проблемного обучения как важнейшего элемента практико-ориентированной подготовки студентов.
Изучение исторического опыта, ошибок и достижений проектного обучения, а также практики инновационного обучения на Западе и в СССР ставит вопрос о переходе от плюралистического и толерантного многообразия современных педагогических технологий в вузовском образовательном процессе к унификации андрагогического образования и воспитания. Речь идет о формировании не только в ВУЗах, но в обществе в целом поколения новых взрослых в обстановке выработки Россией национальной идеи и формирования практики социального устройства цивилизационного неоиндустриализма.
Новации в дизайн-проектировании ставят задачу преодоления узкого горизонта наличного социального проектирования либо как рационалистической утопии прозрачного общества «царства разума» и прав абстрактного человека, либо как чувственной утопии консьюмеристского общества и радости потребления потребляющего неразумного человека. Теоретические аспекты и опыт практической реализации проблемного образования в форме конструирования ускоренного программного обучения выпускников показывают опасности утраты цивилизационной, национальной идентичности и отставания большой исторической России и всего русского мира в новой индустриальной гонке и диалоге цивилизаций.
5.7. Синяков О. В., Оразов Т. С. Межпоколенческий или межцивилизационный диалог во взаимоотношениях «отцов и детей»
Проблема выбора личностных ценностей и смыслов жизни молодежи тесно взаимосвязана с выработкой общей концепции в решении межгенерационного конфликта между родителями и детьми. В настоящее время в связи с модернизацией политической системы, внедрением нанотехнологий в науку, инновацией экономики, сакрализацией культуры и истории в Казахстане личностные ориентиры кардинально меняются. Следовательно, актуальность проблемной ситуации во взаимоотношениях и преемственность поколений всегда будет являться одной из главных проблем нашего социума.
В связи с преобразованиями общества самосознание молодого поколения настолько повысилось, что такие понятия, как «знание», «опыт» предыдущих поколений стали исчезающим видом. Современная молодежь, как в Казахстане, так и в России почти не знает не только свое родословное древо, но даже своих прадедушек и прабабушек. Безразличие к родовым корням, конфликт между системами ценностей поколений привел к напряженной атмосфере во взаимоотношениях «отцов и детей».
Л. В. Шапошникова, ученый-этнограф, изучая народы Индии, отмечала: «С точки зрения тода только умственно неполноценный человек не знает своих предков до седьмого колена и живых родственников»[335].
Обычаи казахского народа также сопряжены с традицией помнить и почитать свой древний род до 7 колена. Мудрые пословицы повествуют: «Жеті атасын білмеген жетесіз» («Кто не знает своих предков, тот является неучем»), предков «Жеті атасын білген ұл — жеті жұрттың қамын жер» («Кто знает имена своих предков, тот уважает свой народ»)[336].
Будучи нерешенным до настоящего времени, конфликт поколений зачислен в разряд вечных, что, впрочем, не снижает актуальности и остроты его нерешенной проблематики сегодня и сейчас. Вот почему авторы статьи полагают, что межгенерационные исследования отношений в современном обществе особенно актуальны.
Так, например, согласно проведенным в России исследованиям Sostav и OMI, 74 % пожилых опрошенных считают себя весьма терпимыми по отношению к современной молодежи и лишь 12% стариков видят в молодежи вызывающую агрессию по отношению к пожилым. А между тем, совершенно иную точку зрения выражает молодое поколение, когда более 57 % из них высказали свое сомнение в толерантности «предков», а две трети из числа возрастной категории от 14 до 25 лет — вообще считают отношения между поколениями «скорее напряженными»[337].
Возникает закономерный и вполне логичный вопрос — почему так сложилось, почему не могут или не хотят «договориться» разные поколения?
И вот здесь некоторая часть ученых-исследователей, занимающихся данной проблемой, и сами представители молодого поколения «виновниками» этого конфликта считают старшее поколение «отцов», которые объявляют себя такими опытными, умными и умеющими правильно жить, объявляя свои знания и навыки основополагающими и незыблемыми. Но вряд ли их опыт пригодится «компьютерному поколению», которые считают себя более интеллектуально развитыми, «крутыми», чем их «предки». Они черпают знания из интернета, там же «чатятся» с друзьями или девушками и расстаются, ни разу не встретившись. Поведение подрастающего поколения не всегда понятно, провоцирует на раздражение и чувство беспокойства за них. Они в общении используют малопонятный и безграмотный сленг, играют в ужасные игры, не хотят учиться и работать, днями и ночами просиживают в интернете.
Выражение «Internet Addiction Disorder» (интернет-зависимость) появилось благодаря американскому врачу-психиатру Айвен Голдбергу, который обратил внимание на данный феномен при изучении норм поведения некоторых молодых людей[338]. Более детально обратил внимание на данную проблему доктор Кимберли С. Янг, практикующий психолог. Он позаимствовал данный термин, когда к нему стали обращаться сотни больных, пострадавших от медиазависимости подобно алкоголикам и наркоманам. Профессор изучил возникший феномен, основал Центр помощи людям, страдающим интернет-зависимостью (Center for On-Line Addiction) и написал ряд книг «Caught in the Net», «Tangled in the Web: Understanding Cybersex from Fantasy to Addiction», «Breaking Free of the Web: Catholics and Internet Addiction»[339].
Еще один феномен был выявлен при исследовании деятельности молодых блогеров — это установка на гедонизм и иллюзорную свободу выбора. Что значит быть счастливым, получать удовольствие от жизни? Быть счастливыми — это не учиться, а вести тренинги личностного роста; не сидеть тупо в офисе, а весело щебетать в интернете и этим зарабатывать; выкладывать эротические фото, добиваясь моментального успеха. Однако свобода и независимость состоят не в необузданности желаний и беззастенчивости в поведении, а в способности не делать того, чего хочется, например, не употреблять алкоголь, перестать непристойно выражаться, умерить половые желания.
Поэтому, не случайно желание «попробовать все плохое», недовольства со стороны молодого поколения выливаются в проявления девиантного и делинквентного поведения. Отличительными чертами асоциального характера данной реалии являются смещение жизненных ценностных ориентиров. Способность молодежи совершить противоправные действия становится опасной для общества.
Таким образом, напрашивается вывод, что каждое поколение характеризуется собственной системой ценностей, взглядов и мировоззрения, которые они готовы отстаивать. Однако в условиях возросшего темпа общественного развития жизненные принципы старшего поколения в подавляющем большинстве утратили смысл и практическое значение, и в силу этого не могут быть унаследованы «детьми», поскольку не пригодны для них в новых и постоянно меняющихся социокультурных условиях. Конфликт поколений представлен в Таблице.
Как видно из представленных данных, конфликт поколений обусловлен не разницей в возрасте, а различием ценностей. Конфликт поколений так и определяется в конфликтологии как столкновение интересов, взглядов, потребностей и ценностей представителей разных возрастных категорий населения[340]. Но что еще более интересно — выяснение отношений и одной и с другой стороны обусловлено стремлением улучшить окружающий мир и общество в частности.
старшее поколение молодое поколение взаимное уважение дерзость и агрессивность коллективизм индивидуализм пассивность, консерватизм активность, новаторство Таблица. Конфликт поколений
Старшее поколение желает оставить все, как было раньше, спасая детей и внуков от пагубного влияния прогресса, а молодежь отметает все устаревшее и стремится сформировать свою собственную ценность.
Как решить этот спор?
Часть ученых-исследователей считает, что поколения должна объединять не столько близкая дата рождения (в демографии это называется «возрастная когорта»), сколько «дух поколения» — особое восприятие, ценностное мировоззрение, определяющие установки и поведение людей. У каждого поколения должно быть свое центральное событие (события), согласно которому оно маркируется окружающими.
В последнее время в России в сфере руководящего состава компаний говорится о теории поколений, и это определение стало достаточно часто использоваться для подбора персонала при найме на работу, особенно в небольших компаниях, где внедрены люди разных возрастов. Что же это такое теория поколений?
Авторами этой теории в 1991 году стали американские ученые Уильям Штраус и Нил Хау[341]. Согласно их выводам, теория поколений показывает, что на мировоззрение человека влияет промежуток времени, в который он родился, а ценности человека формируются под влиянием различных событий и воспитания в семье. На основании своих исследований, ученые сделали вывод: ввиду того, что события и воспитание людей в отдельном историческом периоде схожи, то и ценности, которые формируются у большинства людей, будут в среднем одинаковыми.
Отразим данную теорию на примере так называемого поколения «беби-бумеров» (1943–1963 г. р.) Годы формирования личностных качеств были насыщены такими событиями: «оттепель», космонавтика, бесплатные обучение и медицина, повышенная рождаемость. Поэтому в характере этих людей преобладают такие качества, как жизнелюбие, коллективизм, стремление быть передовыми в своей профессии. Яркие представители этого поколения — Президент РК Касым-Жомарт Токаев, летчик-космонавт Тохтар Аубакиров, певец Батырхан Шукенов. В настоящее время на трудовом рынке постсоветского пространства активны три поколения — «беби-бумеры», «поколение X» (1963–1986 г. р.— достаточно самостоятельны, самодостаточны и прагматичны[342]) и «поколение Y» (1986–2003 г. р.— вовлечены в цифровые технологии)[343]. Руководителям трудового коллектива нужно учитывать особенности характера каждого индивида, интересы и соотносить их с возложенными трудовыми обязанностями. В данном случае задача, поставленная руководителем предприятия, поможет представителям различных поколений лучше понимать и взаимодействовать друг с другом, что, в свою очередь, положительно скажется на организации работы компании в целом.
Данный феномен влияет как на семьи, так и на социум в целом. Основная граница, разделяющая поколения, проходит не на возрастном уровне, а заключена в различиях в вопросе социального идеала и носит социокультурный характер.
Также с конфликтом «отцов и детей» связано и такое широко распространенное негативное явление, как эйджизм (дискриминация по возрасту)[344] — предвзятое отношение людей старшего возраста к молодежи и наоборот, стремление молодежи вытеснить стариков с их рабочих мест, снисходительное, неуважительное и пренебрежительное отношение к ним.
Следовательно, тема межгенерационных взаимоотношений в современном обществе обусловлена различными причинами, в том числе политическими и социально-экономическими противоречиями.
Как и всякий конфликт, конфликт поколений нуждается в урегулировании. Для этого необходимо заняться их воспитанием. Воспитанность — культура поведения, умение себя держать в обществе, тактичность, вежливость, интеллигентность, учтивость и доброжелательность по отношению к другим людям, в особенности к пожилым. Важной задачей общества должно стать повышение престижа поколения «умудренное сединами».
Не следует забывать и о «круговороте» событий. Законы физиологии таковы, что прошедший определенный инициационный обряд молодой человек обязательно повзрослеет, не минуя «традиций» нашего общества: семья, работа, быт, досуг и прочее. Включение во взрослую жизнь ставит задачи построения карьеры и семейной жизни, которая и обусловливает приобщение молодых людей к культуре мира старших. Конфликт поколений может быть разрешен и по другим причинам:
– во-первых, в связи с возросшим уровнем информированности, свободным доступом к сети интернет, родители сами осознают, что уровень интеллектуальных ресурсов молодого поколения существенно возрос, и зачастую старшее поколение начинает понимать, что у детей тоже можно многому научиться;
– во вторых, в условиях снижения экономического роста в стране растет интеграция «детей» с представителями старшего поколения. Как никогда важными становятся их заботливость, душевность, верность и бескорыстие. Родители оказывают помощь в воспитании внуков, позволяя молодежи осуществлять трудовую деятельность.
Философски осмысливая значение межпоколенческого конфликта, места и роли именно старшего поколения в нём на ценностном уровне, авторы настоящего исследования делают вывод, что конфликт является необходимым элементом общественного бытия и обязательно выступает определенным фактором двигателя прогресса. Молодежь производит «взрыв», старшие его локализуют. Так рождается истина, баланс, «движение» вперед.
Одним из главных условий устойчивого и динамичного развития современных государств является преемственность поколений. Так, Президент России В. В. Путин в одном из своих выступлений подчеркнул необходимость «неразрывной связи и преемственности поколений», очень четко и понятно отметив при этом, что «семья — это крепкая связь нескольких поколений, где уважение к старшим и забота о детях всегда объединяют, дают чувство уверенности, защищённости, надёжности. Если для подрастающих поколений всё это станет естественной нравственной нормой, неотъемлемой частью, оплотом их взрослой жизни, мы действительно сможем решить историческую задачу — гарантировать развитие России как большой и успешной страны»[345].
Для обеспечения политической лояльности молодежи и преемственности ценностно-мировоззренческих приоритетов необходимо развивать и укреплять институт наставничества. Определенные действия на этом направлении власть проводит. В частности, по линии околовластных структур. Однако данных усилий явно недостаточно для того, чтобы переломить неблагоприятный тренд поколенческих «разрывов». Поэтому имеет смысл не только продвигать проект наставничества «сверху», но также поддерживать подобные инициативы «снизу». Также стоит популяризировать этот институт в школах и вузах, снижая тем самым уровень недопонимания и обособленности «отцов» и «детей».
Для осуществления межгенерационного диалога целесообразно задействовать СМИ, привлечь представителей культуры, религиозных организаций, педагогов, родителей. В беседе с молодежью необходимо раскрывать опыт старших, их интеллектуальные и профессиональные знания. При этом контакт с молодежью должен строиться на принципах взаимного уважения и доверия.
По мнению профессора Виктора Александровича Светлова социальная система и человеческий вид в целом выживают и сохраняются в социокультурном смысле только тогда, когда между традициями и новаторством сохраняется гармония, они должны поддерживать и дополнять друг друга[346].
Таким образом, делая вывод по данному исследованию, авторы констатируют факт: да, так называемый «разрыв» поколений имеет место быть, но он разрешаем.
Не возможно не привести одну цитату: «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей»[347].
Разве эти слова не о нашей молодежи? Любой согласится. Это удивительно, но слова принадлежат Сократу, жившему в V в. до н. э. Поколения сменяют друг-друга, а человечество продолжает осуждать «ужасную» молодежь. Вспомним и у наших дедов были рокеры, панки, хиппи, наркоманы, отморозки. Но их поколение породило и Героев Великой Отечественной войны, Ударников великих строек, покорителей Целины и Космоса, Нобелевских лауреатов. Авторы статьи считают, что молодые люди бывают разные, но в большинстве своем — не так уж и плохи. Вот как оценивает их Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев: «Наша молодежь — трудолюбивая, целеустремленная, креативная. Поэтому будущее Казахстана в надежных руках»[348]. Поэтому главное решение конфликта поколений и установление гармоничных отношений базируется на уважении к старикам и любви к детям.
5.8. Ширман М. Б. Философия как практическая теория педагогики: миссия и метод
Миссией философии — с момента её зарождения на Древнем Востоке, но особенно с её рождения в Древней Греции — является синтез шагов культуры, т. е. исторических (эпохальных) сдвигов в развитии человека. Для этого синтеза необходимо теоретическое исследование, т. е. идеальная реконструкция, предмета философии — человека в развитии. Но смысл синтеза — не в «чисто теоретической», воображаемой модели, а в практическом импульсе к следующему шагу развития. Этот импульс носит педагогический характер. Его устремлённость «вперёд и вверх», т. е. идеальность, обеспечивается материальностью его средств.
Таким образом, по своему теоретическому содержанию и по методу его выстраивания философия является наукой; но её смысловая миссия не позволяет включить её в состав системы наук: философия — идеальный орган революционной общественной практики (прогресса).
В науке теоретическим содержанием выступает исследование определённого класса реальных объектов и процессов их изменения (эту задачу решает фундаментальная наука), а также исследование объективных возможностей создания объектов новых, ещё не существующих (задача науки прикладной). Объекты и процессы, исследуемые фундаментальной наукой, относятся к различным структурным уровням природной реальности (таковы предметы естественных наук) и к функциональным компонентам общества (предметы наук общественных, гуманитарных и технических). Любой из этих предметов может служить основой прикладных исследований, определяющих возможности его практического использования — в его наличной форме или с необходимыми изменениями (в отношении технических объектов прикладные исследования направлены на поиск возможностей расширения области применения и его способов).
И содержание науки, и её мотивация (миссия) сосредоточены в сфере теории. Мотивация науки выражается информационными вопросами об объектах («Что?», «Где?», «Когда?», «Сколько?», «Какой?») и о процессах («Как?»), но особенно — мыслительный вопрос «Почему?». Научная теория (содержание науки) есть идеальная реконструкция объекта (его развёрнутая идея, логический образ), осуществляемая с точки зрения причин его возникновения, процесса его становления и его структуры.
Общий метод науки и система её частных методов разрабатываются методологией, то есть философией. Этими методами «выращивается» теоретическое содержание науки, и в его состав они не входят. Они соотносятся с теорией как инструменты научной работы — с её объектом и продуктом: методы ближе к субъекту науки, к его мотиву.
Поскольку наука есть один из специальных компонентов человеческой жизни, научная мотивация оказывается вторичной по отношению к человеческой жизненной мотивации. Освоение науки происходит в логике образования, т. е. выработки способности, и этот процесс нуждается во внешнем, более широком и фундаментальном мотиве.
Философия, в отличие от науки,— исследование не объекта, а субъекта (человека) им самим с целью самосовершенствования, т. е. прогресса. Поэтому философия подчиняет своё научное содержание (теорию) практическому — педагогическому — мотиву (миссии). Мотивация философии является всеобщей: она охватывает человеческую жизнь как целое, выходя на уровень её смысла. Этот мотив действует как потребность — практический вопрос о том, зачем живёт человечество в данную эпоху (зачем оно переходит из предыдущей эпохи в следующую) и, значит, зачем необходима деятельность, к которой мы себя мотивируем. «Зачем?» — главный мыслительный вопрос, старт осмысления любой информации.
Философия — опять-таки в отличие от науки — не может быть профессиональной работой: работой за материальное вознаграждение, определяемой должностными обязанностями и субординацией. Философия совпадает с жизнью. Потребностная мотивация, необходимая философу, формируется воспитанием — ведущей стороной педагогики. Образование — вторая «половина» педагогики — для освоения философии и для работы в ней также, разумеется, необходимо. В этом философия от науки не отличается. Но научные занятия довольно часто подчиняются интересам меркантильным, карьерным и даже преступным, т. е. их мотивация вполне может оказаться продуктом анти-воспитания. С действительной философией это произойти не может, поскольку она не только предварительно (теоретически) проектирует развитие педагогики, но и обязана сама — практически, т. е. педагогически — осуществлять свои разработки.
Философия строит педагогику, которая практически воплощает философскую теорию; главным предметом этой философско-педагогической деятельности является воспитание, т. е. формирование человеческой мотивации; последняя с необходимостью воспроизводит мотивацию самой философии. Этой всеобщей жизненной мотивацией — субъектностью — определяется направленность методологии, создающей всеобщий метод философии и педагогики (он же — метод науки, но здесь его внешне-нормативный статус может провоцировать его отторжение учёными).
Таким образом, философская теория совпадает с методом философии и с философской — педагогической — практикой.
Метод действительной философии — диалектика, т. е. её логика. Она же, обращённая на себя (рефлексирующая с целью собственного развития), есть гносеология (теория познания — «чисто теоретическое» содержание философии как науки). Диалектика, руководящая наукой от имени её субъекта, действует как методология. Диалектика, практически совмещающая человечество с человеческим индивидом в личности (всеобщее с единичным в особенном), т. е. совмещающая воспитание с образованием, потребность со способностью в деятельности,— есть педагогика.
Эти позиции — не «чисто логические», т. е. словесные, построения.
К гносеологии (она же диалектическая логика) сводил предмет философии Э. В. Ильенков. Именно он осуществил наиболее последовательное превращение философии из рассуждения о рассуждениях — в практическую теорию педагогики. Ильенков максимально эффективно включил историю философии в анализ современных и перспективных общечеловеческих проблем. При этом он педагогически оживил десятки древних философов и представителей немецкой философской классики, а также — неоценимая заслуга Ильенкова — К. Маркса и Б. Спинозу: теперь все они — не персонажи из прошлого, а наши современники и соратники.
Но диалектическое совмещение философии с педагогикой, теории с практикой, потребности со способностью имеет древние корни.
Уже Сократ объявил предметом философии не Вселенную (которую он предложил оставить на попечение богов), а человека — фактически отождествив философию с педагогикой. Свои философские (педагогические) позиции он обращал прежде всего не на других, а на себя. Он не считал себя учителем, а своих собеседников — учениками. В отличие от софистов, которым их «философия» (точнее, эристика — жонглирование словами, метко характеризуемое пословицей «Хитрость — ум дураков») служила выгодной сферой образовательных услуг, для Сократа его педагогическая философия была всей жизнью — включая смерть.
Но Сократ не был первым. Зенон Элейский, определивший философию как презрение к смерти, подтвердил эту «теорию» на практике. За ними следовала длинная эстафета практико-теоретического (философско-педагогического) осмысления человеческой жизни; и всех участников этой эстафеты (именно их философские позиции являются перспективными, не «заперты» в рамках своих эпох) пригласил к живому сотрудничеству Ильенков. И сам он — своим последним шагом, 21 марта 1979 года — продолжил эстафету практической, педагогической философии, где метод совпадает с предметом (теоретическим содержанием), а потребность со способностью и где, как сказал Ильенков, «головы летят по-настоящему».
Во второй половине XX века в методологической сфере возникли два новых направления: организационно-деятельностное (представленное Московским методологическим кружком под руководством Г. П. Щедровицкого) и ТРИЗ («теория решения изобретательских задач», которую разрабатывал Г. С. Альтшуллер).
Участники Московского методологического кружка (ММК) создавали «систему мыследеятельности» — метод командной разработки производственно-административных, а впоследствии и образовательных проектов. Обычно они называли себя методологами, но иногда — игротехниками, поскольку процесс проектирования у них проходил в форме «организационно-деятельностной игры» (ОДИ) с семинарами по групповой рефлексии над ходом игры. Неперспективность этого направления определяется его социальной организацией: проектирование не является коллективным, т. е. социопедагогическим. Целью коллективного проекта был бы шаг целостного, т. е. хозяйственно-организационного, развития социума, выражающийся в воспитательном обновлении человеческой потребности в человеке, т. е. в его совершенствовании, и в образовательном освоении соответствующей новой способности; а метод разработки проекта и его реализации предусматривал бы приглашение к проектному сотрудничеству того социума, в интересах которого проект инициирован, т. е. субъектом проектирования должен стать этот социум как целое, а не только группа инициаторов. Вместо этого «методологи» разрабатывали проект как команда, не приглашающая «посторонних» к участию в разработке, а затем передавали проект, в качестве товарного продукта, заказчикам — органам власти, производственного управления или управления образованием. Такая система отношений определяла характер самих проектов, за которые брались «методологи»: это были проекты не социальные (социопедагогические), но именно производственно-административные. Тем не менее, на данном направлении освоены новые методологические позиции, необходимые для дальнейшего развития проектной педагогики.
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) стала первой методологической разработкой в сфере техники, т. е. изобретения новых материальных средств деятельности. Фундаментальная позиция разработчика, Г. С. Альтшуллера (который известен также как автор фантастических рассказов Генрих Альтов),— максимально острое формулирование проблемы (технического противоречия), которую должен разрешить изобретатель. Этот подход совпадает с методологической позицией Э. В. Ильенкова, считавшего необходимым условием действительного решения любой теоретической проблемы (и, как следствие, практической продуктивности этого решения) её постановку в бескомпромиссно противоречивой форме: не разведение противоположностей по разным «сторонам» и «отношениям», а их прямое и жёсткое столкновение.
В итоге ТРИЗ приходит к парадоксальному требованию. Разрабатывая для реализации новой целевой функции новое техническое приспособление, изобретатель не должен создавать отдельную деталь (узел, агрегат, машину); или, ещё более жестко: новая функция должна выполняться отсутствующим структурным элементом. Этот элемент отсутствовал в данном техническом комплексе прежде, когда проектируемая функция была ещё неактуальна; но он не должен появиться в структуре данного комплекса и теперь, когда новая функция будет реализована. Общее решение: новая функция должна не добавляться к уже реализованной, а стать вместе с последней единым целым — обновлённой функцией обновлённого технического комплекса; и это обновление комплекса предполагает не включение в его структуру нового функционального элемента, а её целостное преобразование. Но такой, целостно-инновационный подход к техническим проблемам возможен только при максимально тесной кооперации разработчиков техники с её заказчиками и изготовителями, т. е. там, где организована производственно-потребительская кооперация как хозяйственная база всеобщего социально-педагогического сотрудничества.
Итак, на современном этапе развития методология осваивает новую для себя сферу техники. До середины XX века техническое изобретательство было погружено в стихию «проб и ошибок», из которой иногда — независимо от воли изобретателя и без гарантии качества — возникали (под возглас «Эврика!») решения проблем; в той же стихийной «логике» действовали первобытные шаманы, обращаясь к духам за советами в сложных для своих общин ситуациях. Продуктивный и надёжный метод в технике с необходимостью разрабатывается в логике диалектической. Можно сказать, что ТРИЗ и есть прикладная диалектика. Но ведь и педагогика, если в ней опираться на позиции Э. В. Ильенкова, есть прикладная философия, т. е. диалектика. Педагогическое сотрудничество стало органичной формой и для ТРИЗ (в отличие от ММК): сам Г. С. Альтшуллер и его последователи создали школы ТРИЗ во многих регионах СССР и развивали свою теоретико-практическую деятельность вместе с учениками.
ТРИЗ — прежде всего метод выработки технических гипотез. Однако и в науке до сих пор отсутствует продуктивный метод выдвижения гипотез. Методология науки фактически лишь пытается «объяснять» задним числом закономерности уже состоявшихся шагов в развитии науки; но спроектировать следующий шаг развития методология не может, поскольку наука не автономна: её развитие определяется (хотя и нежёстко) развитием общесоциальным, а последнее не входит в компетенцию методологии науки. Техника же монолитно вращена в структуру материального производства. С его структуры ТРИЗ (методология техники) каждый раз и начинает свой анализ. Из этого анализа вытекают её гипотезы.
Сопоставляя методологию науки, техники и действительной (практической, педагогической) философии, мы видим, что теоретический метод адекватно работает только исходя из практики (как это происходит в ТРИЗ), а продуктивность его работы обеспечивается целостным характером этой практики (как в педагогике). Синтез практики (производства и социальной организации) и культуры, инициируемый педагогикой, открывает перспективу свободного, осмысленного развития человечества. Без такого синтеза любое направление теории и практики ведёт в тупик.
Маркузе Г. Одномерный человек.— М.: REFL-Book, 1994.— С. 130. ↩︎
Гутов Д. Г. Как читать Карла Маркса.— https://arzamas.academy/materials/365 ↩︎
Ильенков Э. В. Диалектическая логика.— М.: Политиздат, 1984.— С. 239. ↩︎
Вазюлин В. А За исторический подход к проблеме исторического и логического // Научные доклады высшей школы. Философские науки.— 1963.— №2. ↩︎
Ильенков Э. В. Идеальное и реальность. 1960–1979.— Москва: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2018. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1956. ↩︎
Ильенков (2018). С. 175-179. ↩︎
Там же. С. 175. ↩︎
Там же. ↩︎
Майданский А. Д. Понятие мышления у Ильенкова и Спинозы — http://caute.ru/am/text/cogitatio.html ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.— Т. 34.— Москва: Государственное издательство политической литературы, 1964.— С. 287. ↩︎
Ильенков (2018). С. 55. ↩︎
Там же. С. 56. ↩︎
Семек М. Я. Логика и диалектика.— http://propaganda-journal.net/9949.html ↩︎
Лобастов Г. В. Логика понятия в философии Гегеля (к материалистической апологии гегелевской философии).— 2020.— № 8.— С. 181‒192. ↩︎
Там же. ↩︎
Пихорович В. Д. Борьба за Спинозу — http://propaganda-journal.net/10163.html ↩︎
Пихорович В. Д. В защиту историко-философского метода Ильенкова — http://propaganda-journal.net/10133.html; Пихорович В. Д. Философия Э. В. Ильенкова и современные философские течения в России — http://propaganda-journal.net/10472.html ↩︎
Маркузе (1994). С. 130. ↩︎
Podlipski W. De politica. Часть VIII.— http://propaganda-journal.net/10093.html ↩︎
Ильенков Э. В. К вопросу о роли практики в познании — https://zarya.xyz/k-voprosu-o-roli-praktiki-v-poznanii/ ↩︎
Podlipski Nd. ↩︎
Ильенков Э. В. К вопросу о понятии «деятельность» и его значении для педагогики — http://caute.ru/ilyenkov/texts/sch/actus.html ↩︎
Босенко В. А. Воспитать воспитателя. Заметки по философским вопросам педагогики и педагогическим проблемам философии.— Киев, 2004. ↩︎
Лобастов Г. В. Философия как деятельностная форма сознания.— Москва: Издательство «Русская панорама», 2018. ↩︎
Ильенков Э. В. К вопросу о понятии «деятельность» и его значении для педагогики — http://caute.ru/ilyenkov/texts/sch/actus.html ↩︎
Ильенков Э. В. Александр Иванович Мещеряков и его педагогика — http://caute.ru/ilyenkov/texts/messher.html ↩︎
Плеханов Г. В. К вопросу о роли личности в истории // Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: в 5 т.— Т. II.— М.: Государственное изд-во политической литературы, 1956.— C.314. ↩︎
Адуло Т. И. Социальность как объект философского осмысления // Философские исследования.— 2018.— Вып. 5.— C.42. ↩︎
Менделеев Д. И. Заветные мысли: Полное издание (впервые после 1905 г.).— М.: Мысль, 1995.—С. 134. ↩︎
Там же. С. 7. ↩︎
Менделеев Д. И. Материалы для пересмотра общего таможенного тарифа Российской империи по Европейской торговле // Менделеев Д. И. Сочинения.— Т. XVIII.— М.: Изд-во АН СССР, 1950.— С. 510. ↩︎
Менделеев (1995).— С. 19. ↩︎
Явлинский Г. А. Периферийный авторитаризм. Как и куда пришла Россия.— М.: «Московские ведомости», 2015.— С. 10 ↩︎
Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4 т.— Т. 4.— М.: Мысль, 1983.— С. 464-465. ↩︎
Сорокин П. Система социологии.—Т. 1: Социальная аналитика. Ч. 1: Учение о строении простейшего (родового) социального явления.— Пг.: Колос, 1920.— С. VIII. ↩︎
Важно, чтобы работа не прекращалась…: [интервью с академиком РАН В. С. Степиным ведет член-корреспондент РАН И. Т. Касавин] // Вопросы философии.— 2004.— № 9.— С. 62. ↩︎
Маркс, К. Капитал // Сочинения: в 50 т.— Т. 23.— М.: Госполитиздат, 1960.— 907 с. ↩︎
Там же. ↩︎
Философия: экспериментальная учебная программа интегрированного модуля для учреждений высшего образования на 2012—13 учебный год.— Минск: М-во образования Респ. Беларусь, 2012.— С. 10-11. ↩︎
Рязанов В. Т. Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза.— СПб.: Алетейя, 2020.— С. 8. ↩︎
Там же. С. 6-7. ↩︎
Кемеров В. Е. Введение в социальную философию.— М.: «Академический Проект», 2001.— С. 106. ↩︎
Там же. ↩︎
Там же, С. 107. ↩︎
Семенов Ю. И. Философия и общество.— 2015.— Выпуск №3-4 (77).— С. 56-57. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: изд-е 2.— М.: Издательство политической литературы.— Т. 46(II).— С. 222. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений.— М.: Издательство политической литературы, 1956.— С. 566. ↩︎
Ленин В. И. Полн. собр. соч.— Т. 45.— М.: Издательство политической литературы, 1970.— С. 396. ↩︎
Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии.— М.: «Педагогика», 1976.— С. 363 ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: изд-е 2.— Т. 23.— М.: Издательство политической литературы.— С. 200 ↩︎
Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии.— М., 1988.— С. 325. ↩︎
Статья подготовлена в рамках финансирования КН МОН РК (Грант №АР09260036 «Светские и религиозные ценности в современном Казахстане: взаимодействие и влияние на политику РК в сфере религии»). ↩︎
Бердяев Н. Философия неравенства // Бердяев Н. А. Философия свободы.— Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2002.— С. 698-699. ↩︎
Там же. С. 699-700. ↩︎
Косиченко А. Г. Способна ли религия одухотворить современный мир? // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. Серия общественных и гуманитарных наук.— 2016.— №1.— С. 58-65. ↩︎
Тойнби А. Дж. Постижение истории.— М.: Прогресс, 1991.— С. 81. ↩︎
Назаров М. В. "Права человека" как орудие Нового мирового порядка — http://www.zaistinu.ru/articles?aid=1386 ↩︎
Ильенков Э. В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории.— Москва: Политиздат, 1984 — С. 216. ↩︎
Там же. С. 216-217. ↩︎
Там же. С. 217. ↩︎
Ленин В. И. Полное собрание сочинений.— Т. 42.— М.: Издательство политической литературы, 1970.— С. 289. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.— Т. 23.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1960.— С. 245. ↩︎
Ильенков (1984). С. 228. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.— Т. 23.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1960.— С. 46. ↩︎
Там же. ↩︎
Там же. ↩︎
Там же. ↩︎
Там же. С. 52. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.— Т. 19.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1961.— С. 55. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.— Т. 13.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1959.— С. 17. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.— Т. 12.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1958.— С. 729. ↩︎
С. 731. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.— Т. 23.— Москва: Государственное издательство политической литературы, 1960.— С. 69-70. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.— Т. 13.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1959.— С. 18. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.— Т. 19.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1961.— С. 423. ↩︎
Маркс. К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Сочинения.— Т. 42.— М. Изд-во политической литературы, 1974.— С. 41-174. ↩︎
Ильенков Э. В. Гегель и «отчуждение» // Философия и культура.— М. Политиздат, 1991.— С. 141–152. ↩︎
Ильенков Э. В. Маркс и западный мир // Философия и культура.— М. Политиздат, 1991.— С. 156–170. ↩︎
Тоффлер Э. Третья волна.— М.: АСТ, 2004. ↩︎
Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рэндерс Й., Беренс В. Пределы роста.— М.: Изд-во МГУ, 1991. ↩︎
Коммонер Б. Технология прибыли.— М., «Мысль», 1976. ↩︎
Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века.— М.: Логос, 2004.— С. 49. ↩︎
Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире.— СПб.: Университетская книга, 2001.— С. 14, 15, 102. ↩︎
Фукуяма Ф. Отставание.— М.: Астрель, 2012.— С. 129. ↩︎
Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века.— М.: Логос, 2004.— С. 51. ↩︎
Фукуяма Ф. Конец истории?/ Вопросы философии.— 1990 — № 3.— С. 85. ↩︎
Фукуяма Ф. Отставание.— М.: Астрель, 2012.— С. 427. ↩︎
Mahbubani K. End of Whose History?– http://www.nytimes.com/2009/11/12/opinion/12iht-edmahbubani.html?_r=3. ↩︎
Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности.— http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Soros/04.php. ↩︎
Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма.— М.: Изд-во «Новости» при уч. изд-ва «Catallaxy», 1992.— С. 9. ↩︎
Там же. С. 11. ↩︎
Менгер К. Основания политической экономии // Менгер К. Избранные работы.— М.: Территория будущего, 2005.— С. 108. ↩︎
Кортунов С. Крушение Вестфальской системы и становление нового мирового порядка.— http://www.wpec.ru/text/200708310905.htm. ↩︎
Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества.— М.: Весь Мир, 2004.— С. 86. ↩︎
Friedmann J. Where We Stand: A Decade of World City Research // World Cities in a World World-system / Ed. by Knox P.,Taylor P.— N.Y., 1995.— 25 p. ↩︎
Лебон Г. Психология народов и масс.— www.lib.ru/POLITOLOG/LEBON/psihologia.txt ↩︎
Там же. ↩︎
Ортега-и-Гассет X. Восстание масс.— М.: АСТ, 2003.— С. 17. ↩︎
Там же. С. 29. ↩︎
Там же. С. 30. ↩︎
Лебон Г. Nd. ↩︎
Там же. ↩︎
Там же. ↩︎
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук.— Т. 1. Наука логики.— М.: Мысль, 1974.— С. 320-321. ↩︎
Газнюк Л. М. Міфологічні витоки страху в персональному бутті людини // Наукові записки Харківського військового університету. Серія "Соціальна філософія, психологія".— 1 (22).— Харків: ХВУ, 2005.— С. 4. ↩︎
Шестов Н. И. Политический миф теперь и прежде.— М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005.— С. 79. ↩︎
Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура.— М.: Политиздат, 1991.— С. 22. ↩︎
Сорокин П. А. Социокультурная динамика // Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество.— М.: Политиздат, 1992.— С. 473. ↩︎
Бейлин М. В. Идентичность в мифологемах межэтнического и политического взаимодействия / Культура. Политика. Понимание. (Культура, нация, государство — проблемы идентичности в контексте современной политики) // Материалы VI Международной научной конференции (Белград, 17-19 мая 2018 г.).— Белград: Институт политических исследований, 2018.— С. 17. ↩︎
Табачковський В. Г. Світоглядно-антропологічні колізії глобалізації // Людина і культура в умовах глобалізації: зб. наук. статей.— К.: Парапан, 2003.— С. 25. ↩︎
Лосев (1991). С. 168. ↩︎
Кримський С. Цивілізаційний розвиток людства — К.: Вид-во «Фенікс», 2007.— С. 253. ↩︎
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь.— М.: Весь Мир, 2004.— С. 20. ↩︎
Красин Ю. А. Публичная сфера и публичная политика в российском измерении. Публичная политика в России [общ. ред. Ю. А. Красина].— М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.— С. 164. ↩︎
Волковинська В. О. Публічне і приватне: необхідність кордонів чи криза інтерпретації // Молодий вчений.— 2015.— № 2.—С. 46. ↩︎
. Климова С. В. Дом и мир: проблема приватного и публичного.— www.anthropology.ru/ru/texts/klimova/public.html. ↩︎
Газнюк Л. М. Суспільне та особисте в прагматичній антропології І. Канта // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. Право. Економіка. Гуманітарні науки.— 2019.—№ 1(22). травень.— С. 136. ↩︎
Пантюкова Р. В. Тип текста как компонентная составляющая вида и подвида дискурса // Лингвистика: традиции и современность: мат-лы междунар. науч. конф.— Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2009.— С. 99. ↩︎
Волковинська В. О. Публічне і приватне: необхідність кордонів чи криза інтерпретації // Молодий вчений.— 2015.— №2.— С. 46–50. ↩︎
Там же. С. 47. ↩︎
Там же. С. 133. ↩︎
Там же. ↩︎
Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом.— М.: РОССПЭН, 2004.— С. 122. ↩︎
Там же. С. 151. ↩︎
Сеннет Р. Падение публичного человека.— М.: Логос, 2002.— С. 17. ↩︎
Там же. С. 369. ↩︎
Фишман Л. Г. От распада публичности к новой res publica? // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук.— 2004.— Вып. 5.— С. 413. ↩︎
Сеннет (2002). С. 383. ↩︎
Дьюи Д. Общество и его проблемы.— М.: Идея —Пресс, 2002.— 160 с. ↩︎
Там же. С. 14. ↩︎
Арендт Х. Vita Activia, или О деятельной жизни.— СПб.: Алетейя, 2000.— С. 32. ↩︎
Там же. С. 229. ↩︎
Там же. С. 55. ↩︎
Бейлін М. В., Карпець Л. А. Приватне і публічне в соціальному бутті людини // International research and practice conference “Modern methods, innovations and operational experience in the field of social sciences”: Conference proceedings, October 20-21, 2017.— Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017.— С. 85. ↩︎
Арендт (2000). С. 39. ↩︎
Там же. С. 62. ↩︎
Там же. С. 65. ↩︎
Habermas J. Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? // The Impact of Normative Theory on Empirical Research. Communication Theory.— 2006.— Vol. 16(4).— P.415. ↩︎
O’Donnell S. Analysing the Internet and the Public Sphere: The Case of Womenslink. Javnost = The Public.— 2001.— Vol.8. (No 1).— С. 41. ↩︎
Wolton D. Penser la communication.— Paris: Flammarion, 1997.— 402 p. ↩︎
Public and Private in Thought and Practice: Perspectives on a Grand Dichotomy.— Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1997.— 399 p. ↩︎
Wolton (1997). ↩︎
Психология самосознания: хрестоматия.— Самара: Бахрах-М, 2000.— 672 с. ↩︎
Там же. ↩︎
Иванова С. В. Гуманизация образования: цели, задачи и условия // Ценности и смыслы.— 2010.— №.— С. 92. ↩︎
Пигров К. С. Еще раз о предмете социальной философии// https://iphras.ru/uplfile/reznik/sovet/bibl/diss/Pigrov2.pdf ↩︎
Момджян К. Х. Кризис фрагментации в современной социальной философии // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия.— 2012.— №1.— С. 61. ↩︎
Там же. ↩︎
Cooke B. Happy birthday humanism.— 2008.— https://newhumanist.org.uk/1740 ↩︎
Подробнее: Зиновьев А. А. Фактор понимания.— М., 2006.— С. 264-265. ↩︎
Там же. С. 263-268. ↩︎
Мамардашвили М. Как я понимаю философию.— М., 1990.— С. 301. ↩︎
Там же. ↩︎
Там же. ↩︎
Там же. С. 301-302. ↩︎
Там же. С. 304. ↩︎
Там же. С. 305. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе.— Т. 23.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1960.— С. 86. ↩︎
Мамардашвили (1990). С. 318. ↩︎
Мамардашвили (1990). С. 321. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.— Т. 26(III).— М.: Государственное издательство политической литературы, 1963.— С. 166. ↩︎
Мамардашвили М. (1990). С. 326-327. ↩︎
Швейцер А. «Я родился в период духовного упадка человечества» // Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса».— М.: Алгоритм, 2009.— С. 5. ↩︎
Вебер А. «Мы находимся в мире, непоправимо искаженным самим человеком» // Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса».— М.: Алгоритм, 2009.— С. 258. ↩︎
«При мысли о лицах недвижных, / В тугом напряженье покоя… / При мысли о каменно-мыльном, / О твердо-подошвенном взоре / Асфальтовых глаз Примитива; / При мысли о логике нищей, / О разуме задремавшем, / О стоптанном ухе, приникшем / К железным чудовищным маршам,— / О Брейгеле я вспоминаю! — / О Питере Брейгеле-старшем» (София Юзефпольская-Цилосани). ↩︎
Ахутин А. Вводная лекция курса «Европейский человек под вопросом».— https://www.youtube.com/watch?v=lZKWZ23vmSM ↩︎
Например, Татьяна Черниговская, анализируя антропологические вызовы цифровой реальности, акцентирует внимание на том, что формируется «новый вид» человека — «Homo Confusus» или «человек в растерянности». ↩︎
Франк С. Л. Крушение кумиров. Сочинения.— М.: Издательство «Правда», 1990.— С. 141. ↩︎
Лосский Н. О. Техническая культура и христианский идеал.— http://www.odinblago.nichost.ru/path/9/1/ ↩︎
Ахутин (Nd). ↩︎
Швейцер (2009). С. 7. ↩︎
Шмеман А. Дневники (фрагменты).— www.rp-net.ru/book/OurAutors/shmeman/dnevnik.php ↩︎
Мамардашвили М. К. Сознание и цивилизация. Доклад на III Всесоюзной школе по проблеме сознания. Батуми, 1984.; Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М: Прогресс, 1992.— С. 107–121. ↩︎
Маркузе Г. Преобладание репрессивных потребностей // Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса».— М.: Алгоритм, 2009.— С. 49. ↩︎
Там же. С. 52. ↩︎
Шмеман (Nd). ↩︎
Петрушенко В. Л. Абсолютне як іманентне свідомості: людські надбання чи втрати? — http://7promeniv.com.ua/naukovi-doslidzhennia/mizhdystsyplinarnyi-zhurnal/202-2013-vipusk-1/1117-viktor-petrushenko-absoliutne-iak-imanentne-svidomosti.html ↩︎
Там же. ↩︎
Франк С. Л. Крушение кумиров. Сочинения.— М.: Издательство «Правда», 1990.— С. 142. ↩︎
Витгенштейн Л. Философские исследования.— Москва: Акт, 2019.— С. 71. ↩︎
Sharp D. Review of Agam-Segal Reshef & Dain Edmund (eds.). Wittgenstein's Moral Thought. // Nordic Wittgenstein Review.— 2018.— 7 (1).— P.109-115. ↩︎
Dain E. Wittgenstein’s Moral Thought // Wittgenstein’s Moral Thought [eds. R. Adam-Segal, E. Dain].— London and New York: Routledge, 2019.— P.9-35. ↩︎
Benoist J. L’adresse du reel.— Vrin, 2017 ↩︎
Blackburn S. Quasi-realism in moral philosophy /An interview with Simon Blackburn by Darlei Dall’Agnol // Ethic@ — An International Journal for Moral Philosophy.— 2002.— 1 (2).— P. 101–114. ↩︎
Bitbol M. Quasi-realisme et pensee physique // Critique.— 1994.— №564.— P. 340–361 ↩︎
Там же. ↩︎
Blackburn, S. Essays in quasi-realism.— Oxford University Press, 1993.— С. 26. ↩︎
Дефляционист утверждает, что предложение (высказывание, суждение)
ристинно, тогда и только тогда, когдар. ↩︎Blackburn (2002).— P. 105 ↩︎
Bitbol (1994). ↩︎
Schrödinger E. Discussion of Probability Relations between Separated Systems // Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society.— 1935.— 31.— Р. 555–563; Schrödinger E. Probability relations between separated systems // Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society.— 1936.— №32.— Р. 446–452; Schrödinger E. Might perhaps energy be a merely statistical concept? // Nuovo cimento.— 1958.— 9.— P. 162-170; Schrödinger E. Ma conception du monde.— Paris: Mercure de France, 1982; Schrödinger E. Mémoires sur la Mécanique ondulatoire.— J. Gabay, 1988. ↩︎
Bitbol (1994); Blackburn (1993). ↩︎
Цитируется по Bitbol (1994). ↩︎
Fine A. The Shaky Game, Einstein, Realism and the quantum theory.— The University of Chicago Press, 1986. ↩︎
Как уже было сказано в разделе 2, связь между философией позднего Витгенштейна и квази-реализмом видит и Блекберн. Он даже полагает, что позднего Витгенштейна можно трактовать как квази-реалиста (Blackburn (1981) — Р. 172]. ↩︎
Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Книга VII (1959-60)) — М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2006.— 416 с. ↩︎
Фрейд З. Набросок психологии: критически-историческое исследовательское издание.— Ижевск: ERGO, 2015.— 190 с. ↩︎
Лакан (2006). ↩︎
Фрейд (2015). ↩︎
Лакан (2006). С. 372. ↩︎
Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции.— М.: Наука, 1989.— 456 с. ↩︎
Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или Судьба разума после Фрейда.— М.: Русское феноменологическое общество, Издательство «Логос», 1997.— 184 с. ↩︎
Фрейд З. Психология бессознательного: Сборник произведений.— М.: Просвещение, 1990.— 448 с. ↩︎
Лакан Ж. (2006); Лакан, Ж. Я в теории Фрейда и в технике психоанализа (Семинар. Книга II (1955/54)).— М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2009.— 520 с. ↩︎
Лакан (2009). ↩︎
Лакан (2006). С. 406. ↩︎
Там же. С. 397. ↩︎
Там же. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Избранные сочинения. В 9 т. Т. 2.— М.: Политиздат, 1985.— С. 63. ↩︎
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии.— М.: Смысл, 2001.— С. 439-478. ↩︎
Гегель Г. Философская пропедевтика // Работы разных лет: в 2 т.— Т. 1.— М.: Мысль, 1971.— С. 150. ↩︎
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в 2 т.— Т. 1.— М.: Педагогика, 1989.— С. 101-104. ↩︎
Ермолович Д. В. Трансформация Я в процессе коммуникативного дискурса // Вестник ВЭГУ.— 2016.— № 2 (82).— С. 140-150. ↩︎
Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 11 октября 2011 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.11.2020 г.),— www.online.zakon.kz/Document/?doc_id=31067690 ↩︎
Харун Яхья. «Ислам проклинает террор».— Астана: «Classic-M», 2002.— С. 75. ↩︎
Боккаччо Дж. Декамерон.— www.librebook.me/the_decameron ↩︎
Основы религиоведения учеб.— М.: Высшая школа, 1994.— С. 32 ↩︎
Программа «Рухани жаңғыру»– взгляд в будущее.— www.official.satbayev.university/ru/university/roukhani-zhangyru- ↩︎
Трофимов Я. Ф., Никифоров А. В., Синяков О. В. «Религиозные объединения Северо-Казахстанской области: история и современность».— Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2016. ↩︎
Трофимов Я. Ф., Никифоров А. В., Синяков О. В. «Малочисленные и запрещенные религиозные объединения Северо-Казахстанской области».— Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2017. ↩︎
Доклад Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на пятой сессии Ассамблеи народов Казахстана (21 января 1999 года), URL: www.online.zakon.kz/Document/?doc_id=30014236 ↩︎
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана (1 сентября 2020 г.), URL: www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g ↩︎
Зубов В. А. Кросскультурный пастиш как характерная черта современного социального пространства// Молодой ученый.— 2014.— № 1(60).— С. 716-718. ↩︎
Там же. ↩︎
Газнюк Л. М., Семенова Ю. А. Екологічна освіта як гармонійна співтворчість життя // Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Conference Proceedings. October 26, 2018.— Leipzig: Baltija Publishing, 2018.— С. 129. ↩︎
Mіltоn K. Nature is always sacred// Envіrоnmental Values.— 1999.— Tоm 8.— №4.— P. 437-449. ↩︎
Грэбер Л. Дикая природа как священное пространство.— К.: Киевский эколого-культурный центр, 1999.— 56 с. ↩︎
Газнюк Л. М. (2019). С. 207. ↩︎
Майже половина об’єктів дикої природи ЮНЕCКО під загрозою.— http://www.bbc.cоm/ukraіnіan/news-39626919. ↩︎
Безос Дж. Маск нервно курит. Джефф Безос предлагает спасти Землю с помощью колонии на Луне.— www.technо.nv.ua/іnnоvatіоns/mask-nervnо-kurіt-dzheff-bezоs-predlagaet-spastі-zemlyu-s-pоmоshchyu-kоlоnіі-na-lune-50020663.html. ↩︎
Хомякова А. Н. Статус и функции охраняемых природных территорий: Автореф. дис. канд. философ. наук: 09.00.08 — Философия науки и техники.— Москва, 2010.— С. 11. ↩︎
Weіzsaecker E., Wіjkman A. Cоme On! Capіtalіsm, Shоrt-termіsm, Pоpulatіоn and the Destructіоn of the Planet.— Sprіnger, 2018.— С. 10. ↩︎
Там же. С. 65. ↩︎
Там же. С. 67. ↩︎
Weіzsaecker, Wіjkman (2018). С. 74-75. ↩︎
Там же. С. 79-80. ↩︎
Там же. С. 138. ↩︎
Там же. С. 86. ↩︎
Бейлин М. В. Ноосфера как единое мыслящее человечество // Практична філософія.— 2010.— № 2(36).— С. 47. ↩︎
Энгельс Ф. Похороны Карла Маркса // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Сочинения.— Т. 19.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1961.— С. 350. ↩︎
Бердяев Н. Русская идея.— СПб.: Азбука-классика, 2008.— С. 191. ↩︎
Перцев А. Слотердайк привлекает меня своим юмором.— http://chitaem-vmeste.ru/zvyozdy/interviews/aleksandr-pertsev-sloterdajk-privlekaet-menya-svoim-yumorom ↩︎
Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Из глубины.— М.: Правда, 1991.— С. 12. ↩︎
Возняк В. С. Взаимосвязь философии и педагогики: к проблеме перспектив развития педагогики // «Международное партнерство в образовании и науке: подготовка кадров для новой экономики»: Сб. докл. междунар. научного конгресса (13-21 сентября 2018 года).— Ч. 1.— Усть-Каменогорск, 2018.— С. 22-28. ↩︎
Гусева Н. В. Культура. Цивилизация. Образование.— М.: Экспертинформ, 1992.— 285 с. ↩︎
Лобастов Г. В. Э. В. Ильенков: философия и педагогика // Вопросы философии.— 2000.— №2.— С. 169-175; Лобастов Г. В. От космологии духа до психологии сознания (начала и концы философии Э. В. Ильенкова) // Вопросы философии.— 2019.— № 10.— С. 142–153. ↩︎
Лимонченко В. В. Классика в неклассические времена: заметки о философии Эвальда Ильенкова // Э. В. Ильенков: проблема единства и целостности философско-мировоззренческих взглядов. Материалы XXI Международной научной конференции «Ильенковские чтения», 26—27 апреля 2019 г.— Москва, СПб.: Астерион, 2019.— С. 223-230. ↩︎
Драгунский Денис. Все по-другому. Темная сторона свободы // Искусство кино.— 2012.— №9.— URL: https://old.kinoart.ru/archive/2012/09/vse-po-drugomu-temnaya-storona-svobody ↩︎
«Отвлеченное знание перестало быть ценностью».— http://www.chaskor.ru/article/aleksandr_arhangelskij_otvlechennoe_znanie_perestalo_byt_tsennostyu_42377 ↩︎
Хагуров Т. А. Прагматизация как фактор распада. Заметки социолога о влиянии целей образования на социальную динамику // Известия ВГПУ.— 2014.— №2(263).— С. 60. ↩︎
Эткинд А. М. Общественная атмосфера и индивидуальный путь ученого: опыт прикладной психологии 20-х годов // Вопросы психологии.— 1990.— №5.— С. 13-22. ↩︎
«Отвлеченное знание перестало быть ценностью».— URL: http://www.chaskor.ru/article/aleksandr_arhangelskij_otvlechennoe_znanie_perestalo_byt_tsennostyu_42377 ↩︎
Аверинцев С. С. Попытки объясниться: Беседы о культуре.— М.: Правда, 1988.— URL: http://predanie.ru/averincev-sergey-sergeevich/book/72351-popytki-obyasnitsya-besedy-o-kulture/ ↩︎
Там же. ↩︎
Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография. К вопросу о месте классика жанра в истории жанра.— М.: НаУка, 1973.— С. 103. ↩︎
Мамардашвили М. К. Очерк современной европейской философии.— М.: Прогресс-Традиция, 2010.— С. 270. ↩︎
«Отвлеченное знание перестало быть ценностью».— http://www.chaskor.ru/article/aleksandr_arhangelskij_otvlechennoe_znanie_perestalo_byt_tsennostyu_42377 ↩︎
Цена ответственности. Как взрослым перестать мешать учиться детям.— http://old.cowo.guru/category/materials/stattya/page/2/ ↩︎
Дебор Ги-Эрнест. Отрывки из «Комментария к «Обществу спектакля» // Антология современного анархизма и левого радикализма.— http://libma.ru/politika/_antologija_sovremennogo_anarhizma_i_levogo_radikalizma/p20.php ↩︎
Радаев В. В. Студент — жертва устойчивого прагматического психоза // Политический журнал.— 2005.— №34 (85).— С. 65. ↩︎
Александр Перцев: «Слотердайк привлекает меня своим юмором».—http://chitaem-vmeste.ru/zvyozdy/interviews/aleksandr-pertsev-sloterdajk-privlekaet-menya-svoim-yumorom ↩︎
Проспект доклада Э. Ю. Соловьева «Философия как критика идеологий».— URL: http://iphras.ru/uplfile/root/news/archive_events/2016/07_06_2016_soloviev.pdf ↩︎
Вейль С. Тяжесть и благодать.— М.: Русский путь, 2008.— С. 102. ↩︎
Там же. С. 105. ↩︎
Там же. С. 123. ↩︎
Ильенков Э. В. О «специфике» искусства // Искусство и коммунистический идеал.— М.: Искусство, 1984.— С. 215. ↩︎
Там же. С. 12. ↩︎
Там же. С. 13. ↩︎
Гусева Н. В. Жизнь, посвященная философии: воспоминание о Сергее Марееве // Вестник МИРБИС.— 2020.— №1(21).— С. 221. ↩︎
Лифшиц Мих. В мире эстетики. М.: Изобраз. искусство, 1985. С. 117. ↩︎
Там же. ↩︎
Ильенков Э. В. Идеальное И реальность. 1960–1979.— М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2018.— 528 с. ↩︎
Свасьян К. А. Гёте — https://libking.ru/books/sci-/sci-philosophy/423838-karen-svasyan-gete.html ↩︎
Там же. ↩︎
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т.— Т. 1.— М.: Мысль, 1974.— С. 341. ↩︎
Там же. С. 344. ↩︎
Лобастов Г. В. Понятие // Диалектическая логика. Формы и методы познания.— Алма-Ата: «Наука» Каз. ССР, 1987.— С. 59-78, С. 63. ↩︎
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук.— Т. 1.— М.: Мысль, 1974.— С. 349. ↩︎
Там же. С. 346. ↩︎
Гегель Г. В. Ф. Наука логики: в 3 т.— Т. 3.— М.: Мысль, 1972.— С. 22. ↩︎
Там же. С. 21. ↩︎
Там же. С. 17. ↩︎
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа.— М.: Наука, 2000.— С. 25. ↩︎
Лобастов Г. В. Философские, психологические и педагогические проблемы формирования личности: Монография / Под общей редакцией доктора философских наук Н. В. Гусевой.— Усть-Каменогорск, 2014.— 247 с. С. 33. ↩︎
Там же. С. 33-34. ↩︎
Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении.— М.: РОССПЭН, 1997.— С. 7-8. ↩︎
Гегель Г. В. Ф. Наука логики.— СПб.: «Наука», 2002.— С. 527. ↩︎
Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии: Кн. 3.— СПб.: Изд-во «Наука», 2006.— С. 347. ↩︎
Беленов О. Н. Интернационализация российских вузов: поиск общих решений // Вестник Воронежского государственного университета.— 2018.— № 3.— С. 7. ↩︎
Там же. ↩︎
Там же. ↩︎
Бадикова И. К. Использование технологии чек-листов для организации научно-исследовательской деятельности студентов в области педагогики и психологии // Вестник Воронежского государственного университета.— 2018.— № 3.— С. 169. ↩︎
Гегель Г. В. Ф. (2002). С. 169. ↩︎
Бадикова И. К. (2018). С. 169. ↩︎
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук.— Т. 3.— М.: «Мысль», 1977.— С. 46. ↩︎
Гегель (2002). С. 371. ↩︎
Там же. ↩︎
Там же. С. 96-97. ↩︎
Там же. С. 400. ↩︎
Маркс К. Капитал. Т. I. Кн 1.— М.: Политиздат, 1983.— С. 62. Прим. ↩︎
Лобастов Г. В. Философско-педагогические этюды.— М.: Микрон-принт, 2003.— С. 262-263. ↩︎
Кант И. Критика чистого разума.— М.: Эксмо, 2007.— С. 141-142. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание 2-е.— Т. 3.— М.: Политиздат, 1955.— С. 1. ↩︎
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание 2-е.— Т. 46(I).— М.: Политиздат, 1968.— С. 42. ↩︎
Философия, психология и педагогика Ф. Т. Михайлова (Публикация архивных материалов) / Сост. предисл. Л. К. Арсенкина, А. А. Воронин, А. Ф. Михайлова.— М.: Индрик, 2009.— С. 85-85. ↩︎
Линдгрен А. Малыш и Карлсон. // Киплинг Р. Маугли. Линдгрен А. Малыш и Карлсон. Милн А. А. Винни-пух и все-все-все.— М.: Правда, 1985. ↩︎
Гегель (2002). С. 536. ↩︎
Там же. С. 537. ↩︎
Там же. С. 401. ↩︎
World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century: Vision and Action and Framework for Priority Action for Change and Development in Higher Education / UNESCO. Oct. 9, 1998.— https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141952 ↩︎
Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., and Freeman, A. NMC Horizon Report: 2014 Library Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium, 2014.— https://library.educause.edu/-/media/files/library/2017/12/2014nmchorizonreportlibraryen.pdf ↩︎
Там же. ↩︎
Бейлин М. В., Камбур Н. А. Технико-экономическая парадигма постфордизма как новая форма организации управления в образовании / International Scientific and Practical Conference «Achievements and problems in the field of social sciences in the modern world».— Baku: The Republic, 2018. ↩︎
Selingo J.J. Demystifying the MOOC / The New York Times. Oct. 29, 2014.— URL: https://www.nytimes.com/2014/11/02/education/edlife/demystifying-the-mooc.html ↩︎
Бейлин (2019). ↩︎
Ильин И. А. Собрание сочинений. Переписка двух Иванов (1927–1934).— М.: Русская книга, 2000.— С. 357. ↩︎
Юркевич П. Д. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта // Философские произведения..— М.: Правда, 1990.— С. 525 ↩︎
Возняк В. С. Співвідношення розсудку і розуму як філософсько-педагогічна проблема: Монографія.— Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2008.— С. 195. ↩︎
Там же. С. 241. ↩︎
Возняк В. С. Целе-сообразность и цело-сообразность: смысл // Проблема смислу у філософії і культурі російського Срібного віку. Вип. 14. Матеріали Міжнародної конференції 2008.— Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008.— С. 78–87. ↩︎
Захарченко М. В., Игумен Георгий (Шестун). Введение в традицию как цель образования.— https://www.portal-slovo.ru/pedagogy/37905.php ↩︎
Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии // Антология мировой философии. В 4-х т.— Т. 3.— М.: Мысль, 1971.— С. 376. ↩︎
Там же. С. 377. ↩︎
Возняк В. С., Лімонченко В. В. Культура як «третій суб’єкт» освітнього процесу // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць ДДПУрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.— Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014.— Випуск 33. Філософія.— С. 17. ↩︎
Там же. С. 20. ↩︎
Батищев (2015). С. 551. ↩︎
Ясперс К. Смысл и назначение истории.— М.: Республика, 1994.— С. 245. ↩︎
Батищев (2015). С. 534-538. ↩︎
Глазьев С. Ю. Геноцид.— М.: Терра, 1998.— 320 с. ↩︎
Ларуш Л. Вы бы на самом деле хотели бы знать все об экономике? — М.: Шиллеровский институт, 1992.— С. 59. ↩︎
Бодрунов Б. Д. Ноономика.— М.: Культурная революция, 2018. ↩︎
См.: Некрасов С. Н. Российское общество и мировой исторический процесс: анализ, гипотезы и прогнозы. Ч. 1. Цивилизационные проекты в конце истории.— Усть-Каменогорск: Казахстанско-Американский свободный университет, 2018; Ч. 2. Социальные гибриды в конце истории.— Усть-Каменогорск: Казахстанско-Американский свободный университет, 2018. ↩︎
Гиренок Ф. Мы — новые антропологи. Философский манифест Московской Антропологической Школы (краткий манифест) // Завтра.— 2019.— 25 февраля. ↩︎
Шапошникова Л. В., Шапошникова Л. В. Тайна племени Голубых гор. Серия: Путешествия по странам Востока.— М.: Наука, 1969.— С. 10. ↩︎
Жеті ата — важность знания родословной.— http://zhastar-07.kz/ru/archives/8932. ↩︎
Конфликт поколений: исследование Sostav и OMI о зонах противоречий и согласия между людьми разного возраста.— https://www.sostav.ru/publication/konflikt-pokolenij-issledovanie-sostav-i-online-market-intelligence-o-zonakh-protivorechij-i-soglasiya-v-otnosheniyakh-lyudej-raznogo-vozrasta-38093.html ↩︎
Psychopharmacological Agents for the Terminally Ill and Bereaved. Edited by Ivan K. Goldberg, Sidney Malitz, and Austin H. Kutscher. With the editorial assistance of Lillian G. Kutscher. Text consultants: Bernard Schoenberg and Arthur C. Carr.— New York: Foundation of Thanatology; distributed by Columbia University Press, 1973.— 339 p. ↩︎
Янг К. Диагноз — интернет-зависимость.— http://cyberpsy.ru/articles/young-internet-addiction/ ↩︎
Энциклопедический словарь по психологии и педагогике.— https://psychology_pedagogy.academic.ru/8368/конфликтпоколений. ↩︎
The Generations Manifesto.— http://static1.1.sqspcdn.com ↩︎
Поколение X.— https://ru.wikipedia.org/wiki/Поколение_X ↩︎
Поколение Y — https://ru.wikipedia.org/wiki/Поколение_Y ↩︎
Дискриминация по возрасту — https://ru.wikipedia.org/wiki/Дискриминация ↩︎
Послание Президента России Путина В. В. Федеральному Собранию. 15 января 2020 года.— http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 ↩︎
Единая теория конфликта В. А. Светлова.— https://studbooks.net/659196/sotsiologiya/edinaya_teoriya_konflikta_svetlova ↩︎
Сократ, V в. до н. э. Цитаты «О молодом поколении».— https://petrenko-v.livejournal.com/38644.html ↩︎
Речь Президента Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации. 12 июня 2019.— https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-obratilsya-k-molodeji-371172/ ↩︎