Э. В. Ильенков: Проблема единства и целостности философско-мировоззренческих взглядов
Материалы XXI Международной научной конференции «Ильенковские чтения» 26–27 апреля 2019, Москва.
В сборник материалов XXI Международной научной конференции «Ильенковские чтения», приуроченной к 95-летию Э. В. Ильенкова, включены доклады и выступления очных и заочных участников Конференции, в которых получило отражение и основное содержание устного обсуждения проблем. Конференция показала широчайший разброс представлений, формально объединяемых лишь интенцией к единой мировоззренческой позиции.
Под общей ред. д.ф.н., проф. Г. В. Лобастова.
Редакционная коллегия: д.ф.н., А. Д. Майданский; д.ф.н. Е. В. Мареева; к.ф.н. И. С. Барсуков; к.ф.н. Д. В. Третьяков; президент РКО А. А. Гапонов; к.ф.н. В. В. Макаров.
Предисловие
Сорок лет Ильенкова нет среди живых. Однако только среди живых и можно жить после жизни. Сказки про небесную жизнь вырастают именно на том основании, что самому понятию духа (духовной культуры) придается фантастическое, потустороннее значение. Понять его земную основу и земное бытие, конечно, не так просто, но ощущение его присутствия в жизни человека имело, надо сказать, место всегда, и неразвитое мышление создавало мифы, как образы самосознания, и отчленяло эти образы от земной основы. Которые и приобретали в глазах человека самостоятельный и даже онтологический характер потустороннего происхождения. Онтологизация самосознания под формой сознания действительности и сегодня присуща уму, неспособному разрешить проблему единства бытия и мышления.
А «потусторонний» мир всегда пребывал и пребывает в этом мире, с «этой» стороны. И космические дали, которые сегодня стали как будто ближе, тоже даны нам только с «этой» стороны, и если мы понимаем процесс превращения вещи в себе в вещь для нас, то нам понятно должно быть и то, что все трансцендентное имманентно этому миру. «Небесная механика» в сознании человека, конечно, многократно усложнилась сравнительно с прошлыми эпохами человечества, но «космическая мифология» никуда не исчезла. Как не исчезла она и из прочих сфер человеческой жизни. Все есть миф, говорил когда-то А.Ф.Лосев.
И это ставит задачу разобраться с этим обстоятельством: с фактом перманентного порождения мифа как в науке, так и обыденной сознании, а потому и с фактом неспособности мышления дать истинную картину мира. Но если бы проблема истины касалась только содержания сознания, как будто большой беды не было бы. Если, конечно, забыть, что сознание есть необходимый момент практической деятельности человека, момент, опосредующий человеческой бытие.
Хотя не забудем и противоположный момент: смысл бытия есть снятие его в сознании, развитие духа, духовной культуры, личностной формы самого бытия. Практическая жизнь — лишь основа, которая, именно как основа, перманентно представлена исходным объективным содержанием объективно-человеческого бытия. Жизнь человека — не ради практики, но практика — ради человека.
Культурно-духовное бытие есть содержание и смысл бытия человеческого. Но истинность этого содержания определяется в конечном счете только практическим действием, согласующим формы движения духа (мышления, сознания, всех форм субъективности вообще) с формами объективной действительности. Разумеется, действительности не только природной, но, в первую очередь, культурно-исторической.
Культурно-исторической потому, что движение природных форм внутри человеческого культурного пространства проявляет возможности объективной реальности и превращает их в действительность. И такое движение, как понятно, происходит по логике субъективных человеческих мотивов и целей. И истинность этих целей уже определяется не случайными обстоятельствами бытия, а формами идеальными, вырабатываемыми в культуре и определенными движением самой культуры. Теоретический критерий, идеальная форма здесь становятся осознанными определителями истинности содержания. И в качестве осознанных они представлены как рефлектированные мышлением.
Практика — критерий только в конечном счете. Ибо существуют такие представления и связанные с ними формы практической деятельности, которые в призме теоретической науки явно далеки от истины, но кажется, что этой практикой подтверждаются. Хотя теория (теоретический критерий) показывает нам логически обоснованный их преходящий характер. Момент абсолютности в них может выделить только мышление.
Потому философия как наука об исторически развивающихся всеобщих мыслительных формах, как наука, выявляющая состав и содержание идеальных форм и их отношение к формам реальным,— философия абсолютно необходима для любого мыслящего мышления, любой формы сознания. А, значит, и практики.
Ильенков как философ именно эти темы высветил — через контекст всех своих размышлений. Которые, конечно, могут показаться достаточно разнообразными и даже разбросанными по всему полю культурного содержания. Но именно центральными философскими вопросами они и связаны на этом поле. Потому Ильенков в любой проблемной точке человеческого бытия раскрывает этот момент истинности, смыслом своим вытягивающим историческую логику развития осмысливаемого содержания. Именно этим, центральными проблемами философии, определяется целостность Ильенковской философии. Для него философия не только наука, исследующая свой определенный предмет, не только диалектический метод, но и активно-деятельная форма познания, в первую очередь, познания себя, человека. Он в полной мере принимает мысль Гегеля, что философия есть теоретическая форма самосознания. Теоретическая значит познающая, мыслящая, нет самосознания без познания и без сознания.
Но было бы ошибкой сводить в единство всю проблематику Ильенковской философии к теоретическим проблемам самой философии. В центре его мировоззренческой позиции стоит человек, универсально развитая личность — как самоцель истории и как реальное бытия любого живого индивида. В его философии все нити бытия как бы сходятся в единую точку, в бытие человеческое. Такое «схождение», ясно, не есть нечто такое, что можно представить схематично, здесь в каждой точке для сознания открыты проблемы, и путь разрешения их далеко не прост. Все богатство исторической культуры есть порождение человека. Более того, такое схождение можно понять только как восхождение человека к самому себе, как его деятельное преобразование самого себя, как порождение его в его собственном жизненном процессе. Иначе говоря, в деятельности, обусловливающей самое жизнь. И не так просто показать, почему эта жизнь, не имеющая субъективного смысла, в определенной исторической точке приобретает сознательно направленный смысл своего развития. История культуры, история человечества вообще, тут видит принципиальный сдвиг в свободу.
Этот всеохватывающий диапазон содержания в его внутренне связанном бытии и захватывает философия Ильенкова — от космологии духа до психологии мышления. Этим проблемам и были посвящены Ильенковские чтения-2019.
Оргкомитет Чтений выражает глубокую благодарность Русскому Космическому Обществу и лично его Президенту Алексею Алексеевичу Гапонову за соучастие в организации конференции и предоставление площадки для ее проведения.
*Президент Российского философского общества «Диалектика и культура» проф. Г.В. Лобастов
Раздел I. Бытие и мышление в философии Э. В. Ильенкова
1.1. Гусева Н. В. Проблема идеального и специфика философского сознания (по работе Э. В. Ильенкова «Диалектика идеального»)
О значении творчества Эвальда Васильевича Ильенкова, вместо вступления
Глубина и исторически непреходящее значение философского творчества Э.В. Ильенкова запечатлены в его работах. Его мысль была направлена, как сказал бы Гегель, не в «дурную бесконечность» бесплодных схоластических мыслительных исканий, а всегда отвечала насущным, базовым задачам адекватного понимания тех процессов, в контексте которых только и могли быть решены практические задачи развития человека и общества. Это касается также и понимания самих задач, адекватности их постановки. Адекватность понимания и сама постановка задач до сих пор остаются серьезной проблемой как в развитии науки, так и развитии социальной практики, хотя в мыслительном наследии Э.В. Ильенкова, в каждой его работе присутствуют «ключи» подходов, способных стать достойным способом решения самых злободневных вопросов и проблем человека и его общественной жизнедеятельности.
Философское сознание и проблема идеального
Подлинное философское сознание характеризуется в качестве отражения действительности не только известными ориентациями на целостность отражения, конкретность и всеобщность, которые Э.В. Ильенков подробно исследовал [См.: 1, 2]. При ближайшем рассмотрении главным, что определяет философское сознание, является его ориентация на исследование идеального, погружение в него. Именно в этом контексте — контексте погружения в сферу идеального — становится возможным выявление и определение целостности, конкретности и всеобщности черт исследуемого. Для философского сознания идеальное реально оказывается той сферой присутствия, разворачивания и развития, в которой возможно адекватное познание реальности. Адекватность познания через погружение в сферу идеального обусловливается тем, что именно в этой сфере человеческая мысль своим предметом делает не отдельные объекты как таковые, в их самостоятельности и несвязанности друг с другом, с одной стороны, и с человеческой жизнедеятельностью как особой реальностью, с другой. А напротив, предметом познания становятся их связи, способы связи, результаты процессов связи, взаимные влияния, взаимные переходы и т.п., то есть собственно те процессы, без которых невозможно никакое реальное существование, движение, развитие не только человеческой реальности, но и реальности природы и общества.
В классической философской традиции — традиции философского сознания и мышления — присутствует серьезное критическое отношение к эмпиристскому трактованию возможности и способов познания мира. Эмпиризм, как известно, считал, что сферой выявления и определения предметов познания, выступают действия органы чувств и производимые ими ощущения, то есть именно они получали статус основ познавательного процесса. Результаты функционирования органов чувств, с точки зрения эмпиризма, обрабатывались умом и, таким образом, формировалось новое знание [См. 3,4]. В итоге, идеальное получало статус неких психических процессов, которые производил ум человека, точнее: его мозг.
Критика эмпиризма, развенчание его позиции немецкой классической философией стали условием развития самой мировой классической философии. Этот момент подчеркивал Э.В.Ильенков, говоря, что «интересы критики этого (эмпирического — Н.В.) взгляда по существу, а вовсе не терминологические капризы, вынудили Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля отвергнуть эмпирическое толкование «идеального» и обратиться к специально-теоретическому анализу этого важнейшего понятия» [5, с. 16]. Эмпиризм в трактовке идеального, сводящий его к психическому или даже к нейрофизиологическому, уводит от адекватного понимания специфики философского сознания, мышления, уводит от понимания «проблемы объективности всеобщего знания, объективности всеобщих (теоретических) определений действительности, …от проблемы истинности всеобщего знания, понимаемого как закон познания, остающийся инвариантным во всех многообразных изменениях «психических состояний» — и не только «отдельной личности», а и целых духовных формаций, эпох и народов» [5, 17].
Особое внимание к проблеме идеального, к понятию идеального в контексте развития диалектико-материалистической философии со стороны Э.В.Ильенкова не случайно. Оно прямо связано с необходимостью дальнейшего развития диалектического материализма, с необходимостью преодоления эмпиризма, который обнаруживался в различных вариантах постановок вопросов и задач под флагом диалектического материализма, и тем самым приводил к вульгаризации последнего. Отказ от специального исследования проблемы идеального и его связи с материальным, отказ от учета возможностей исследования реальности, в которой идеальное и материальное присутствуют в единстве,— становился данью метафизическому подходу, который как следствие самого эмпиризма, также вел и ведет к вульгаризациям и деформациям философского сознания, превращению его в вариант досужего умствования, совершенно отрешенного от реального процессуального поля общественной и индивидуальной действительности.
Отметим, что реальное процессуальное поле общественной и индивидуальной действительности необходимым образом всегда представляет собой некое единство, взаимное присутствие и влияние идеального и материального. Это признают даже те, которые вульгаризируют идеальное, отождествляя его, например, с психическим или нейрофизиологическим. Признание единства, взаимного присутствия, влияния само по себе делает актуальным рассмотрение целого ряда вопросов. Это вопрос о том, каким образом это единство, взаимное влияние и т.п. идеального и материального, взаимообусловлено? Как оно осуществляется? Какое смысл и значение оно имеет для человека и общества, включая прежде всего смысл практический? Связь и переход идеального в материальное является одной из самых центральных философских проблем, которую Э.В.Ильенков обозначивал именно как проблему идеального.
Для самой философии проблема идеального, а также и проблема единства материального и идеального в свете диалектико-материалистического понимания идеального, представляет собой выход на новый уровень разумного постижения действительности. В эпиграфе к работе «Диалектика идеального» Эвальд Васильевич не случайно отмечал слова В.И Ленина: «Мысль о превращении идеального в реальное глубока: очень важна для истории. Но и в личной жизни человека видно, что тут много правды. Против вульгарного материализма» [6, с. 104].
Говоря о сознании, Э.В.Ильенков однозначно причислял его к явлениям идеальным, то есть не материальным [5, с. 8–9]. В то же время он характеризовал идеальное как своеобразную категорию явлений, обладающих особого рода объективностью, то есть совершенно очевидной независимостью от индивида с его телом и «душой», принципиально отличающейся от объективности чувственно воспринимаемых индивидом единичных вещей, которая была когда-то «обозначена» философией как идеальность этих явлений, как идеальное вообще [5, с. 14]. Он подчеркивал, что нельзя понятие идеального понимать, как простой синоним «других явлений, и именно тех, которые в философии как раз через понятие «идеального» теоретически и определяются. Чаще всего это — явления сознания, феномен сознания» [5, с. 9–10]. Исследование идеального проявляет специфику философского сознания. В то же время это и сфера реального присутствия и проявления процессуальности и содержательности мышления человека, а также это сфера проявления сущности жизнедеятельности человека и общества.
Содержательность и процессуальность как философского сознания и мышления, так и самой действительности, их закономерности, не могут проявляться, а затем и познаваться, если они не выражают и реально не представляют собой наличие объективно существующих связей и, в контексте последних, их единства. Как мы отмечали выше, если познание ограничивается лишь фиксацией отдельных объектов и рассматривает их как самоцельные онтологические сущности, которые не пребывают в связи и во взаимозависимости, что характеризует позицию эмпиризма и метафизического способа мышления,— то в этом случае познание оказывается в тупике, его дальнейшее развитие купируется полным полаганием только на наличии эмпирической представленности того, что познается. Но уже с 17 века было известно, что эмпиризм не может объяснить наличие общих знаний и понятий, таких как математические, и тем более не может объяснить и наличие всеобщих и необходимых истин и понятий, которые являются философскими. Эмпиризм и сегодня, скажем к слову, до сих пор продолжает свое существование и продолжает уводить развитие, например, психологической науки (и не только ее) в методологические тупики [19, с. 95–113].
Наличие всеобщего и необходимого знания не мог (и не может, скажем для справедливости) объяснить и рационализм как семнадцатого, так и современного века. Этот момент мы подчеркиваем не случайно, а потому, что развитие современного философского сознания, серьезной философии не может осуществляться, если реальные вопросы связей в существующем мире и человеческом обществе не станут действительной исследовательской и практической задачей и проблемой. Иначе говоря, фокус внимания философского и социально-практического сознания должен быть обращен не на вещи и статически определимые обстоятельства, а именно на процессы, на связи, взаимообусловленности их и взаимопереходы. Это и есть сфера идеального. Связи эмпирически в объекте не представлены и познать их, обращаясь только к статическому объекту, невозможно. Они могут быть представлены только как идеальное. Поэтому познавательная положительная перспектива есть лишь тогда, когда познающий субъект обращается в своем исследовании прямо к этим связям, а не к разрозненным самостоятельным объектам или к их характеристикам и свойствам, которые при описании объектов могут получить эмпирически ориентированные «исследователи».
О недопустимости понимания идеального как внутри индивидного явления: против эмпиризма
При сведении понятия идеального к отдельным явлениям, имеющим идеальный статус или, в крайнем варианте, имеющих статус отдельных, самосущих объектов, возникает серьезная деформация смысла, похожая на ту, когда, говоря, что «Иван — это человек», делают вывод об истинности суждения «человек — это Иван». Иначе говоря, если верно, что та или иная вещь принадлежит миру идеального, то это совсем не значит, что само идеальное и есть та или иная идеальная вещь. Здесь можно вспомнить известный пример из платоновского Сократа. Сократ спрашивает учеников, что есть прекрасное? Ему отвечают поочередно: это цветок, это скакун, это девушка. Сократ убедительно показывает прекрасные цветок, скакун, девушка — прекрасны, но они не есть прекрасное как таковое, они лишь его атрибуты. В этом примере с прекрасным речь идет как раз о проблеме идеального, которое не может отождествляться с любыми своими частными воплощениями.
При отождествлении идеального с его частными проявлениями «философская проблема отношения «идеального» к «материальному» подменяется вопросом об отношении одного нейродинамического процесса к другим нейродинамическим же процессам,— специальной проблемой физиологии высшей нервной деятельности. Проблема «великого противостояния» идеального и материального вообще в том ее виде, в каком она ставилась и решалась философией и теоретической психологией, тем самым благополучно устраняется из сферы научного исследования» [5, с. 11].
Недопустимость отождествления идеального с нейрофизиологическим или нейропсихологическим Э.В. Ильенков отмечал, критически анализируя известную позицию И.С. Нарского, где последний подчеркивал, что «помимо и вне сознания идеальные явления существовать не могут, и все прочие явления материи материальны» [7, с. 78]. Аналогичная по сути позиция определения идеального присутствовала и у Д.И. Дубровского. Цитату из текста Д.И. Дубровского Ильенков Э.В. приводит в своем критическом анализе его определения идеального. Так, Дубровский Д.И. считал, что «идеальное — это актуализированная мозгом для личности информация, это способность личности иметь информацию в чистом виде и оперировать ею... Идеальное — это психическое явление (хотя далеко не всякое психическое явление может быть обозначено (! — Э. И.— как идеальное); а постольку идеальное представлено всегда только в сознательных состояниях отдельной личности... Идеальное есть сугубо личностное явление, реализуемое мозговым нейродинамическим процессом определенного типа (пока еще крайне слабо исследованного)» [8, с. 187,188,189].
Это понимание идеального у Д.И. Дубровского является прямым выражением эмпиризма. В связи с этим Э.В. Ильенков писал, что «конечно, если под словом «сознание» понимать не сознание, а «нейрофизиологические процессы», то сознание оказывается «материальным». А если под «нейрофизиологическими процессами» понимать сознание, то нейрофизиологические процессы вам придется обозначать как насквозь идеальное явление» [5, с. 23]. И далее он отмечал: «Под «идеальностью» или «идеальным» материализм и обязан иметь в виду то очень своеобразное и то строго фиксируемое соотношение между, по крайней мере, двумя материальными объектами (вещами, процессами, событиями, состояниями), внутри которого один материальный объект, оставаясь самим собой, выступает в роли представителя другого объекта, а еще точнее — всеобщей природы этого другого объекта, всеобщей формы и закономерности этого другого объекта, остающейся инвариантной во всех его изменениях, во всех его эмпирически-очевидных вариациях (выделено мной — Н.Г.)» [5, с. 18].
Объективность идеального и материализм: о направленности философского сознания
Объективность идеальности, процессы, которые в этой объективности происходят не могут не быть предметом философского исследования, то есть не могут не характеризовать направленность философского сознания и по мере углубления понимания объективности идеальности не могут не характеризовать глубину философского сознания и понимание всеобщности [5, с. 17]. Соотношение идеального и сознания, по мысли Э.В.Ильенкова, нельзя рассматривать как соотношение рядоположенных явлений, так как в этом случае теряется возможность в отдельном выявлять не только единичность, но и всеобщность; в этом случае мир предстает набором эмпирически данных объектов, по отношению к которым не может быть даже поставлена задача выявления их связи, определяющей мир как целое; не может быть поставлена задача выявления их конкретности как единства многообразного.
Действительное материалистическое решение проблемы идеального и его единства с материальным в ее действительной постановке (уже намечаемой Гегелем) было найдено, как известно, Марксом, который «имел в виду» совершенно реальный процесс, специфически свойственный для человеческой жизнедеятельности. Идеальное для Маркса «есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». [9, с. 21]. Здесь речь идет об анализе Маркса производственной материальной деятельности людей, в процессе которой «материальная жизнедеятельность общественного человека начинает производить уже не только материальный, а и идеальный продукт, начинает производить акт идеализации действительности (процесс превращения «материального» — в «идеальное»), а затем уже, возникнув, «идеальное» становится важнейшим компонентом материальной жизнедеятельности общественного человека, и начинает совершаться уже и противоположный первому процессу — процесс материализации (опредмечивания, овеществления, «воплощения») идеального. Эти два реально противоположных друг другу процесса в конце концов замыкаются на более или менее четко выраженные циклы, и конец одного процесса становится началом другого, противоположного, что и приводит в конце концов к движению по спиралеобразной фигуре со всеми вытекающими отсюда диалектическими последствиями» [5, с. 24]. В этой мысли Маркса, которую приводит Ильенков можно усмотреть, что характеристику философского сознания в обращении к миру выражает присутствие его ориентации на выявление способа формирования того, что есть в мире, на выявление их всеобщности и конкретности, а потому — идеальности.
Общественные отношения, общественное сознание и статус идеального
Содержание и смысл общественных отношений, их определенность и характер с самого начала не могут быть отнесены к явлениям вещного порядка. Даже если подразумеваются отношения материальные.
Их смысл, хотя и не может быть абстрагирован от деятельности их породившей, но, в то же время, он не может быть и сведен к любой процедурной части и функциональной определённости деятельности. В этом плане можно считать, что, рассматривая общественные отношения, исследователь входит в сферу осмысления идеального, то есть нематериального. Если материальное понимается как то, что существует вне и независимо от сознания человека, то в этом случае вопрос о проявлениях не только материального, но и вопрос о проявлении идеального потребует конкретизации.
Действительно, даже если сознание отдельного человека признается сферой его субъективности (см. позицию эмпириков), то сознание общественное уже не может рассматриваться так же. При рассмотрении общественного сознания обращает на себя внимание то обстоятельство, что все исторически выработанные формы общественного сознания, будь то философия, политика, право, мораль, религия, наука или искусство,— все они по отношению к отдельному человеку приобретают черты объективного существования, так как по отношению к нему все они оказываются существующими вне его сознания. Более того, человек вынужден сталкиваться с проблемой их освоения для того, чтобы в некоторой, но достаточной, мере соответствовать своему историческому времени.
Феномены общественного сознания в связи с этим могут быть отнесены к тому, что обозначает понятие идеального и при этом они проявляют качество быть объективными по отношению к любому человеку. Это подтверждается тем, что все формы общественного сознания с присущим им содержанием не являются порождением лишь индивидуального сознания [10, с. 131].
Общество всегда существовало и будет существовать, продуцируя все новые и новые формы и варианты содержания в проявлениях идеальности. Эти проявления (или принадлежность идеальному) не могут рассматриваться лишь как понятийные формы и/или как формы индивидуального сознания как такового. Их присутствие «считывается», или точнее, обнаруживается всяким мышлением непредвзятого человека и в ситуациях общественных событий, и в ситуациях индивидуальной жизни. Это происходит тогда, когда человек обнаруживает, что содержание его жизни, с одной стороны, ни в какой ее момент не может быть сведено к тому, что его окружает в вещном мире, в мире, который подтверждается наличием конечного количества (и качества) вещей, предметов и возможности их не только ощущать, но и использовать здесь и сейчас.
«Объективная реальность «идеальных форм»,— писал Э.В. Ильенков,— это не досужая выдумка злокозненных идеалистов, как то кажется псевдоматериалистам, знающим на одной стороне «внешний мир», а на другой — только «сознающий мозг» (или «сознание как свойство и функцию мозга»). Этот псевдоматериализм, при всех своих благих намерениях, обеими ногами стоит в той же самой мистической трясине фетишизма, что и его оппонент — принципиальный идеализм. Это тоже фетишизм, только уже не бревна, бронзового идола или «логоса», а фетишизм нервной ткани, фетишизм нейронов, аксонов и дезоксирибонуклеиновых кислот, которые заключают в себе на самом-то деле так же мало «идеального», как и любой валяющийся на дороге камень. Так же мало, как мало «стоимости» заключает в себе еще не отысканный алмаз, каким бы огромным и тяжелым он ни был» [5, с. 80].
По отношению к индивидуальному сознанию следует также рассмотреть проявления, характеризующие черты идеальности. Речь идет здесь не о чертах, с одной стороны, принадлежащих материальным объектам или явлениям. А напротив, речь идет о тех чертах, благодаря которым определяются сами материальные объекты или явления. Э.В. Ильенков солидаризировался с М.А. Лифшицом, говоря, что идеализм — не плод недомыслия, а законный и естественный плод того мира, где «вещи обретают человеческие свойства, а люди опускаются до уровня вещественной силы» [11, с. 130], где вещи наделяются «духом», а человеческие существа этого «духа» начисто лишаются.
С другой стороны, присутствие идеальности обнаруживается в случаях, когда даже самые обычные предметы проявляют наличие смыслов и значений, которые к самим предметам как таковым не могли бы иметь никакого отношения по существу, но они эти смыслы и значения содержатся в них и становятся для человека и общества некими символами, или вещами, которые имеют почти фантастическую значимость и ценность. При этом своим физическим состоянием эти предметы сами по себе никоим образом не обнаруживают наличие таких смыслов и значимости.
Идеальность не присутствует в тех или иных предметах или вещах как таковых. Она возникает тогда, когда в жизненном социальном процессе человек переживает обстоятельства, характеризующие его отношения с другими людьми, которые являются социально и индивидуально важными, и эти обстоятельства сочетаются с теми или иными вещными формами или предметами. В этом случае вещные формы или предметы становятся носителями смыслов и значений, связанных с обстоятельствами жизни человека, переживаемыми им.
Таким образом, говоря об идеальных формах мы, строго говоря, говорим о смыслах и значениях, вырабатываемых в человеческих отношениях или шире: в отношениях человека к миру. Почему шире? Потому, что возникающие в социальном пространстве-времени смыслы и значения могут возникать и касаться не только отношений человека с человеком, но и отношений человека с любыми явлениями мира. Здесь надо лишь сохранить акцент на том, что это должно быть человеческим отношением к миру. Понятие человеческого отношения нельзя считать лишь проявлением способности повторять выработанные исторически моральные нормы как регуляторы поведения и запоминать факты и обстоятельства, в которых они должны действовать, и которые совпадают с событиями и смыслами,, присутствующими в них. Хотя вопрос о памяти здесь может быть тоже уместен. Так же, как и вопрос о формировании рефлексов у животных и о формировании стереотипов у человека.
Нельзя отрицать, что выработанный в определенных обстоятельствах рефлекс, в итоге, приводит к тому, что животное, попадая в такие же условиях, ведет себя соответственно той форме его пребывания в аналогичных условиях, когда происходило формирование данного рефлекса. Можно ли такое поведение считать указывающим на наличие идеального для него?
Здесь имеет смысл подчеркнуть, что феномен идеального не возникает сам по себе, вне социально обусловленных бытийных форм. Его черты не могут быть отождествлены с самими бытийными формами. Вопрос о схемах реагирования или поведения, которые формируются в качестве ответа на требования окружающих обстоятельств, не может быть сведен только к процессу формирования рефлексов у животных или формирования стереотипов у людей. Схемы, а точнее: формы, реагирования формируются у людей исторически в обществе и выражают осуществление принятых норм, реализацию которых контролирует либо само общество (моральные нормы), либо государство (правовые нормы).
Любые нормы при этом являются порождением не субъективности того или иного человека. Их появление и действие с самого начала имеет, подчеркнем, социальный характер. В связи с этим, при рассмотрении идеальных феноменов и идеальности как таковой необходимо учитывать их связь с теми или иными формами материальности, присущей социальности как таковой. Эта связь указывает на то, что идеальное при всей своей проявляемой объективности все же не может существовать без присутствующего его «носителя». Так, для проявления поведения по матрице (норме, схеме), выражающей тот или иной смысл, материальным носителем выступает не возникший «физиологический механизм», стереотип, а известные бытийные обстоятельства, в которых этот стереотип и соответствующие ему физиологические механизмы формировались.
Материальным носителем здесь будет выступать и сам процесс проявляемого поведения, а точнее: деятельностного отношения, которое и будет выражать сформированный и закрепленный смысл. В крупном социальном плане носителями идеальности могут выступать предметы культуры и процессы, в которых они создаются [5, с. 82].
Институциональные проявления идеального и формы общественного сознания
Надо отличать проявление философского сознания как такового, как процесса отражения реальности на уровне всеобщности, конкретности и целостности и философского сознания в его институциональной форме — формы общественного сознания. Философское сознание в институциональной форме включает в себя ориентацию в обращении к миру, с одной стороны, в виде функционирования рассудочных форм представленности как образа целостности, так и образов всеобщности и конкретности. То есть эти категории, всеобщие философские понятия здесь функционируют в качестве форм готового знания, как понятия рассудочные по своему статусу, которые в этом виде могут быть применены. В связи с этим и, во-вторых, возникает реальная коллизия использования этих «философских» (в данном случае потерявших статус собственно философских), а точнее: рассудочных форм в контексте существующих интересов различных социальных групп. Иначе говоря, здесь философские понятия и соответственно «философское» сознание превращаются в понятия и сознание идеологическое. При этом их изначальная ориентация на целостность, всеобщность и конкретность, но в данном измененном статусе — статусе рассудочных форм, получает применение в качестве обще употребительных конечных, находящихся на последних границах возможного понимания, статичных формальных оснований. К таким основаниям прибегают всякий раз и в том случае, когда нужны впечатляющие, но никому не понятные отсылки к наличию доводов, якобы доказывающих то, что потребуется.
Подчеркнем, что такие деформации философского сознания возникают в условиях, когда оно существует в качестве формально-институционального явления в контексте цивилизационной [15, с. 15–25], социумной организации общественной жизни. В рамках цивилизационных процессов носителями определенных проявлений идеальности могут выступать социальные институты. Процесс институализации, в результате которого появляются институциональные формы, представляет собой перевод содержания той или иной деятельности и отношений людей в организационную форму, которая контролируется в том или ином виде государством. В зависимости от специфики деятельности людей и соответствующих им отношений, которые подверглись процессу институализации, можно определять виды институтов и того, что характеризует направленность их функционирования.
В общественных отношениях институциональные формы выступают некими моделями, которые закрепляют в себе смыслы, выработанные исторически, с одной стороны, а, с другой стороны, содержат модели поведения в сфере действия самих институциональных форм.
Институциональные формы выступают некими объективированными условиями, в которых закреплен определенный смысл и соответствующая ему модель регулирования поведения и деятельности людей. Но, в то же время, эти институциональные формы нельзя отождествить с характеристиками их предметно-вещного статуса.
Понятие материальности здесь нельзя сводить к пониманию, которое сложилось в Новое время и в рамках которого материальным признавалось то, что имеет массу и протяженность. Институциональные формы являются формами материальными, но такими, которые параметров массы и протяженности не имеют. Они, в тоже время, свою материальность могут подтвердить тем, что существуют вне и независимо от сознания человека. Государство, система образования, правовые институты, религия как социальные институты и др.— все это те формы, которые проявляют черты объективного существования. В то же время они не являются ни предметами, ни вещами, ни веществом.
Институты по отношению к смыслам и значениям человеческой деятельности выступают своего рода их рафинированными формами, которые сформировавшись, далее функционируют и используются в качестве таких, которые демонстрируют вполне вещные характеристики. В контексте институционального функционирования идеальное теряет свою объективность и значимость, так как оно полностью переводится в объектно-вещную форму уже закрепленного содержания. Далее ему предпосылается лишь функциональное присутствие в различных цивилизационных процессах. Цивилизационные процессы, в отличие от собственно культурных, в которых идеальное порождается и становится точкой дальнейшего развития,— представляют собой процессы
Перерождение идеального в функционально-вещную форму делает его элементом цивилизационного манипулирования в виде матриц, позволяющих использование различных социальных содержаний, смыслов и значений. Человек в цивилизационных процессах также подвергается существенным изменениям в сторону его отрешения от духовности как выражения присутствия идеальных смыслов в его жизнедеятельности. Сама жизнедеятельность также становится функциональной. Смыслы и значения человеческого существования деформируются, приобретая характер универсального потребления и использования как единственной формы отношения к себе, к людям и к миру.
Общественное сознание как непосредственно общественное присутствие и проявление идеального — сферы смыслов человеческого бытия и духовного присутствия в бытии,— через институционализацию в контексте цивилизационной организации жизни также превращается в формы, которым становятся присущи объектно-вещные черты [13, с. 79–84]. Так, например, нравственное сознание как непосредственно общественное проявление идеального, превращается в системы норм морали, которые существуют за пределами духовно-нравственного бытия людей, функционируют, используются для внешнего регулирования одних другими и т.п. Это же имеет место в сознании религиозном, научном, философском, политическом, правовом и эстетическом.
Идеальное подменяется нормативным, духовное — функциональным. Такие трансформации, распространяясь и укореняясь, все больше и больше обусловливают уход в общественных процессах от логики бытия культуры. То есть логики созидательной, социально-значимой, творческой деятельности. Это означает, что потенциал человека и общества тратится на сиюминутное, потребностное, функциональное и т.п., которое «овещняет» или нивелирует подлинно человеческие смыслы существования. Обессмысливание разрушает любую человеческую жизнь. Жизнь общества при этом уподобляется движению бездушного механизма, который оказывается направленным на людей, допустивших его появление и бесконтрольное функционирование. Сохранение идеального как средоточия собственно человеческих, прежде всего нравственных, смыслов жизнедеятельности,— важная задача современного человечества. Без ее решения перспективы своего развития общество теряет [17, с. 38–57].
Создание новых институциональных проектов не могут заместить собой потерю идеального, потерю духовности. Попытки такого замещения могут и будут приводить к деградации смыслов человеческого бытия как человеческого. Функциональные образы человека и человеческого существования, которые уже сегодня имеются в избытке и характеризуют так называемое общество потребления,— эти образы далеки от идеалов человечности. В них воспроизводится либо животный, либо механический и образ, и будущая траектория «развития» человечества. применения, тиражирования, использования, употребления и т.п. того, что создано в культуре.
Завершая изложение основной части нашего рассмотрения, считаем важным обращение к собственным высказываниям Эвальда Васильевича Ильенкова: «Человек обретает «идеальный» план жизнедеятельности только и исключительно в ходе приобщения к исторически развившимся формам общественной жизнедеятельности, только вместе с социальным планом существования, только вместе с культурой. «Идеальность» и есть не что иное, как аспект культуры, как ее измерение, определенность, свойство. По отношению к психике (к психической деятельности мозга) это такой же объективный компонент, как горы и деревья, как Луна и звездное небо, как процессы обмена веществ в собственном органическом теле индивида» [5, с. 79].
И далее: «Поэтому «идеальное» существует только в человеке. Вне человека и помимо него никакого «идеального» нет. Но человек при этом понимается не как отдельный индивид с его мозгом, а как реальная совокупность реальных людей, совместно осуществляющих свою специфически-человеческую жизнедеятельность, как «совокупность всех общественных отношений», завязывающихся между людьми вокруг одного общего дела, вокруг процесса общественного производства их жизни. Идеальное и существует «внутри» так понимаемого человека, ибо «внутри» так понимаемого человека находятся все те вещи, которыми «опосредованы» общественно-производящие свою жизнь индивиды, и слова языка, и книги, и статуи, и храмы, и клубы, и телевизионные башни, и (и прежде всего!) орудия труда, начиная от каменного топора и костяной иглы до современной автоматизированной фабрики, и электронно-вычислительной техники. В них-то, в этих «вещах», и существует «идеальное», как опредмеченная в естественно-природном материале «субъективная» целесообразная формообразующая жизнедеятельность общественного человека. {А не внутри «мозга», как думают благонамеренные, но философски необразованные материалисты}» [5, с. 84].
Философское сознание и образ современной эпохи: в качестве заключения
Образ современной эпохи рисуется многочисленными штрихами и красками, которые свидетельствуют о «многоголосице», а не о наличии единства. При этом философский образ современной эпохи может инициировать, во-первых, создание нового материала чувственного реагирования на некоторое бытие, то есть выступать подпиткой разворачивания эмоционально-психологического реагирования масс на имеющееся и предполагаемое в некоторой перспективе бытие. Это происходит всякий раз, когда ребенок или взрослый человек в его обращении к миру и к другим людям исходит и проявляет интерес к целостности мира и месту себя в нем, к способу формирования всего сущего и человечества в нем, связанности всего, что есть в мире, и связи человека с миром. Если такое умонастроение как проявление субъектности человека является не редко спорадическим, то в этом случае весь строй его субъективности пронизывается ею (субъектностью) и чувственность человека становится человеческой.
Во-вторых, он может выступать обозначением востребованной тенденции миропонимания, основывающейся на определенных основаниях, характеризующих общественное бытие. В этом случае речь идет о вольном или невольном создании материала для проявлений идеологического уровня в общественном сознании, обретающего формы философских концепций или их подобий.
Однако образ и реальность, послужившая исходным пунктом его создания, не могут совпадать в достаточной степени. Различие существует также и между реальностью и тем, как она может быть осмыслена. Обнаружение различий образа и реальности, с одной стороны, и реальности, и особенностей ее осмысления, с другой, можно рассматривать в качестве двух, во многом параллельных, процедур или задач. Схематичность рассмотрения может иметь смысл лишь в той мере, в какой имеется необходимость дифференцирования образа и понятия. Учитывая, что в современном философском сознании ярко проявляется «склонность» к смешению мыслительного и образного подхода (или отношения) к рассмотрению реальности, необходимость дифференцирования образа и понятия является существенным условием для обеспечения адекватности рассмотрения любых проблем и состояний, как самой реальности, так и общественного сознания. В то же время само дифференцирование образа и понятия будет существенно отличаться от того, какой способ мышления лежит в основе [16, с. 96–106;18, с. 43–62].
Адекватное понимание как происходящих процессов, так и задач развития человека и общества прямо связано с необходимостью диалектического мышления и диалектических подходов. Диалектика как логика самих процессов развития — это диалектическая логика, которой без преувеличения посвящены все философские работы Э.В.Ильенкова, даже тогда, когда он писал статьи и книги, посвященные темам, в формулировании которых не присутствовало это словосочетание: диалектическая логика [12, с. 300–367]. Важно отметить, что Э.В.Ильенков подразумевал под диалектической логикой не какой-либо вариант изложенных готовых знаний о диалектической логике. Напротив, он всегда тем или иным способом, прямо или косвенно подчеркивал, что диалектическая логика может существовать только как живое диалектическое мышление. При этом Э.В.Ильенков показал недопустимость, считать действительной логикой мышления формальную логику, берущую свое начало в древности. Э.В.Ильенков посвятил этому рассмотрению свою работу «Диалектическая логика» [14]. В ней дается анализ исторического пути становления диалектической логики — логики диалектического мышления, которое и характеризует подлинную философию, подлинное философское сознание, продолжающее многовековую традицию развития классической философской мысли.
Литература
Ильенков Э.В. От абстрактного к конкретному. Крутой маршрут. 1950–1960 / Авт.-сост. Е. Иллеш.— Москва: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2017.— 384 с;
Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении // Абстрактное и конкретное: собр. соч. Т. 1 / Э.В. Ильенков.— М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2019, с. 23–354.
Бэкона Ф. Сочинения в двух томах. М.: Мысль, 1977–1978.— т.1 — 575 с; т.2 — 567 с.
Локк Дж. Избранные философские произведения в 2-х томах.— М.: Соцэкгиз, 1960, т.1 — 734 с.; т.2 — 532 с.
Ильенков Э.В. Диалектика идеального // Идеальное и реальное. 1960–1979.— М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2018.— 528 с.
Ленин В.И. Полное собрание сочинений.— М.: 1960–1970. Т. 29, с. 104.
Нарский И.С. Диалектическое противоречие и логика познания. М., 1969, с. 78.
Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. М., 1971, с. 187, 188, 189. (Цит.по: Ильенков Э.В. Диалектика идеального//Идеальное и реальное. 1960–1979.— М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2018, с. 9–10).
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-ое издание.— М.: Госполитиздат, 1954. Т. 23.
Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопросы философии, 1979, № 6, с. 131.
Лифшиц М.А. Карл Маркс. Искусство и общественный идеал. М.,1972, с. 130. (Цит.по: Ильенков Э.В. Диалектика идеального//Идеальное и реальное. 1960–1979.— М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2018, с. 80.)
Гусева Н.В. Воспоминания как актуальные моменты духовной реальности: к воспоминаниям об Эвальде Васильевиче Ильенкове// Возняк В.С., Гусева Н.В. Диалектика духовной реальности. Философско-методологические исследования и воспоминания как точки духовных перспектив: Монография/Под общ. ред. Н.В. Гусевой.— Усть-Каменогорск, 2016.— 372 с.
Гусева Н.В. Феномен идеального: к определению процессов трансформации // Гуманізм. Людина. Ідеальне: Матеріали Міжнародних людинознавчих філо- софських читань (Дрогобич, 2016 р.) / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), В.В. Лімонченко, О.А. Ткаченко.— Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2016, с. 79–84.
Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М.: Политиздат, 1974.— 269 с.
Гусева Н.В. Сущность цивилизационного выбора как условия и фактора культурных трансформаций//Трансформации в культуре как следствия цивилизационного выбора: философско-мировоззренческие аспекты анализа / Под общей ред. доктора философских наук, академика Акмеологической академии Гусевой Н.В.— Усть-Каменогорск, 2018.— 278 с..
Лобастов Г.В. Философия как форма самосознания культурно-исторического человека//Современные проблемы развития цивилизации и культуры: Сборник научных статей / Под общей ред. доктора философских наук, академика Акмеологической академии Гусевой Н.В. Усть-Каменогорск, 2017, с. 96–106.
Гусева Н.В. К вопросу о специфике мыслительных процессов в контексте культуры и цивилизационного выбора (подходы, тенденции, программы) //Современные проблемы развития цивилизации и культуры: Сборник научных статей / Под общей ред. доктора философских наук, академика Акмеологической академии Гусевой Н.В. Усть-Каменогорск, 2017, с. 38–57.
Лобастов Г.В. Проблема начала мышления // Диалектическое мышление и феномен методологических исследований в развитии науки. Монография/ Под общей редакцией д.ф.н. Гусевой Н.В.— Усть-Каменогорск, 2017, с. 43–62.
Гусева Н.В. Проблема оснований в развитии психологии как науки и следствия эмпиризма и рационализма// Гусева Г.В. Выготский Л.С., современная психология и философско-методологические проблемы развития социально-гуманитарного знания. Монография/ Под общей редакцией д.ф.н. Лобасто- ва Г.В.— Усть-Каменогорск, 2018, с. 95–113.
1.2. Муратова И. А. Тождество мышления и бытия как единство противоположностей
Представление о тождестве мышления и бытия как чисто гегельянском принципе сильно мешало действительному пониманию совпадения диалектики, логики и теории познания, подчеркивал Эвальд Васильевич. Боязнь принципа тождества как якобы «гегельянщины» питала представление, что диалектика и логика такие же разные вещи, как бытие и мышление. Противопоставление диалектики как учения о бытии логике как учению о мышлении держалось на трактовке тождества как метафизического «одного и того же». Развеять эти представления по-прежнему необходимо, а идеи Ильенкова дают для этого наилучший арсенал.
В диалектике вообще (в том числе и в гегелевской) всегда мыслится тождество различного, тождество противоположностей, а не монотонное повторение того же самого, одинакового. Реальное тождество — «в акте перехода, превращения противоположностей друг в друга, в данном случае — в акте перехода или превращения действительности (бытия) в мысль, а мысли в действительность. И такое тождество — повседневно осуществляемый каждым человеком факт. Каждый, познавая вещь, превращает ее в понятие; и каждый, реализуя свой замысел в поступке, в акте изменения вещи, превращает свое понятие в вещь» [1, с. 22].
Принимать диалектику, учение о тождестве противоположностей вообще, о тождестве мышления и бытия — в частности, за «мистику»,— это оборот мысли, которая упирается в действительную трудность при решении одной существенной философской проблемы. А именно — при выяснении отношения, в котором находятся друг к другу знание (понятийный аппарат теории, теоретические построения и представления, научные идеи) и предмет этого знания. Задача согласования одного с другим, установления их соответствия становится тем камнем преткновения, о который спотыкается метафизическое понимание тождества, которое коренится как в исключении различия из тождества — абсолютизации единства, так и в абсолютизации различий — исключение их единства.
Возможность сопоставления предполагает наличие «одного и того же» в вещах, ведь сравнивать можно только однородное. И в то же время только разные вещи можно сравнивать между собой, выявляя их специфику, сопоставляя и устанавливая отличие. Отношение устанавливается только там, где различие есть, но оно не абсолютно, а обнаруживает себя именно в единстве многообразного. И тогда это отношение внутреннее, имманентное, диалектическое, а не внешнее, как в случае «попытки установить какую-то особую сущность, которая была бы и не мышлением и не материальной действительностью, но в то же время составляла их общую субстанцию, то «третье», которое один раз проявлялось бы как мысль, а другой раз — как бытие» [1, с. 25]. Координация взаимоотношения мышления и бытия с помощью третьего — бога или абсолютного духа, требуется там, где постулируется абсолютное отличие двух разных миров — бесплотной мысли и бессмысленной плоти, между которыми приходится искать особый переход, мост, опосредствование через божественное начало. Диалектически понятое «одно и то же» — это основание взаимодействия и единства противоположностей, которые не являются двумя разными сущностями, а являются саморазличением одного целого. То есть мыслимые логические формы и закономерности суть не что иное, как осознанные универсальные формы и закономерности бытия. И тогда между «умопостигаемым» и «чувственно-данным» человеку миром не приходится искать «божественный мост», специальный переход, сакральное взаимодействие, они едины — это один и тот же мир, а не два разных. «Мышление есть способ деятельного существования материального тела, деятельность мыслящего тела в реальном пространстве и времени, внутри реального, материального (чувственно-воспринимаемого) мира» [1, с. 41].
Специфически антропологическая конкретизация этих материалистических истин, верных в самой общей форме логики и теории познания, как замечает Э.Ильенков, обнаруживает слабости, корень которых — понимание человека лишь как отдельного индивида. «Человек, изъятый из сплетения общественных отношений, внутри и посредством которых он осуществляет свой человеческий контакт с природой (т.е. находится в человеческом единстве с нею), мыслит так же мало, как и «мозг», изъятый из тела человека. Все чисто объективные характеристики (формы и законы) природного материала даны созерцанию сквозь тот образ, который природный материал приобрел в ходе и в результате субъективной деятельности общественного человека» [1, с. 47].
Объективная картина природы как таковой раскрывается человеку через преобразующую предметную деятельность и в результатах этой субъективной (практической) деятельности общественно производящего свою жизнь человека, общества. Именно та самая деятельность, которая изменяет и преобразует «подлинный образ природы», только и может показать, каков этот образ до и вне субъективного вторжения. Однородными, сравнимыми, сопоставимыми понятие (мышление) и предмет (бытие) становятся благодаря форме деятельности реального общественного человека, преобразующего природу в реальном пространстве и времени. Это сопоставление и сравнение формы деятельности человека с продуктом и результатом этой деятельности. В реальной предметно-преобразующей деятельности общественно-исторического человека происходит как различение, так и отождествление, или согласование, формы деятельности человека с формой вещи. Представление, способность мыслить, оперировать понятиями приобретается в активном действии, в «процессе действования человека с вещью, созданной человеком для человека, т.е. на основе предмета, созданного трудом или хотя бы только вовлеченного в этот труд в качестве средства, предмета или материала» [1, с. 50]. В форме вещи, созданной целесообразной деятельностью людей, в предметно зафиксированном результате действия осуществлено сравнение (сопоставление) представления с вещью, понятия с предметом, мышления с действительностью. Как действие, как процесс отождествление мысли и действительности совершается в движении практики и через развитие практики. Причем «в условиях разделения труда и «отчуждения» мышления превращение бытия в мысль и мысли в бытие совершается через сложнейшую призму опосредования, имеющую чисто социальную природу» [1, с. 51]. Поэтому мышление и бытие — не «одно и то же» в неразличимом, слепом «тождестве», это единство противоположностей, тождество различий, диалектическое противоречие. Переход, превращение действительности в мысль, реального в идеальное, предмета в понятие и обратно, как подчеркивает Ильенков, это как раз и есть тот факт, который специально исследовала и исследует философия как наука.
Итак, противоречие, диалектически понятое как источник движения, как внутренний двигатель самодвижения и развития, есть единство различий, тождество противоположностей, возникающих в раздвоении единого и взаимопроникающих в борьбе его полюсов. Таково общетеоретическое решение. Но диалектика противоречивого отношения индивида к своей собственной жизнедеятельности и к себе, как к ее субъекту, либо вообще не становилось в философии советского периода предметом исследования, либо оказывалось его периферией как предполагаемое следствие развития сознания. Самосознание чаще всего рассматривалось как ступень (этап, форма, уровень) развития сознания, преобладали исследования диалектического отношения общественного сознания и сознания индивида, раскрывающие формирование осознанного отношения человека к объективному миру. Сегодня, как и прежде, способность осознания людьми своих переживаний, представлений, интересов,— сознательное к ним отношение, все еще ожидает своего философского осмысления. Человеческая индивидуальность — уникальность, неповторимость — ставит перед философией не только задачу понимания, но также целенаправленного развития, осознанного воспитания самой способности философского самосознания индивидов.
Субъективность индивида и его постоянное эмоционально-осмысленное переживание себя, лежащее в основе каждого произвольного движения, как заметил Ф.Т. Михайлов, «не выводимы автоматически из знания того, что сознание есть общественный продукт, способность, развитая историей общественного труда, обеспечиваемого членораздельной речью и общением. Исследование людьми самих себя как индивидов возможно лишь как изучение их в качестве субъектов целесообразной деятельности, осознающих и совершенствующих её формы, способы и средства в исторической поступательности, и потому всегда «не равных себе», к себе относящихся, выходящих за свои «пределы» (за любые свои частные определения)» [2, c. 13].
Выделяя себя из своей собственной жизнедеятельности, человек способен к себе относиться, быть предметом своего внимания, контроля и воли. Только поэтому возможно его отношение к миру как внешнему — существующему отдельно от него. Для животного его отношение к другим не существует как отношение. Для человека отношение существует везде, где есть какое-нибудь отношение. Любое жизненное действие человека становится для него предметом отношения, т. к. соотносится им с некоторой общественной мерой, соизмеряется с ней и при необходимости корректируется. Меры эти культурно-исторически различны. И жизненный акт индивида именно потому является человеческим актом, что он произволен. Когда этот акт предстает перед субъектом в качестве предмета отношения, он требует от субъекта свободы воли для своего осуществления [2, с. 13–14]. История разворачивает и дифференцирует в многообразии своих особенных форм это исходное основание человеческой жизнедеятельности — такой её способ, которому присуще рефлексивное отношение к своему осуществлению.
Эта рефлексивность коренится в исходном противоречии всякого общественного труда, абстрактно-всеобщим выражением которого является его целесообразность и субъективность, с одной стороны, и естественно-природная объективность — с другой. Исторические формы труда — это тоже формы рефлексии, в которых человеческая деятельность опосредствуется общественной мерой, становясь произвольной. Любое действие индивида, общественно опосредствованное предметным образом, выделяется и переходит в план его представления, предстает перед ним, а вся деятельность с необходимостью оказывается пред-стоящей, планируемой — произвольной [2, с. 15]. В результате относительного обособления деятельности управления предмет, средства деятельности и способности самих её субъектов активно формируются и попадают в фокус сознания. При этом не объект переработки, а способ, прием преобразования, закрепленный в субъективных навыках труда и общения, подлежит изменению и реорганизации. В целенаправленном практическом изменении социальных процессов предметом деятельности людей становятся способы отношения человека к предметам материального преобразования и теоретизированию. В результате их практического выделения как преобразуемых они становятся сознательно выражаемыми.
Тот, кто по своей воле намечает цели деятельности, ищет средства для её организации и управления ею, выражая при этом социальную необходимость, имеет дело с образом человеческого действия как с особым предметом. При этом он изменяет этот образ/способ, полагая приёмы и планируя возможные результаты своего действия. Здесь предмет — не то, что непосредственно подвергается материально-практическому преобразованию,— это образ действия со всеми обрабатываемыми предметами, тот или иной прием их выделения, обозначения, меры, целесообразного использования. Предметом здесь выступает не та или иная субъективная способность человека, и не та или иная объективная «способность» природы, взятые сами по себе, а способы необходимого отношения человека к природе, содержащие как историю субъективных способностей предметно-практически действующих людей, так и объективные, сущностные свойства веществ и сил природы [2, с. 19]. В этих способах как особенных предметах отдельные природные объекты теряют свою естественную, случайную неповторимость и выражают общественное «назначение» своих выявленных объективных возможностей. И человек как субъект деятельности утрачивает в них неповторимость своих личных переживаний, свою случайную субъективность, удерживая лишь предметность образа действия и его необходимую общественную функцию.
Этими двумя ипостасями своего проявления образ действия как предмет деятельности определяет также предметность чувственной практики и размышления, т.е. теоретизирования. Он как бы берет на себя определения объективности, предметности, но предстает перед человеком не в виде какой-то определенной отдельной вещи, не в виде особого бытия, а в виде субъективного образа, находящегося в сознании. Перед теоретическим сознанием предстает нечто такое, что не имеет реального существования отдельного физического объекта. Однако сверхчув-ственность предмета теоретического мышления заключена лишь в том, что этим предметом стали способы отношения человека к миру в его историческом изменении.
Предметом теоретической деятельности всегда выступает не та или иная субъективно-человеческая способность, не те или иные объективные возможности веществ и сил природы как таковые, а общественно утвердившийся способ целесообразного и продуктивного употребления данных способностей человека и одновременно данных объективных возможностей природы. Каждый отдельный предмет теоретического осмысления выявляет тождество различий субъективного и объективного в человеческой жизнедеятельности вообще. Благодаря этому взаимопроникновению полярных моментов единого процесса предметной деятельности (во всех её исторических формах) объективное содержание входит в субъективные способности человека — способы познания, чувствования, переживания, воления, внимания и все другие моменты субъективности, которые возникали и оформились в едином процессе развития всех человеческих способов жизни.
Необходимость осуществлять целеполагание, а следовательно, совершенствовать способы и средства взаимодействия людей друг с другом и с объективными условиями их жизни в процессе реализации целей, связана, с одной стороны, с управлением деятельностью. С другой стороны — с мерами, которые задаются предметами в способах их преобразования, средствах воздействия на них, навыках совместной деятельности с ними, и которые лежат в основе всех форм социального общения людей, т.е. потребностей разработки планов и перспектив преобразования средств труда и общения.
Всеобщие общественные способы продуктивного отношения к реальности представляют собой субъективные, исторически развивающиеся способности людей. Но в то же время в них находит своё инобытие сама преобразуемая этими способами реальность: её объективные возможности, объективное содержание. Поэтому теория сознания, его теоретическое понятие — самосознание, раскрывает свой предмет как исторически найденные способы общественной репрезентации всеобщих мер действительности, средств и способов её целенаправленного преобразования, а тем самым она является исследованием целей, мотивов, интересов, потребностей и представлений, чувств и знаний. То есть в ней реконструируется процесс исторического становления сознания, его формирование и развитие.
Вся история человечества — не столько история усвоения и использования готовых образцов действия и средств, сколько история их создания, открытия новых возможностей в явлениях и процессах, изобретения новых средств, орудий, способов преобразования этих вновь созданных возможностей. При решении той или иной задачи человек поступает с их условиями в соответствии со своей целью: преобразуя эти условия, он выявляет заключенное в них противоречие и строит адекватный способ его решения, используя имеющиеся знания и преображенные условия. Использование, опять-таки, является целенаправленным изменением, соответствующим преобразованным условиям, с применением средств и способов, когда-то и кем-то найденных совсем в других предметных областях и сферах. Способность индивида к претворению, изменению, совершенствованию средств, способов и предметов человеческой жизнедеятельности, а тем самым и к самоусовершенствованию,— это функция его совместных, разделенных с другими людьми содействий. Формы общения превращаются в функциональные органы жизни каждого из человеческих индивидов, в способ управления этими своими, наследственно не заданными органами — другими людьми, глядя на себя их глазами, примеряя к своим действиям их меры и способы совместного действия, общественные способы и средства деятельности и общения. Формы целесообразного деятельного общения с другими людьми, самим индивидом превращаемые в способ его человеческой жизни, образуют «органы» его индивидуальности. Не только другие люди, но и способы, средства и формы со-действия с ними в процессе жизнедеятельности становятся органами жизни индивида.
В основе извечного неравенства человека самому себе, постоянной необходимости соотносить себя с объективными обстоятельствами и условиями со-действия с другими людьми, в основе необходимости отнестись к себе, каким был в прошлом и есть в настоящем и можешь стать в будущем, т.е. изменяющемуся, лежит деятельность целеполагания — целесообразными действиями достигаемое разрешение объективных противоречий в условиях той или иной вставшей перед ним задачи. Она же — самостоятельность, самодеятельность — прижизненная совместно с другими людьми и в определенной, исторически сформировавшейся структуре общения, осуществляемая переделка обстоятельств жизни, способ которой не предзадан ни функциями и органами тела, ни уже существующими приемами и средствами совместной деятельности.
Инициативно-самостоятельное преобразующее и формообразующее действие по усовершенствованию средств и способов своего обращения к другим людям — суть способа жизни по-человечески. Если сознание и самосознание не раскрывается в силе рефлексивного, свободного, произвольного действия, изменяющего обстоятельства согласно объективным возможностям, в соответствии с образом поставленной цели, то это свидетельствует о том, что нам еще не под силу наше собственное развитие и мы остаемся в сфере стихийного, а не сознательного, предысторического самоизменения.
Если логические закономерности суть не что иное, как осознанные и превращенные в активные формы и принципы нашей субъективной деятельности универсальные формы и закономерности развития объективной реальности, то их единственное отличие от объективных всеобщих закономерностей развития универсума заключается в возможности их сознательного применения. В то время, как в природе, а большей частью и в человеческой истории, они пролагают себе дорогу бессознательно, в форме внешней необходимости — случайности, для человека возможно осуществлять их действие преднамеренно, осознанно, целесообразно — свободно. В возможности достичь такого саморазвития в действительности заключается единственное различие логически осмысленных человеком закономерностей и объективных закономерностей бытия.
Литература
- Ильенков Э.В. Вопрос о тождестве мышления и бытия в домарксистской философии // Диалектика — теория познания. Историко-философские очерки.— Москва: Наука, 1964.— С. 21–54.
1.3. Болотова О. В. Вклад Э. В. Ильенкова в решение поблемы соотношения социального и биологического в человеке
На современном этапе развития психологической науки всё так же актуальной остается проблема соотношения биологического и социального в человеке.
В начале ХХI века значительно усилилась биологическая направленность в осмыслении проблемы человека. Это стало следствием огромных успехов биологии и появлением нового научного направления — социобиологии. Основоположником этого направления считается американский биолог Э.О.Уилсон, опубликовывавший в 1975 г. книгу «Социобиология: новый синтез». Эта работа ориентировала исследователей на широкое изучение биологических основ социальной жизнедеятельности людей. Сторонники социобиологии пытаются согласовать данные генетики, этологии (науки о поведении животных), эволюционной биологии и т.д. с целью сформировать биологические представления о социальном поведении человека. Однако попытки объяснить развитие и поведение человека преимущественно в рамках биологии вряд ли можно признать состоятельными. Исследования, проведенные некоторыми учеными, показывают, что только 15 процентов всех актов человеческой деятельности связаны с биологией человека. Таким образом, вне социальных условий одна только биологическая основа еще не делает человека личностью.
Человек обретает личностные качества, приобщаясь к социальному опыту, культуре и ценностным ориентациям общества, в котором он живет. Именно в этом контексте сегодня весьма актуальным в понимании соотношения биологического и социального в человеке является изучение работ Э.В. Ильенкова. В своих многочисленных исследованиях он рассматривал фундаментальные проблемы теоретической психологии (природа идеального и сознания, воображения и мышления, личности и индивидуальности и др.), дал глубокое логикофилософское обоснование основных положений культурно-исторической теории и теории развивающего обучения Л.С. Выготского. «Психология, считал Э.В. Ильенков, должна исходить из того, что между индивидуальным сознанием и объективной реальностью находится такое опосредующее звено, как исторически сложившаяся культура, выступающая в качестве предпосылки и условия индивидуального сознания (это экономические и правовые отношения людей, сложившиеся формы быта, языка и т. д.). Культура непосредственно выступает для индивида как „система значений“, противостоящая ему как внепсихологическая реальность» (Давыдов В.В., 1994).
Э. В. Ильенков в своих работах говорил о диалектической природе человека: «…проблема возникает именно потому, что человек — это не «с одной стороны — социальное, а с другой — биологическое существо», которое можно расчленить — хотя бы мысленно — на эти две стороны, а существо в буквальном смысле слова диалектическое. Это значит, что любое социальное отправление, любое действие, любое проявление социальной жизни в человеке обеспечиваются биологическими механизмами, прежде всего — механизмами нервной системы. С другой же стороны, все биологические функции организма человека до такой степени подчинены выполнению его социальных функций, что вся биология становится здесь лишь формой проявления совсем иного по природе начала» [2].
Таким образом, Э. В. Ильенков не отрицал биологическую основу психики человека. Однако, ведущим в формировании поведения и развития человека он считал социальное развитие: «Позицию подлинного материализма, сформулированную Марксом, Энгельсом и Лениным, в общем и целом можно охарактеризовать кратко так:
Все человеческое в человеке — то есть все то, что специфически отличает человека от животного — представляет собою на 100 % — не на 90 и даже не 99 — результат социального развития человеческого общества, и любая способность индивида есть индивидуально осуществляемая функция социального, а не естественно-природного организма, хотя, разумеется, и осуществляемая всегда естественноприродными, биологически-врожденными органами человеческого тела, в частности — мозгом»[2].
В статье «Психика и мозг» (1968) Э.В. Ильенков доказывает, что биологические особенности человека, типы нервной системы равноценны в жизни, что мозг здорового человека способен к обучению и развитию вне зависимости от его генетических особенностей: «Разумеется, с «типом» нервной системы считаться надо, учитывая его «особенности» при дозировке нагрузок на психику (а через нее на мозг), при определении режима работы и т.д.…Однако с точки зрения «специфически человеческих функций» нервные системы различных типов совершенно равноценны. Проигрывая сангвинику в быстроте, флегматик компенсирует ее основательностью, избавляющей его от необходимости исправлять допущенные в спешке оплошности, и т.д., так что итог в общем и целом получается у обоих один и тот же. Каждый тип обладает и своими «плюсами» и своими — неотделимыми от них — «минусами», и эти «плюсы» и «минусы» взаимно погашаются, нейтрализуются. Поэтому-то здоровый мозг любого типа в состоянии усваивать любую специфически человеческую способность, и «способных» людей жизнь в любом деле формирует из индивидов всех типов нервной системы. В этом отношении «особенности церебральной архитектоники» — а уж генетические и подавно — столь же безразличны (нейтральны), как и индивидуальные вариации внутри «особенностей» этой архитектоники»[1]. Таким образом,»..все без исключения специфически человеческие функции мозга и обеспечивающие их структуры на 100 % — а не на 90 и даже не на 99 % — определяются, а стало быть, и объясняются исключительно способами активной деятельности человека как существа социального, а не естественно-природного. В этом пункте различение между «социальным» (историческим) и «природным» в человеке с научной точки зрения должно проводиться с абсолютной строгостью»[1].
В этой же статье Э.В. Ильенков рассуждает, что»..человеческий мозг потому-то и обеспечивает человеческую психику, что способы его функционирования в отношении специфически человеческих задач уже совершенно свободны от определяющего влияния чисто биологических, генетически врожденных нейродинамических отношений и связаны ими в минимальной мере».
Ильенков Э.В. был против «элитарности» талантов. По его мнению, каждый человек — талантлив. Все люди, родившиеся с биологически нормальным мозгом в потенции способны, одарены. Этот подход дает веру в себя любому человеку, заставляет его развиваться и работать над собой. Каждый ребенок, школьник должен понимать, что у него есть шанс и возможность добиться успеха в любой деятельности, если ему среда(взрослые) предоставят соответствующие нормальные человеческие условия, внутри которых индивиду предоставлены и обеспечены все возможности доступа к сокровищам человеческой культуры, в активном овладении которыми впервые возникает, формируется и совершенствуется психика, а мозг превращается в орган этой психики. По мнению Ильенкова Э.В., именно культура формирует личность человека: «Только на этой почве — на почве культуры — и расцветает подлинная оригинальность, подлинная, то есть специфически человеческая, индивидуальность, которая и называется на языке науки личностью. И плохо дело личности, если единственной гарантией ее сохранения будет биологически врожденная особенность» [2].
Он утверждал, что «…«нормой» для человека является как раз талант и что, объявляя талант редкостью, уклонением от нормы, мы просто-напросто взваливаем на матушку-природу нашу собственную вину, нашу собственную неспособность создать для каждого нормального в медицинском отношении индивида все внешние условия его развития до самого высокого уровня талантливости. Поэтому-то и кажутся не только нелепыми, но и вредными рассуждения о генетической заданности умственных способностей человека...».
Сегодня очень популярны медикаментозные методы «развития» психики человека. Мы наблюдаем как активно фармацевтический рынок предлагает различные БАДы для улучшения памяти, развития познавательных способностей школьников. Любую проблему в поведении детей родители и педагоги стремятся решить через поход к неврологам. В этом ключе очень актуальной является идея Э.В. Ильенкова о задачи медицины не в перестройке психики человека, а восстановлении нормы работы психики. «Сначала сделают ребенка невротиком и даже психопатом, а потом посылают его к неврологу, который, естественно, фиксирует невроз. И получается заколдованный круг, где причину всегда легко выдать за следствие»[1]. И тут вновь обращаемся к тезису Э.В. Ильенкова о том, что детей необходимо развивать через умение мыслить: «Ум, способность самостоятельно мыслить, формируется и совершенствуется только в ходе индивидуального освоения умственной культуры эпохи. Ум («талант», «способность» и т.д.) представляет собой естественный статус человека — норму, а не исключение. Нормальный результат развития нормального в биологическом отношении мозга в нормальных же — человеческих — условиях»[1]. Очень важным является и тезис о том, что школа должна учить мыслить, учиться мыслить должен каждый педагог.
В заключении приведем тезис Э.В. Ильенкова, который обобщает весь смысл его исследований по данной проблематике и является руководством к действию для современных родителей, педагогов и неврологов: «… проблема отношения биологического и социального в человеческой жизнедеятельности и психике — это проблема не надуманная, а жизненная, и врач, так же, как и педагог, должен быть знаком с общетеоретическим решением этой проблемы в философии марксизма-ленинизма, чтобы делать поменьше ошибок в частных, в конкретных случаях, с которыми он сталкивается»[1].
Работы Э.В. Ильенкова еще много лет будут актуальны, так как в них содержатся ценные идеи для педагогической психологии, для психологии способностей, для развития талантов и решения проблем современной теоретической психологии.
Литература
Ильенков Э.В. Психика и мозг (Ответ Д.И. Дубровскому)//«Вопросы философии».— 1968 г.— № 11.— с. 145–155.
Ильенков Э.В. Биологическое и социальное в человеке. Рукописи и стенограммы выступлений [Электронный ресурс].— URL: http://amaid.tk/ilyenkov/texts/ sch/biosoc.html
Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить.— М.: МПСИ, 2009.— 112 с.
1.4. Вахитов Р. Р. Универсальность проблемы универсалий
Проблема универсалий не является лишь принадлежностью средневековой схоластической мысли. Вопрос о том, как существует общее, идеальное, универсалии — в голове человека или вне головы? — неизбежно встает в рамках любой философской традиции любой эпохи истории философии. Просто в каждую эпоху он приобретает специфическую форму. В средневековье он расцвечен религиозными красками, в рамках марксизма увязан с рассуждениями об общественно-исторической практике. Но за этими историческими формами легко обнаружить «вечное», универсальное содержание: борьбу реализма и номинализма, объективизма и субъективизма, мнения, что универсальное, истина, добро и красота — всего лишь фантазмы индивидуального сознания, и точки зрения, что они — всеобщие ценности.
Не возникнуть он не может, ибо он порождается самим историческим развитием. Везде, где происходит такое усложнение общественного бытия, что от первичного патриархального коллектива отделяется личность, индивидуальность и начинает развиваться и усложняться внутренний мир этой индивидуальности, в философии ставится проблема универсалий и скрещивают копья номиналистический, субъективистский и реалистический, объективистский подходы. В античности это была борьба софистов с одной стороны и Сократа, Платона и Аристотеля — с другой, порожденная развитием полисов. В средние века — борьба схоластов-номиналистов и схоластов-реалистов, порожденная становлением средневековой городской цивилизации и развитием университетской культуры. В Европе Нового времени — это борьба эмпириков идеалистической ориентации, таких как Беркли и Юм, и континентальных рационалистов — и прежде всего Спинозы, у которого ярче всего представлена мысль о объективном существовании идеального. Она была отражением буржуазного преображения Европы. В советском марксизме это, конечно, столкновение криптопозитивистов — сторонников Дубровского — и Ильенкова и Лифшица, и оно также — результат усложнения и урбанизации советской цивилизации после Великой отечественной войны.
Позиция реализма везде представлена классической философией, которая не столько отстаивает старый идеал коллективизма, сколько предлагает пересобрать коллективистскую парадигму на новых идейных основаниях, не столько отстаивает прежнюю традиционную, догматическую защиту Истины-Добра-Красоты, сколько предлагает их умное, диалектическое обоснование. Номинализм, наоборот, зиждется на отчуждении человеческой личности, на метафизическом развитии индивидуализма, что ведет к отказу от универсального классического идеала, к проповеди релятивизма.
Борьба реализма и номинализма, пронизывающая всю историю, связана с союзом «умного материализма» и «умного идеализма» против субъективизма, релятивизма, софистики. Так, по одну сторону философских баррикад оказываются Маркс и Гегель, Ленин и Лосев.
1.5. Возняк В. С. Ещё раз о совпадении диалектики с логикой и теорией познания
Буду говорить о вещах основательно позабытых, возможно — для некоторых — даже архаичных. Осовременивание, «модернизация» в философии — процесс неоднозначный и весьма коварный. «Инноватика», погоня за «новизной», в том числе за «новыми» методологиями — болезнь нашего времени. Как заметил Мартин Хайдеггер еще в 1943 году, «<…> по разным причинам люди больше любят возиться с непрестанно новым и новейшим [8, с. 64] Вспоминается, как один из официальных оппонентов на защите моей диссертации в качестве недостатка указал на приверженность диалектике, а последняя, несмотря на все былые заслуги, якобы устарела, и надо обратиться к синергетике, ибо, к примеру, диалектика знает только «организацию», а синергетика говорит о «самоорганизации», и далее в подобном духе. Пришлось корректно напомнить господину, что именно у Гегеля речь идет о самодвижении, саморазвитии, самости, об «отношении к себе», а хотелось грубо, резко и наотмашь сказать: «Гегеля в молодости надо было тщательнее изучать!».
В наше достаточно безблагодатное и бесчестное время диалектика явно не чести. С горечью замечает Ф.Т. Михайлов: «<…> о диалектике, если и вспоминают, то вскользь, чуть ли не с кривой усмешкой на устах» [7, с. 156].
Примечательный факт: и в советское время философов, сознательно (т.е. со знанием дела, с подлинным пониманием) работающих в режиме «высокой диалектики», было не то что немного — абсолютное меньшинство. И как раз именно они на постсоветском пространстве остались верны диалектике (Г.В. Лобастов, С.Н. Мареев, Л.К. Науменко, А.А. Хамидов, Ж.М. Абдильдин, Н.В. Гусева, группа киевских философов школы В.А. Босенко — да не обидятся неназванные) и продолжают свои исследования в этой доброй традиции. Те же, кто постоянно клялись в приверженности «марксистско-ленинской методологии», быстро сменили «ориентации». Все как в жизни: чем чаще и громче клянутся в верности женщине, тем вернее ей изменяют.
Произошло нечто похожее на то, что случилось в постклассической философии, когда философия Гегеля была отправлена в отставку. Г.В. Лобастов пишет, что последующая философия выбросила Гегеля вообще и занялась «сооружением «системного подхода», «теории управления» с «синергетической самоорганизацией» и прочих так называемых методов. Именно представления обыденного сознания, очищенные сознанием «научным», и живут в науке как «естественные» способности ума. Девственная незатронутость ученого сознания философской логикой впадает в эйфорию от счастья открытия давно открытых искушенным умом истин» [4, с. 267]. А чего стоит увлечение «интервальным подходом», «витруалистикой», «квантовой теорией сознания» и проч. Частно-научные методы возводятся в ранг общенаучных и тут же — без всякого обоснования — отчего-то объявляются «философскими».
Провозглашение диалектики (в виде позитивистки ориентированного «диамата») в общеобязательный метод в советское время немало способствовало дискредитации высокой диалектики, вырождению ее в простое нагромождение слов, противопоставлений и проч. О такой «диалектике» неплохо сказано М. Хайдеггером: «<…> всюду, где в существенном, глубинном мышлении кроется возможность помыслить предельное, решающее и единственное,— всюду непременно таится опасность превратить это начинание в поверхностное, пошлое, почти механическое пустословие. Там, где эта опасность всякий раз не осознается с новой силой, возникает шумное и пустое противопоставление антонимов: свет и тьма, жизнь и смерть, бодрствование и сон, движение и покой, свобода и необходимость, бесконечность и конечность. Кто-то, оглушив себя этим легко усваиваемым „диалектическим“шумом, уже решил изображать глубокомыслие и вести себя как мыслитель» [8, с. 54]. Рассматривая идеи Гераклита, М. Хайдеггер замечает: «Ведь порой даже Гегель и Шеллинг попадали в жернова диалектики — так чего уж говорить об их последователях, уже не мыслящих из глубины постигнутой „субстанции“? Разве могут они отказаться от быстрой телеги диалектики, если из слов, сказанных Гераклитом, им почти прямо в глаза прыгают противоположности?» [8, с. 55]. Или вот еще: «Если немного напрячься и потренироваться, то можно без особого труда усвоить «хитрость» диалектики и с ее помощью даже научиться открывать любые окна. И все-таки сомнительно, чтобы с помощью одной только этой хитрости можно было бы научиться глядеть в пространство, открывающееся за некогда запертыми окнами и проходимое в диалектическом спекулятивном мышлении Шеллинга и Гегеля. Сомнительно, чтобы, научившись одной только этой хитрости, уже можно было бы слышать и видеть» [8, с. 150].
В этой связи уместно вспомнить разговор Гегеля и Гете, записанный И.-П. Эккерманом. Речь шла о сущности диалектики. Гегель: «Собственно, диалектика <…> — не что иное, как упорядоченный, методически разработанный дух противоречия, присущий любому человеку, и в то же время великий дар, поскольку он дает возможность истинное отличить от ложного». Гете: «К сожалению, <…> эти умственные выверты нередко используются для того, чтобы ложное выдать за истинное, а истинное за ложное». Гегель: «Бывает и так, <…> но только с людьми, умственно повредившимися» [11, с. 560].
Представители современного «научного (и околонаучного) сообщества» горделиво считают себе умственно полноценными и в большинстве своем напрочь отбрасывают диалектику, имея о ней, об ее истинной природе весьма смутное и убогое представление.
О совпадении диалектики, логики и теории познания в современном философском «научном сообществе» предпочитают не говорить, ибо это «несерьезно». Существуют отдельные дисциплины: онтология, эпистемология и логика. Под логикой же подразумевается логика формальная в ее современных трансформациях. В связи с этим хочется привести слова М. Хайдеггера: «В „школе“Платона возникло не только наименование „логика“(επιστήμη λογική), но и сформировался сам предмет, развитию которого в немалой степени содействовал Аристотель, знаменитый ученик Платона. „Логика“— это отпрыск метафизики, если не сказать — уродливое дитя. И если сама метафизика — это неудача существенного мышления, тогда „логика“— это вообще уродец, рожденный уродцем» [8, с. 146]. А насчет «отдельных дисциплин», которые множатся в пространстве современной философии, то следует понимать, что сам процесс дисциплинаризации в науке (как проявление ее институализации) является следствием отчуждения, которое не могло не поразить науку, в том числе и философию, до самого основания (о чем достаточно убедительно сказано в работах Н.В. Гусевой). Кстати, высокая диалектика по сути своей противостоит дисциплинаризации, равно как и отчужденному состоянию человеческого бытия вообще.
Здесь необходимо вернуться к Э.В. Ильенкову, а точнее — двигаться вперед к нему, к идеям его творчества.
Диалектика представляет собой всеобщую теорию развития (В.А. Босенко). Ф.Т. Михайлов определяет ее несколько иначе: диалектика есть «логическая форма и всеобщий способ рефлексивного (на себя обращенного) теоретического мышления, имеющего своим предметом противоречия его мыслимого содержания» [7, с. 156]. Специфика же такой логической формы состоит в том, что она несет в себе онтологическое и гносеологическое содержание не просто в «снятом виде», а непосредственно, активировано, сознательно.
Суть принципа единства диалектики, логики и теории познания раскрывается Э.В. Ильенковым следующим образом: человек изменяет, преобразует действительность в согласии с законами движения и развития самой объективной действительности; законы изменения мира человеком совпадают (не могут не совпадать) с законами саморазвития мира; эти законы (преобразования мира человеком), будучи осознанными, становятся логическими законами, законами мышления. В таком случае специфика мышления состоит в отсутствии какой-либо своей изначальной специфики,— иными словами, в универсальности. Онтология, теория познания и логика — не три различных науки, дисциплины, а суть одно: Логика, она же — онтология и гносеология [см.: 3, с. 227].
В.А. Босенко то же самое раскрывает несколько иначе. Универсальное субстанциальное развитие продолжает себя в человеческой деятельности (прежде всего — чувственно-предметной, практической, общественно-исторической) и продолжает себя в познающем мышлении как развитии самого развития. Вот почему диалектика совпадает с логикой и теорией познания.
Почему именно диалектика выступает всеобщим методом познания? Диалектика очень ответственно, то бишь — рефлексивно, с понятием, с пониманием относится к себе как к методу, осознает самое себя как «сам себя конструирующий путь» (Гегель). Согласно Гегелю, метод не является чем-то внешним, прилагаемым к содержанию, он — «не только в себе и для себя определенная модальность бытия, но в качестве модальность познания положен как определенный понятием и как форма, поскольку она душа всякой объективности и поскольку всякое иначе определенное содержание имеет свою истину единственно лишь в форме» [2, с. 290]. Значит, метод есть душа содержания, которая в то же самое время становится измерением, ритмом движения нашей собственной души. Метод не применяется ко всему прочему как своего рода универсальная отмычка: согласно всеобщности идеи метод — «в такой же мере способ познания, субъективно знающего себя понятия, в какой он объективный способ или, вернее, субстанциальность вещей» [2, с. 291]. Таким образом, сущность метода как такового заключается в первую очередь в его содержании, субстанциальности. Метод — это тот путь исследования или осмысления некоторой реальности, который существенно (т.е. в самом существенном) соответствует ее собственной природе.
Гегель утверждает, что философский метод «составляет предмет самой логики, ибо метод есть осознание формы внутреннего самодвижения <…> содержания философии как науки» [1, с. 107]. Метод «не есть нечто отличное от самого предмета и содержания, ибо именно содержание внутри себя, диалектика, которую он имеет в самом себе, движет вперед это содержание. Ясно, что нельзя считать научными какие-либо способы изложения, если они не следуют движению этого метода и не соответствуют его простому ритму, ибо движение этого метода есть движение самой сути дела» [1, с. 108].
Движение самой сути бытия однозначно определяет и метод его, бытия, осмысления, поскольку здесь явно присутствует диалектика, которая и движет вперед его содержание. Относительно метода и его природы весьма полезно прислушаться к словам Мартина Хайдеггера: «В греческом языке „сокрытие“, „обман“означает отход от правильного пути, свертывания с тропы (πατος). Распространенное греческое слово, обозначающее путь, это η οδος, а производным от него есть μεθοδος, откуда берет начало и заимствованное нами слово „метод“. Следует, однако, заметить, что греки понимают это слово не как „метод“в смысле какой-то процедуры, которая помогает человеку осуществлять исследовательское, изыскательское посягательства на предметы. Для греков μεθοδος является пребыванием-на-пути, а именно на том пути, который не человеком мыслится как некий „метод“, но указывается самым сущим и таким образом уже присутствует в ракурсе сущего, проявляется. В греческом сознании μεθοδος — это не „способ“исследования, а скорее само исследование как пребывание-на-пути. Для того, чтобы понять природу по-гречески понимаемого „метода“, мы прежде должны усвоить, что для греческого „пути“(η οδος) характерны вы-сматривание и о-зирание. „Путь“— это не расстояние между двумя точками и не множественность таких точек. Перспективная и «прозорливая» сущность пути (который сам ведет к несокрытости) и тем самым сама сущность хода, совершенного на этом пути, определяются в ракурсе несокрытости и непосредственного прихода к неприкрытому» [9, c. 133]. Сущностное мышление, согласно Хайдеггеру, именно есть путь, то есть — «методос». Мышление само есть путь. Мы соответствуем этому пути только тогда, когда уже находимся в пути. Быть в пути, чтобы его прокладывать — это одно. Но есть и другое — встать на этот путь откуда-то со стороны и рассуждать о том, различаются те или иные отрезки пути и т.п.; это дело каждого,— того, кто не находится в пути и даже не намерен идти по нему, а оставляет себе в стороне, чтобы только представлять и обсуждать этот путь, рефлектировать относительно него. Вот почему осмысляющее размышление не является просто рефлексией. Но что нужно, чтобы мы стали на путь? Хайдеггер отвечает: «Для того, чтобы мы оказались в пути, мы должны, конечно, сдвинуться. Это сказано в двойном смысле: во-первых, мы тронуты, то есть сами открываемся перспективе, раскрывающегося и направления пути, и, во-вторых, мы отправляемся в путь, то есть делаем шаги, без которых нет никакого пути. Путь мышления не тянется откуда-то куда как проложено где-то шоссе, он также сам по себе вообще не существует где-либо налично. Ход и только ход (Gehen), в данном случае мыслящее вопрошание, суть по-ступок (Be-wegung). Это Be-wegung есть разрешение пути появиться» [10, c. 261–262].
И вот что предельно важно: сущностное мышление (по Хайдеггеру) имманентно связано с тем, что с человеком, ступившим на этот путь, вбросившим себя в эту ситуацию собственно мышления, что-то происходит. Ведь философия «не просто занятие для мысли, которая увлечена игрой общими понятиями, причем такое занятие, которому можно предаваться, а можно и не отдаваться, поскольку в обоих случаях ничего существенного не происходит» [9, c. 262].
Итак, диалектика — не инструмент, извне прикладываемый к объекту. Диалектика ни в коем случае не является обычным объектным знанием. Онтологически диалектика есть путь — путь всеобщего развития от природы к человеку, в человеке и человеком (деятельностью) вплоть до мышления, его категориального строя. Поэтому диалектика как метод имманентно требует пребывания-на-пути, нахождение себя в пути, в «силовых линиях» этого всеобщего развития. Лишь в этой ситуации пребывания-на-пути с нами и происходит нечто существенное — само-изменение, само-развитие. Диалектика как логика и теория познания, как утверждает Г.В. Лобастов, не универсальная «отмычка», а деятельная способность.
Вот почему собственно человеческое бытие в своей истине (т.е. соответствующее своему понятию) доступно лишь в пределах диалектики как логики. Если мы теоретически находим себя пребывающими-на-пути в предельно широком и одновременно предельно конкретном контексте всеобщего развития от мировой субстанции к человеку и внутри собственно человеческого способа бытия (так понятой общественной истории), мы и становимся способными реалии человеческого бытия поднимать до мышления, мыслить их, входить в их содержание по формам (логике) самого содержания. В таком случае мы осуществляем идеальное движение собственно категориально: не просто используем категории, прикладывая их к эмпирическим фактам (так работает рассудок), а входим в саму категориальность как представленную в формах нашего мышления всеобщность универсального бытия, как силу самого бытия, обособленную от всеобщности бытия в нашу способность. Категории не просто «прикладываются» (применяются, используются), а доводятся до понятия, и само наше движение в понятиях становится Понятием как собранной в субъектности мощи бытия. Как говорит Г.В. Лобастов, диалектическая логика как наука «вынуждает субъективную мысль осуществлять движение по всеобщей логике самой субъективности, осуществляющейся как познающий процесс в его идеальной форме. Поэтому, конечно же, это процесс рефлексивный. Но рефлексии здесь подвергается не индивидуальная «дурная» субъективность в ее случайности бытия, а всеобщая субъективность исторического человечества, объективный дух, как бы сказал Гегель» [4, с. 287]. И такая «всеобщая субъективность» берется диалектикой целостно, а не фрагментарно.
Иные методы аналитики человеческого бытия (в антропологии, социологии, в психологии и педагогике) довольно успешно могут описывать те или иные «срезы» человеческой реальности, однако — без проникновении в сущность и ее удержания, поскольку не выходят на историческую целостность бытия человека. Значит, они всегда рискуют остаться в плену превращенных форм осуществления человеческого бытия, принимая их за нормальные, истинные. Диалектика как логика берет человеческое бытие основательно, значит — из самого его основания (чувственно-предметной практической общественной деятельности), понимает историческую необходимость несовпадения сущности и существования человека (отчуждения), равным образом видит она объективную потребность адекватного разрешения субстанциальных противоречий человеческой предыстории. Лишь в таком контексте, лишь в свете такого всеобщего любое особенное в мире человека может быть не просто описано, но объяснено адекватно, не с позиций того или иного частного интереса, а с позиций самого объективного, беспокойного, противоречивого, драматического и порой — трагического — развития человеческого бытия как общественной истории. Г.В. Лобастов совершенно справедливо утверждает: «Сила знания в его истинности, в том, что оно раскрывает объективную картину бытия, видит движение его реально действующих сил и дает возможность сообразно своим целям войти в сопряжение с их действием. Понимающее мышление, удерживающее эту истину, всеобщую объективную логику действительности, и основание своих целей видит в абсолютном моменте самого бытия» [4, с. 449].
Принцип единства (совпадения) диалектики, логики и теории познания требует не брать те или иные категории просто «из представления», в готовом наличном виде, а непременно отслеживать ту историческую реальность, которая воплощалась в содержание рассматриваемых категорий. Иными словами, постоянно озадачивать себя вопросом: как это возможно, откуда мы это знаем, каким образом получилось так, что мы владеем той или иной категорией, тем или иным понятием? Содержание какой реальности, уровень развитости какой общественной практики, уровень развитости каких собственно общественных отношений входит в содержание того или иного понятия, категории? Тогда мы вопрос ставим одновременно и в онтологический, и в теоретико-познавательный план, не покидая собственно логического измерения. Именно в этом — в первую очередь — состоит методологическое значение принципа единства диалектики, логики и теории познания.
Однако диалектика является не только логикой и теорией познания, но и этикой (и эстетикой, если войти в концепцию А.С. Канарского). «Если к освоению диалектики,— совершенно справедливо утверждает С.Н. Мареев,— приступает человек, нравственно к этому не готовый, то диалектика в его руках превращается в софистику, которая уже в древности была осуждена как занятие безнравственное. В этом и состоит единство диалектики и нравственности: диалектика как способ мышления и поведения предполагает определенное мужество, готовность идти навстречу противоречиям, а подлинная нравственность может основываться только на последовательной диалектике, практически и теоретически. Никакая нравственность невозможна без внутренних напряжений, без борьбы с собой, без борьбы между долгом и склонностью, внутренним императивом и внешним побуждением, и осмыслено все это теоретически может быть только при помощи диалектического способа мышления» [6, с. 114–115]. Мне представляется, что в контексте сказанного выше, можно наконец таки адекватно (особенно в ситуации современных откровенно буржуазных реалий) понять слова Г.В. Лобастова, сказанные в Алма-Ате еще в 1983 году: «Категории нравственного сознания есть <…> особенная форма выражения мышления вообще, форма, непосредственно связанная со спецификой своего предмета — общественного бытия человеческой личности. Воспроизведение в деятельности, в ее особом способе и форме представлений о самоценности человека и есть мышление, мышление как нравственность <…>. Действовать по «логике» такого предмета, каким является человек, значит видеть человека в контексте действительных отношений внутри общества, видеть его в контексте истории и исторической перспективы и действовать сообразно этому видению — согласно понятию человека вообще» [5, с. 135–136].
Вопрос же о том, насколько совпадают диалектика, логика и теория познания (о чем интенсивно спорили в 60–70-е годы прошлого столетия в советской философии) решается достаточно просто: они тождественны. Однако тождество (в диалектике) непременно предполагает различие. Главное же здесь — никакой «изначальной специфики мышления». В противном случае — мы не с Ильенковым.
Литература
Гегель Г.В.Ф. Наука логики: в 3 т. М.: Мысль, 1970. Т. 1.— 501 с.
Гегель Г.В.Ф. Наука логики: в 3 т. М.: Мысль, 1972. Т. 3.— 371 с.
Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки теории и истории. М.: Политиздат, 1974.
Лобастов Г.В. Диалектика разумной формы и феноменология безумия. М.: Русская панорама, 2012.— 560 с.
Лобастов Г.В. Мышление и нравственность // Диалектика и этика / Под ред. Ж.М. Абдильдина и Л.М. Архангельского. Ама-Ата: Наука, 1983.— С. 127–136.
Мареев С.Н. Нравственность диалектики и безнравственность метафизики // Диалектика и этика / Под ред. Ж.М. Абдильдина и Л.М. Архангельского. Ама-Ата: Наука, 1983.— С. 104–115.
Михайлов Ф. Т. О диалектике // Избранное. М.: Индрик, 2001.— С. 156–182.
Хайдеггер М. Гераклит. 1. Начало западного мышления. 2. Логика. Учение Гераклита о Логосе. СПб.: Владимир Даль, 2011.— 503 с.
Хайдеггер М. Парменид. СПб.: Владимир Даль, 2009.— 283 с.
Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Академический Проект, 2007.— 351 с.
Эккерман И.-П. Разговоры с Гете. М.: Худож. Лит., 1991.— 687 с.
1.6. Герасимов Ф. С. Монизм в изучении исторического развития мышления
Развивается ли мышление? Есть ли различие в мышлении современного человека и, например, древнего грека? Взрослого и ребенка? Инженера и крестьянина? Эти вопросы были поставлены в философии и науке в начале ХХ века в связи с изучением т.н. «примитивного» мышления. Выдвигались и опровергались гипотезы, велись эксперименты и наблюдения, писались статьи и книги. В результате, на сегодняшний день, сложилось некоторое понимание и описание одного из качественных скачков в истории мышления — перехода от мифа к логосу (многие исследователи, впрочем, наличие такого скачка отрицают). С другой стороны, в ходе анализа развития научного знания и, в целом, культуры, возник ряд тем и понятий (стили и способы мышления, парадигмы, ментальности, эпистемы, дискурсивные формации), намекающих на то, что мышление людей разных эпох различно. Есть и научные данные на этот счёт — от исследований влияния школьного образования на развитие когнитивных навыков до изучения изменения морфологии мозга под воздействием определенных культурных практик. Таким образом, сегодня мы имеем основания для постановки вопроса об историческом развитии мышления. Но как его изучать и понимать, к каким выводам и следствиям мы в результате можем прийти — здесь ясности нет. А варианты разнообразны.
До сих пор продолжаются редукционистские попытки объяснить изменение мышления (когнитивную эволюцию). Прежде всего — в русле эволюционной эпистемологии (Д. Кэмпбелл, К. Лоренц, И.П. Меркулов) [9]. Ставя во главу угла законы эволюции, сторонники этого подхода не смогли, однако, объяснить возникновение и развитие культуры исходя только из генетики. А поскольку вывести социальное из биологического (или свести к нему) не вышло, то для их связи просто-напросто был постулирован некий фундаментальный механизм геннокультурной коэволюции, предполагающий, что формирование культуры если и не детерминировано, то, по крайней мере, направляется генетически. Дело выглядит так, будто введение термина «геннокультурная коэволюция» должно как-то помочь делу и решить внутренние проблемы этой формы редукционизма. Однако полагаем, что без верного уяснения связи биологии и культуры эти новые термины так и останутся «заплатками» для неработающих концепций.
Подобные же «заплатки» можно встретить и в других работах. В частности, с 80–90х годов прошлого столетия идеи эволюционной эпистемологии соединились с когнитивными науками и получили развитие в концепции воплощенного познания, связанной с исследованиями Ф. Варелы, Дж. Лакоффа и др. авторов. Здесь речь идёт о телесности познания — то, что познаётся и то, как познается, зависит от особенностей строения тела и его движения в пространстве. Осознав невозможность изучения мышления исходя только из генетики и строения мозга, сторонники данного подхода добавляют к ним телесность, а кроме того — внешнее природное и социокультурное окружение. При этом «познавательные системы есть динамические и самоорганизующиеся системы. В этом функционирование познавательных систем принципиально сходно, единосущно функционированию познаваемых природных систем, то есть объектов окружающего мира» [4]. Этот подход (точнее — целая совокупность подходов), преодолевая ограниченность «вычислительного» понимания мышления, исходит всё равно из противопоставления познающего индивида (на этот раз — обладающего телом, а потому — активного, деятельностного) и сугубо внешнего для него окружения. Связь телесного человека и общества в этом случае полагается сугубо внешней, и речь опять приходится вести об их коэволюции.
Такая же ситуация — и в работах других исследователей с другими исходными позициями. Например, в интереснейшей книге Д.Эверетта «Как начинался язык». Поставив задачу изучения возникновения и культурной эволюции языка, автор понимает язык то как природный феномен и применяет к нему эволюционный подход («Люди эволюционировали, сменив когнитивную ригидность на когнитивную гибкость» [8, с. 122], «язык, как и другие биологические функции — явление непростое» [8, с. 151]), то как культурный и семиотический («язык — не биологический объект, а семиотический. Его происхождение основано не на каком-то гене, а на культуре» [8, с. 130]). Или, например, в работах известного отечественного специалиста в области когнитивных наук Т.В.Черниговской. Она, отталкиваясь с одной стороны от идеи Дарвина о том, «что разница между нами и другими видами, особенно близкими, в степени, а не в качестве: основные принципы должны быть едины» [7, с. 35], «наша видовая особенность ˂…˃ не пропасть между человеком и другими видами, а почему-то возникшая сложность системы иного порядка…» [7, с. 43], и от того представления, что «семиотические поведение есть у всех, даже у беспозвоночных» [7, с. 36], с другой стороны отмечает, что «не понятно, однако, как и почему произошел скачок (или развитие) от закрытых систем коммуникации животных к открытым человека» [7, с. 43]. Т.е. снова — био-социальная сущность человека.
Эти примеры, по необходимости краткие, показывают на наш взгляд, что последовательное проведение биологизаторского монизма на сегодняшнем уровне развития науки и философии невозможно.
Более последовательной и крайне интересной выглядит предпринятая в последние годы В.А. Бажановым попытка связать когнитивные науки с деятельностным подходом. Изучая влияние культуры на формирование и функционирование мозга, автор знакомит отечественного читателя с множеством фактов, свидетельствующих о таком влиянии. Один из выводов, к которым приходит В.А. Бажанов, таков: «концепция, которая предполагает универсальность и единообразие строения человеческого мозга, должна быть пересмотрена», так как «социум и культура оказывают существенное влияние на формирование и функционирование мозга; именно они во многом предопределяют модусы активности тех или иных нейронных сетей» [3, с. 84]. Для философа-марксиста такое влияние вполне очевидно и связано с определяющей ролью орудийной (опосредствованной) деятельности в становлении человека, в том числе и становления его биологии. Однако деятельность в работах В.А. Бажанова понимается не как конкретное, несущее всеобщее содержание, а, в соответствии с подходом И.С. Алексеева, как некоторое абстрактное всеобщее, как субстанция, которая создает свои объекты. Объективный мир — это нечто вроде кантовской вещи в себе, а «деятельностный подход, таким образом, с точки зрения когнитивной активности вынуждает принять своего рода позицию деятельностного трансцендентализма» [2, с. 166], «сознание конструирует онтологию, при писывая миру те свойства, которые как бы заданы деятельностью и/или не противоречат самой возможности предстоящей деятельности» [2, с. 164]. При этом последовательное проведение этого, своего рода, «деятельностного монизма» приводит к полнейшему исчезновению субъекта, личности, индивидуальности, растворению его в различных деятельностях. И в этом аспекте данный вариант деятельностного подхода смыкается, совпадает с социальным конструкционизмом. В.А. Лекторский отмечает, что «некоторые наши философы считают, что именно в конструктивизме более адекватно выражено то, что остается ценным в деятельностном подходе» [5, с. 26]. В конструкционизме рассматривается именно социальное бытование психики («вопрос заключается не в том, существует ли разум „на самом деле“; конструкционизм избегает вопросов фундаментальной онтологии в пользу вопросов о прагматике интерпретации в обществах» [1, с. 65]), при этом сам подход — радикально антимонистический. Утверждается, что Я, личность, мышление, и сам субъект имеют реляционное строение и конструируются социально: «вместо того, чтобы определять человека относительно единого, унифицированного стержня — единственной последовательной позиции — мы можем считать его фундаментально многомерным» [1, с. 109]. В процессе исследования изучается нечто, созданное самим исследователем (т.е. изучаемый предмет создаётся, конструируется), а вовсе не реальность. Признавая историчность мышления как совокупность дискурсивных практик, конструкционизм не может раскрыть его сущность, происхождение и связь с не-дискурсивными практиками, с реальным субстратом общественной жизни.
Получается, что ни биологизаторский монизм, ни социально-конструктивистский релятивизм не позволяют понять и воссоздать действительную картину исторического развития мышления. Эти проблемы необходимо изучать с каких-то иных позиций, вскрывающих 1) специфику социальной формы движения материи; 2) деятельностную природу человека и 3) необходимую его связь с обществом.
Интересная попытка нащупать такие позиции, основания предпринималась в русле исторической психологии во Франции. В работах А. Валлона была показана пропасть между самыми «умными» навыками и действиями животных и человеческой мыслью. Это противоречие было конкретизировано И. Мейерсоном в его знаменитой статье «Введение в человека» [см. 6] («человек — это, на все более и более глубинном уровне, труд», «Человек — это его творения», «Человек — это продолжение творений и трансформация через творения»). Ж.П. Вернаном, П. Видаль-Накэ, Л. Февром, Р. Мандру и другими историками на обширном материале (от Античности и до нашего времени) были показаны особенности мышления и психики людей различных эпох и социальных групп. Можно утверждать, что французские исследователи внесли наибольший вклад в эмпирические исследования исторического развития мышления, однако теоретическим вопросам уделялось явно недостаточное внимание.
С теоретической стороны самым последовательным и близким нам является подход культурно-исторический, опирающийся на традиции классической философии. Такая традиция, совпадающая (тождественная) в определенных отношениях с теоретическим познанием вообще, утверждает, что теория должна строиться, последовательно развиваясь из единого, предельного основания. Для нас естественным является монизм материалистический — понимание материи как объективной реальности. Категория «материя» при этом является только лишь гносеологической и мировоззренческой. Содержание ее, собственно, исчерпывается признанием существования за пределами сознания некой реальности, а сама по себе она не обладает веществом чувственности, существуя только как процесс возникновения и уничтожения конечных, отдельных форм. Поскольку же отношения между субстанцией и атрибутом нельзя рассматривать как порождающие, между материей и ее атрибутами нет причинно-следственных отношений. Нужно иметь в виду и то, что теория всегда создается относительно субстанциональных элементов, теорию атрибута создать невозможно. Осмысление форм, видов духовности возможно только как теория такой формы материи, для которой эта духовность является атрибутом. Согласно данной точке зрения, теория исторического развития мышления неразрывно связана с материалистическим пониманием общества как формы движения материи.
В настоящее время такой подход развивается, в основном, представителями культурно-исторической школы психологии, опирающимися на работы Выготского — Лурии. Современные сторонники этого направления получили ряд практических и теоретических результатов, важных для анализа исторического развития мышления: показана роль опосредствования и артефактов в становлении человеческого мышления, введено и обосновано представление о гетерогенности мышления и т.д. Однако и здесь есть некоторые сложности. Главная из них — специфическое преломление идей советских ученых в западных «контекстах». В результате этого философская составляющая (материалистическое понимание истории и/или историческое понимание материи) оказалась, в ряде случаев, отброшена за ненадобностью, а, стало быть, и заменена иными основаниями.
В связи с вышеизложенным представляется, что рассмотрение всего круга вопросов и проблем, возникающих при анализе исторического развития мышления, будет продуктивным только с позиций монистической философии. А точнее — только при признании материи объективной реальностью, развивающейся по внутренне присущим, имманентным законам (следовательно — при необходимом признании тождества бытия и мышления). Именно на этом пути возможно создание теории развития общества, практик, видов деятельности (и — развития форм опосредствования), а значит — и исторического развития мышления.
Здесь мы предвидим и еще одно возражение: если наши предположения о развитии мышления верны, то как можно, имея его конкретно-исторически определенную форму, строить теорию развития мышления вообще? На наш взгляд, эта проблема решается следующим образом: нам нет нужды описывать и классифицировать все возможные схемы и способы мышления. За долгие годы своего развития философия, понимаемая в данном случае как мышление о мышлении, выработала систему категорий диалектической логики, позволяющей описать сложный развивающийся объект (в нашем случае — общество) в его всеобщих (конкретных) определениях, показать, как и каким образом возникает мышление, идеальное как атрибут материи (и, в основном, это уже сделано Ильенковым и его последоваелями) и проследить, как дальнейшее развитие общества (взятое как изменение, преобразование форм и способов деятельности и, значит, опосредствования) вызывает, «порождает» новые схемы и способы мышления.
Литераура
Герген К. Дж Социальная конструкция в контексте.— Харьков: изд-во «Гуманитарный центр», 2016.— 328 с.
Бажанов В.А. Деятельностный подход и современная когнитивная наука // Вопросы философии. 2017. № 9. С. 162–169.
Бажанов В.А. Социум и мозг: биокультурный со-конструктивизм // Вопросы философии. 2018. № 2. С. 77–87
Князева Е., Туробов А. Нознающее тело. Новые подходы в эпистемологии // Новый мир. 2002. №11.
Лекторский В.А. Деятельностный подход вчера и сегодня // Стиль мышления: проблема исторического единства научного знания. К 80-летию Владимира Петровича Зинченко.— М.: РОССПЭН, 2011. С. 15 — 27.
Мейерсон И. Введение в человека, 1951 [электронный ресурс https://www.sites. google.com/site/tolmachpersonalsite/home/perevody]
Черниговская Т.В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и сознание.— М.: Издательский Дом ЯСК, 2017.— 448 с.
Эверетт Д. Как начинался язык: История величайшего изобретения.— М.: Альпина нон-фикшн, 2019.— 424 с.
Эволюционная эпистемология: проблемы, перспективы.— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1996.— 194 с.
1.7. Дмитриевский Е. М. Бытие и мышление в диалектике и метафизике
Проблема бытия и мышления (сознания) возникла вместе с самой философией, как попытка осмыслить их единство и взаимосвязь. Гераклит пытался решить проблему бытия и мышления диалектически. Для него извечно существующий мир пронизывает Логос (всеобщий закон и упорядоченность мира), в виде живого и разумного огня. Логос присущ и человеческой душе. Человеческий субъективный логос имеет ту же природу, что и объективный Логос бытия, но люди часто живут собственным ограниченным логосом. Мудрость же состоит в том, чтобы субъективный логос соответствовал объективному Логосу. Парменид указал на путь истины, постулирующий тождество бытия с мышлением, но из мышления. Его идеи в дальнейшем развивал Зенон Элейский, противопоставляя истинность мыслимого бытия ложности чувственно данного. Бытие, это то, что «есть», оно вечно и неизменно. Небытие («не есть»), это ложный путь. Есть еще путь мнения — признание многообразия и подвижности мира. Но для Парменида это лишь «знаки», установленные заблуждающимся человечеством. Это путь «двухголовых» (очевидно, Гераклита). Если у Гераклита тождество бытия и мышления дано в реальном мире, природе, данной разуму и чувствам (он не отбрасывал чувственное познание), то у Парменида это тождество распространяется только на мыслимое бытие, поэтому у него происходит разделение человеческого познания на чувственное и интеллектуальное, как противостоящие друг другу. Гераклит диалектически связал бытие (реальную природу) с сознанием (Логос), а также индивидуальное сознание (логос) со всеобщим (Логос). Парменид также связал бытие с сознанием, но эта связь не диалектическая, поэтому произошел раскол бытия на мысленное (истинное) и чувственное (ложное), также как и индивидуальное сознание раскололось на мышление (истинное восприятие бытия) и чувствование (не истинное восприятие бытия, мнение).
Декарт (по сути, продолжая путь Парменида), разделил бытие и мышление на две независимые друг от друга субстанции. Тождество бытия и мышления возможно в Боге, который и соединяет эти субстанции в человеке посредством «мозговой железы». Поэтому и в познании человек сначала воспринимает идеи своей души (cogito) и Бога, и лишь затем, на этой основе, переходит к познанию природы (что не помешало Декарту достичь в области познания природы значительных успехов). Спиноза, в отличие от Декарта, считал мышление и протяжение двумя атрибутами единой субстанции. Поэтому они соединены не только в субстанции (необходимо), но и в модусе (хоть и случайным образом). При этом мышление индивида (модус) не тождественно напрямую атрибуту мышления, хоть и представляет собой его проявление (что также было характерно для Гераклита). Важным моментом философии Спинозы является принцип активности, деятельности (здесь также можно вспомнить «вражду» Гераклита). Чем более мы активны, тем больше имеем адекватных идей. У Декарта происходит раздвоение бытия на мышление (данное в интеллектуальном сознании) и протяжение (данное чувственно), поэтому и субъект раздваивается на душу (мышление) и тело (протяжение). Здесь недиалектическое тождество мыслящего бытия (субстанции) с сознанием человека, как и недиалектическое различие между чувственным субъектом (телом) и мышлением («душой»). У Спинозы же связь бытия и мышления диалектическая (атрибут субстанции), поэтому и связь сознания субъекта с атрибутом мышления также понимается в виде диалектического тождества.
Кант еще более радикально отделил бытие от мышления посредством «вещи-в-вебе». Он субъективировал понимание бытия (физической природы), утверждая, что даже законы природе дает человек. Тождество бытия и мышления Кант признает только в трансцендентальном (трансцендентальное единство апперцепции), при этом не отбрасывая «вещи-в-себе». В рамки субъектности (трансцендентальности) вошел не только разум, но и чувства, что привело к более адекватному пониманию не только человека, но и природы. Явления природы (чувственно данное) и ее законы (постигаемое рассуком) понимаются по существу взаимосвязанными друг с другом, как и с мышлением человека. Но Кант такую связь основал на трансцендентальном принципе (субъектности). Гегель признавал тождество бытия и мышления в рамках объективного идеализма. В основе тождества у Гегеля лежит саморазвитие духа (идеи), поэтому тождество дано в движении: от идеи через природу к духу. Здесь бытие (физическая природа) и сознание (идея, дух) также имеют, по сути, одну «природу», хоть и противоречивую (через «свое иное»). Поэтому и дух постигает себя в человеке через духовную деятельность, а материальная практика хоть и оценивается положительно, но находится в подчиненном положении. У Канта, как и у Гегеля, бытие и мышление (сознание), по сути, имеют одну «природу» (если не учитывать кантовскую «вещь-в-себе», что сделал Фихте), они взаимосвязаны, как и отношение индивидуального человеческого сознания к всеобщему (трансцендентальному единству или духу, соответственно). Но эта связь основывается на сознании, а не бытии (природе). Причем, у Гегеля эта связь полностью диалектична. И вопрос стоит в том, чтобы эту взаимосвязь «перевернуть», установить на фундаменте природы.
Марксизм понимал тождество бытия и мышления в материалистическом ключе. Не природа развивается как «свое иное» духа, а дух возникает как «свое иное» материи, достигшей уровня человечества. Сознание есть атрибут природы, и поэтому оно не похоже на сознание-модус отдельного человека. Ленин отмечал, что «вся материя обладает свойством, по существу родственным с ощущением, свойством отражения» [2, с. 90]. Но более правильным кажется указать на взаимодействие. Ведь сознание человека, это, во-первых, всегда акт действия, и, во-вторых, предметный акт (интенциональность). Можно попытаться выявить следующие ступени атрибута сознания в природе: в неорганической природе взаимодействие есть отражение; в органической природе (животные) взаимодействие идет по типу поисково-ориентировочной деятельности; у человека взаимодействие есть творческий акт. В неорганической природе — «естественное состояние» как взаимодействие нескольких объектов. В органической природе (животные) — индивидуальная активность в «неестественной» (новой) ситуации, с учетом рефлексов и инстинктов, определяемых «естественным состоянием» вида, а также видовым и индивидуальным развитием. У человека — общественная форма творческой активности, свободный и целенаправленный выход за рамки «естественного», но с учетом двух низших ступеней.
Сознание как атрибут субстанции, это качественно развивающееся взаимодействие. Всеобщее взаимодействие элементов природы как целого, бесконечно разнообразное и количественно, и качественно. Сознание человечества — общественное взаимодействие с природой путем ее творческого преобразования. Сознание человека — активное отражение сознания человечества через артефакты. Диалектика природы есть диалектика взаимодействия конкретных природных объектов и их систем, учитывая внутренне-противоречивое (внутреннее взаимодействие) развитие каждого объекта. Именно объекты определяют характер взаимодействия, но и взаимодействие, особенно на высших уровнях развития, влияет на объекты природы. Отсюда и различие между объективной и субъективной диалектикой. Диалектика человеческого сознания (мышления), это такая же диалектика, как и любого другого взаимодействия (именно как диалектика), но качественно отличная от других форм взаимодействия. А именно тем, что включает их в себя в снятом виде, как низшие ступени. В этом смысле оно содержит в себе идеально всю диалектику. Как писал Э.В. Ильенков: «Логика марксизма-ленинизма отличается именно тем, что все «логические» <…> формы и законы нашего мышления понимаются здесь как отраженные и отражаемые историческим процессом развития науки, техники и т.д. объективно-всеобщие формы и законы развития действительности вне мышления, как объективно-универсальные формы и законы изменения любого естественно-природного и общественно-исторического материала, выявленные предметно-практической деятельностью общественного человека, осознанные им и тем самым превращенные в универсальные (т.е. «логические») формы и законы его собственной сознательной деятельности, как реально-предметной, так и духовно-теоретической» [1].
Современная аналитическая философия сознания имеет широкий спектр воззрений на отношение бытие — сознание, которое в данной интерпретации предстает в виде «психофизической проблемы»: сознание — тело (мозг). Здесь представлены позиции от радикального элиминативного материализма, отрицающего сознательное (ментальное) как таковое, до дуализма в варианте панпсихизма. Радикальный элиминативный материализм (бихевиоризм и т.п.) представляет собой полное отрицание наличия какого-либо ментального (увязывая его исключительно с нашим поведением, языком и т.п.), акцентируя внимание только на физическом. Панпсихизм, как одно из проявлений дуализма, верно отражает наличие в материи неких свойств, подобных сознанию. Но он делает это недиалектически, не учитывая качественного различия между уровнями развития природы. Поэтому, например, у Д. Чалмерса получается, что любой более-менее сложный объект обладает сознанием (в форме квалиа, или протоквалиа). Диалектика признает отличие сознания от материи (и даже их противоположность), но не их абстрактное различие (как у панпсихистов), или абстрактное тождество (как у элиминативистов). Сознание здесь выступает как «свое иное» материи, данное в социальной производственной практике. Сознание, это не структура или вещество материи, а форма ее взаимодействия, различно проявляющая себя на всех уровнях развития материи. На уровне человека материя способна к диалектическому самоотрицанию, творческому акту, идеальному.
Необходимо отметить, что под сознанием в аналитической философии нельзя понимать только мышление. Как писал философ А.А. Веретенников: «philosophy of mind — это дисциплина, исследующая весь комплекс психических способностей, как сознательных, так и бессознательных, в рамках которой дается также объяснение каузального отношения между «психикой» и ее «носителем», будь то «мозг», «тело» или даже «компьютер”» [5, с. 97]. Важным моментом понимания сознания здесь является так называемый принцип каузальной замкнутости физического, который не допускает «разрывов», вызванных чем-то нефизическим. Из этого принципа философы и пытаются понять сознание. В подавляющем большинстве случаев избегание «разрыва» заключается в попытке редуцировать сознание (ментальное) к физическому.
В аналитической философии сознания есть своя «теория тождества» (У. Плейс, Д. Дэвидсон и др.) бытия и мышления, где сознание отождествляется с мозгом. Данная позиция называется «материализмом». Как утверждает философ С. Прист: «Материалист не отрицает того, что мы мыслим. Материалист говорит, что наши мысли имеют физический характер. Та полноценная ментальная жизнь, которая присуща каждому из нас, представляет собой, в соответствии с большинством современных вариантов материализма, серию физических событий, то есть ряд электрохимических процессов в мозге. Материя способна мыслить» [3, с. 135] Но при этом «материалисты» не считали связь сознание — мозг необходимой. Это скорее случайное явление. В данном случае «материалисты» переходят на позиции плюрализма в понимании сознания. Для них сознание есть только модус бытия, но не атрибут. По мнению А.А. Веретенникова в «теории тождества» можно выявить две разновидности «материализма» (физикализма): «физикализм конкретного случая», когда событие обладает и ментальным, и физическим свойством (нередуктивный физикализм) и «физикализм типа», когда ментальное и есть физическое (редуктивный физикализм, радикальный элиминативизм). Рассматриваемые философы относятся к первому типу (нередуктивный физикализм). Для них сознание случайно в отношении мозга потому, что, при всем их тождестве, они не одно и то же. Как отмечал Дж. Смарт «физикалист не будет отрицать «эмерджентность» в невинном смысле, когда мы говорим, что устройство не есть куча его частей». [4] При этом физикалист отрицает «сильную эмерджентность», допуская возможность объяснения целого исходя из его отдельных частей (сознание редуцируется к мозгу).
По утверждению У. Плейса, ментальные процессы не есть сами физиологические процессы, поскольку ощущение боли, как таковое, ментально, не есть это вот непосредственное протекание физиологического процесса, хотя оно есть процесс в мозге (когда мы ощущаем боль, мы ощущаем именно боль, а не наш мозг, хоть боль и есть только определенное состояние нервных волокон мозга). Сознание не есть только процесс в мозге с физиологической точки зрения, хоть при этом оно и осуществляется мозгом. Ментальное, тем не менее, не является самостоятельной сущностью («феноменологическое заблуждение» по У. Плейсу). В рамках «теории тождества» Д. Дэвидсон допускает даже существование свободы воли. Он считает ментальные события аномальными с точки зрения причинной взаимосвязи событий (каузальной замкнутости физического). Его позиция «аномального монизма» говорит о том, что ментальные и физические события тождественны, но при этом мы можем предсказать только физические события, которые причинно связаны, тогда как ментальные события причинно не связаны и непредсказуемы. Есть психофизическое тождество, но в нем нет закономерности: самое точное описание физических процессов в мозге не дает возможности полностью предсказать вызванное ими ментальное событие. Поэтому и возможна свобода воли. Д. Дэвидсон был противником бихевиоризма, как раз объясняющего ментальное как поведение, т.е. закономерно. При этом он занимал позицию ментального холизма, где ментальные события взаимосвязаны, определяют друг друга неявным для нас образом.
Признавая не только тождество ментального и физического, но и их различие, физикалисты не могли сказать ничего определенного относительно их связи. Тем более, что они отрицали эпифеноменализм («феноменологическое заблуждение» У. Плейса). Если физикалисты и признают отличие сознания от тела, то скорее на семантическом уровне, когда один и тот же референт может иметь различное смысловое значение (веник — набор прутьев, связанных веревкой).
Еще одной концепцией сознания в аналитической философии является функционализм (Х. Патнэм, Д. Льюис и др.). «Функционализм — это теория, согласно которой находиться в ментальном состоянии значит находиться в функциональном состоянии. Функциональное состояние — это состояние, которое можно индивидуализировать или выделить благодаря его каузальным отношениям; поэтому ментальное состояние обусловливается конкретной разновидностью причины, скажем, сенсорными данными на входе (sensory input), и имеет конкретную разновидность следствия, скажем, некоторое поведение на выходе (behavioural output). Кроме того, ментальные состояния также каузально связаны друг с другом» [3, с. 171]. Функционально, ментальное есть следствие предшествующих состояний и причина новых, при этом нет никакой необходимости, чтобы это были только физические состояния. Но посредническая функция ментального по отношению к физическому на входе и выходе уравнивает их в «природе» (на физическое может оказывать действие только физическое), поэтому многие функционалисты являются «материалистами». Функционалист, в отличие от представителя «теории тождества», не отождествляет сознательные процессы с физиологией именно мозга, поскольку допускает существование других типов носителей (полупроводники и т.п.). Также функционализм несовместим с логическим бихевиоризмом, т.к. не отождествляет непосредственно ментальное и поведение, но выстраивает между ними причинно-следственную связь. Функционалист утверждает, что сознание, это не поведение, но причина поведения. Х. Патнэм понимал функционализм по типу машины Тьюринга, но с вероятностью перехода из одного состояния в другое не равном единице (вероятностный автомат): есть входные данные (сенсорные), выходные данные (движение) и инструкция (вероятность перехода из одного состояния в другое). Мы можем знать только состояния входа и выхода, но не внутреннего перехода от входа к выходу. При этом мы можем иметь инструкцию, отображающую вероятности переходов из одного состояния в другое. Вероятностным автоматом можно считать любой более-менее сложный объект. Функциональная организация системы, это набор ее функциональных состояний.
Д. Льюис пытался соединить теорию тождества и функционализм в мысленных экспериментах с обычной болью, «безумной болью» (боль вызывается и проявляется на выходе не так, как обычная боль, но по нормальной человеческой нервной системе), «марсианской болью» (боль вызывается и проявляется как обычная, но у марсианина не нервная, а гидравлическая система, проводящая боль). Пример «безумной боли» показывает, что боль не зависит от определенных причинно-следственных связей. Пример «марсианской боли» показывает, что боль не зависит от определенного предмета ее воплощения. Соединение теории тождества и функционализма видится Д. Льюису в том, что ментальное определяется функционально, но реализуется физически (для человека в тех же нервных С-волокнах). По мнению Д. Армстронга, ментальное состояние «приспособлено» для того, чтобы быть следствием причин (и других ментальных состояний), как и причиной следствий (и других метальных состояний). Определенное ментальное состояние выполняет определенную каузальную роль.
Дж. Серл выдвигал против функционализма аргумент «Китайской комнаты», когда внешне «осознанное» функционирование какого-либо «субъекта» может быть совершенно не осмысленно для него самого (физикализм). С другой стороны, функционализм практически перешел на позиции дуализма декартовского типа, поскольку физическое и ментальное, «душа» и тело, понимаются не только как различные «субстанции», но и находящиеся в причинно-следственных отношениях. Осознавая важность функциональной интерпретации сознания, понимание его как форм деятельности, функционалисты не уделяют должного внимания общественной практике, которая и порождает формы деятельности сознания.
И физикалисты, и функционалисты видели отличие ментального от физического, но так и не смогли его понять. Если представители «теории тождества», отвергая эпифеноменализм, склонялись к элиминативистскому (вульгарному) материализму и пониманию сознания только как модуса, то функционалисты приближались к дуализму, пониманию сознания как субстанции. Ни те, ни другие не смогли понять сознание как атрибут единой субстанции, реализующей себя в модусах посредством общественной практики.
Литература
Ильенков Э.В. О так называемой «специфике мышления» (к вопросу о предмете диалектической логики) // Читая Ильенкова... URL = <http://caute.tk/ ilyenkov/texts/specog.html>
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Критич. заметки об одной реакционной философии. М.: Политиздат, 1969.— 392 с.
Прист С. Теории сознания. Перевод с англ. Грязнова А. Ф.— М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000.— 288 с.
Смарт Д. Теория тождества сознания и мозга // Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей / под ред. Д.Б. Волкова, В.В. Васильева, М.О. Кедровой. URL = http://philosophy.ru/mind-brain_identity/.
Философия сознания: классика и современность: Вторые Грязновские чтения.— М.: Издатель Савин С.А., 2007.— 480 с.
1.8. Иващук О. Ф. Диалектика идеального и методология социального исследования
В идеальном Ильенкова прежде всего замечают вообще социальное качество, общий эфир, в котором свой относительный вес получают все вещи. Это понимание позволяет зафиксировать, например, смену социального качества обычных вещей, как это делает в своем анализе А. Левант [7, pp. 59–74], который описал, как в 90е годы октябрятские значки из символов гражданской инициации превращались в товар. Но в принципе это можно сделать и традиционным для социальной антропологии семиотическим методом, никакой диалектики для этого не требуется.
Все меняется, если отрефлектировать, как Ильенков понимает деривацию идеального. Трактовка (1) сближает его подход со спинозовским (идеальное не является достоянием отдельного индивида), но в ней мышление (идеальное) остается достоянием квази-индивида -- Субстанции, которой оно присуще вроде бы с необходимостью, но неизвестно, в силу чего. И хотя это прорыв, но «этого мало… с необходимостью мыслит только природа, достигшая стадии общественно производящего свою жизнь человека» [1, с. 54] Человек, общественно производящий и воспроизводящий свою жизнь,— это не индивид, который повторяет формы вещей: это множество индивидов, которые становятся индивидами внутри той общественной связи, которая делает их людьми — в общественном производстве, чья социальная форма субъект-субъектного отношения образуется противостоянием непосредственного производителя и организатора производства [5, с. 43–44]. Идеальное здесь возникает с необходимостью именно потому, что производство представляет собой извлечение прибавочного труда — т.е. труда, направленного непосредственно не на удовлетворение своей органической нужды, но на удовлетворение нужд всех других людей. Это всеобщее опосредствование жизненного процесса и есть идеальное. Вот почему, отвлекаясь от ансамблевой природы человеческого качества, мы не сможем смоделировать ни возникновения, ни функционирования идеального, «тело меньшего масштаба и «структурной сложности» мыслить не будет» [1, с. 54]
Отсюда методологически важное следствие: неоднородность идеального, которое «многообразно расчленяется внутри себя на разные и даже противоположные сферы и моменты»[3, с. 152], нацеливая на исследование противонаправленных социальных сил, которые за ними стоят. Если устойчивость социального качества предполагает воспроизводимое согласованное действие множества индивидов в определенных формах производства, то момент постоянства этого процесса закрепляет формы доступа к разным моментам производства в виде социальных институтов, институты же сохраняют валидность и определенность, лишь пока принимаются в качестве «естественных» индивидами в их телесных практиках. В этом признании, не в прямом насилии, состоит механизм их принудительности. Тогда анализ идеального позволяет сделать предсказуемой логику поведения социальных субъектов. Он в поле исходного противоречия производственного отношения позволяет вычленить механизмы формирования и внедрения в телесные практики таких мыслительных форм, которые позволяют закрепить господствующий порядок принуждения либо оспорить его, требуя ответа на вопрос: «в силу каких причин большинство людей, потенциально усвоив все высшие формы развития «духа» …играют в процессе развития этого «духа» лишь незавидную роль пассивного материала, через насильственное формирование которого реализует себя мощь и сила (Macht) других индивидов —…тех баловней судьбы, которым посчастливилось попасть в острие, в фокус развития «всеобщего духа»?» [4, с. 379].
Среди этих механизмов особое значение имеет система образования. Как выявляется ее внутренняя неоднородность (что она не только несет знания в массы, но приводит к легитимному самоисключению тех, из кого можно было бы при надлежащем подходе сотворить гениев), можно показать на примере академической траектории самого Ильенкова. Своей успешной работой со слепоглухонемыми Ильенков недвусмысленно подорвал идеологию дара в формировании человеческих способностей и тем самым — всю очень дорогостоящую коллективную работу по формированию идеального, направленную на исключение из зоны видимости механизмов социальной селекции, которые функционируют, лишь пока невидимы. Поэтому «выдающееся достижение советской науки», вместо того чтобы стать предметом гордости, подвергалось поношению [2, с. 381, 397]. не только при жизни автора, но и сегодня остается предметом официального непризнания [6]. Мы наблюдаем попытки сил, заинтересованных в закреплении господства, переформатировать идеальное так, чтобы завернуться снова в сорванные Ильенковым фиговые листки.
Литература
Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М.: Политиздат, 1974.— 271. с. 54.
Ильенков Э. Идеальное и реальность. 1960–1979 / Авт.-сост. Е. Иллеш.—М: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2018.—528 с.)
Ильенков Э.В. Психика и мозг. // Вопросы философии, 1968, №11. с. 152
Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат. 1991 — 464с. С. 379
Маркс К. Капитал. // Маркс К.Энгельс Ф. Соч. 2е изд. т. 24, с. 43–44
Сергеев А. Учителя работают на «неоптимизированный контингент»// Вести образования. 16 января 2019. Режим доступа: https://vogazeta.ru/)
Levant A. «Soviet pins: souvenirs as spoils in the triumphal procession» \ STUDIA UBB SOCIOLOGIA, LVI, 2, 2011, pp. 59–74
1.9. Королёв В. А. Монизм, диалектика и противоречие
В философской среде при обсуждении научных проблем, так или иначе касающихся мироздания, непременно затрагивается такая категория, как монизм. Но именно монизм в философских трудах Бенедикта Спинозы занимает ключевое место на пьедестале его научных открытий и гипотез. На непреходящее значение монистической теории Спинозы в истории философии неоднократно указывал Э.В. Ильенков, как бы это не показалось некоторым представителям философской науки странным. Сделанное Спинозой фундаментальное открытие о единственной субстанции, не нуждалось в этом указании. Но хотелось бы верить, что после прочтения статей Ильенкова о философии Спинозы и о самом философе, мало у кого возникнет желание усматривать в его философских текстах даже намеки на гилозоизм, хотя до Ильенкова приписывание Спинозе «учения об универсальной одушевленности материи» было хрестоматийной обыденностью.
Несмотря на то, что Б. Спиноза навсегда оставил свой след в истории научных открытий, подавляющему большинству человечества имя философа неизвестно. Не говоря уже о самих его трудах, к которым мало у кого возникает интерес с точки зрении именно их практической значимости в повседневной жизни, как всех живущих на Земле людей, так и каждого человека в отдельности. И в этом неведении нет ничего удивительного. Здесь, скорее всего, повод поразмыслить об объективных причинах такого невнимания к теоретическому наследию философа.
Что касается отношения людей к теориям с точки зрения их практической значимости, то многим живущим на планете Земля людям не известны ни истории большинства научных открытий, ни имена тех, кто открывал ранее невиданные, но очень, как это часто оказывалось, полезные свойства материального мира. И, при этом, никого не надо было принуждать пользоваться предметами культуры, орудиями труда, как и не надо было долго объяснять их полезные свойства. Порой достаточно однажды продемонстрировать то или иное орудие труда или предмет искусства и цепочки из них во всём их многообразии паутиной покрывали всю планету. Более того, на утилитарное использование достижений материальной культуры никак не влияло отсутствие знаний об абсолютных истинах, фундаментальных теориях, понятиях и категориях.
Можно ли таким же образом, т.е. утилитарно, относиться к теориям, которые отражают всеобщие законы мироздания? Нельзя(!), и именно об этом пойдет дальше речь.
С большим сожалением следует признать, что люди в подавляющем большинстве случаев личные повседневные неудачи при попытках воплотить в реальность свои субъективные представления о действительности никак не связывают и не соотносят с собственным пренебрежительным отношением к научным теориям, понятиям, категориям, логическим законам и т.д. Но именно пренебрежительное отношение даже к формальной логике (инструментарию членораздельной речи), не говоря уже о пренебрежении к категориям и законам материалистической диалектики, диалектической логике, достижения ближайших и случайных целей для многих в будущем неизбежно оборачивались, и всегда будут оборачиваться, трагедиями и драмами. Незадачливым «счастливцам» удачных мгновений жизни ничего не остается, как тешить себя лишь воспоминаниями о временных победах и успехах, которые были в уходящей за горизонт собственной жизни, так и не сделавших по-человечески счастливыми ни их самих, ни кого-либо другого.
А нужно ли знать о сущности человеческого счастья, чтобы быть счастливым? С большой вероятностью можно предположить, что мало кого волнует, было ли то или иное мгновение по-настоящему счастливым или оно было лишь иллюзией счастья. Так или иначе, каждый человек хоть раз в жизни на какое-то короткое время чувствовал себя счастливым, но никто до сих пор не знает, как остановить это прекрасное мгновение, пусть даже и иллюзорное. Без чего невозможно подлинно человеческое счастье?
Счастье и чувство прекрасного не отделимы друг от друга, поэтому без развития способности видеть прекрасное, подлинное счастье невозможно. Способность видеть прекрасное, не есть дар природы, а сложная работа человеческой души. Но многие ли понимали, что́ есть такое прекрасное, когда они находились в состоянии, как им казалось, счастья? И нужно ли о нём (прекрасном) что-то знать?
Если прекрасное становится предметом неумелых (не умных) размышлений, то само состояние счастья начинает испаряться, либо обрастать ненужными излишествами, превращаясь в нечто безобразное. Какое уж тут счастье, если размыты контуры идеального образа, которое и есть свидетельство достижения цели при движении к счастью.
Счастье и прекрасное подавляющему большинству людей представляются как чисто субъективные переживания личных жизненных обстоятельств. В действительности так оно и есть. Казалось бы, что этого достаточно, чтобы потребность в этих переживаниях вполне устраивало человека. Но человек не может не делиться этими ощущениями с другими людьми. Однако, делясь своими положительными эмоциями, вызванными чувством счастья и прекрасного, человек нередко сопровождает требованием к окружающим, либо безоговорочно принимать их, как они есть, либо не вторгаться в них и не пытаться корректировать их содержание, из-за чего, по мнению счастливцев, происходит крушение надежды на сохранение в своей индивидуальной памяти счастливых переживаний. Но поскольку у каждого свои субъективные представления об идеале, и, соответственно, различные представления о способах его достижения, соответственно существуют и разные критерии собственного основания для идеала. У одних превалирует гедонизм, у других аскетизм, у третьих альтруизм, у четвертых стоицизм и т.д. и т.п. Но если идеал один, как и истина одна, то и способы достижения и того и другого должны быть едиными. И все же логично предположить, что достигать цель, как и постигать способы её достижения, возможно лишь при наличии развитых универсальных мыслительных способностей, если сама цель отождествляется с некоей целостностью. Совершенно не случайно цель и целое имеют один корень. Целеполагание без целополагания либо бесплодно, либо ущербно.
На протяжении всей истории развития общества, начиная с момента появления различий в формах деятельности, а, значит, и появления непреодолимых различий между всеми членами общества, какие только не возникали идеологические «гребенки», которыми одна часть общества пыталась причесть другую часть общества под единые стандарты мышления о бытии. Этими «гребенками» первоначально были ритуалы и традиции. Ими были также обычное, частное и публичное право, языческие и монотеистические религии, этические учения, и, наконец, различные философские системы. Но именно философия всегда находилась в поисках того самого набора универсальных инструментов мышления, посредством которого можно налаживать связь сознания, всегда красующееся в его неизменно субъективных одеяниях, с объективным миром, с миром, каковым он есть независимо от сознания каждого и даже всех. Удавалось ли ей (философии) находить единственную цепочку, которая реально связывала бы субъективность с объективностью? Удавалось! Но человечество упорно отказывалось, и до сих пор отказывается, брать её в свои руки. Почему отказывается, и что это за цепочка?
Стихийно каждому человеческому индивиду, эта цепочка (цепь) в виде, рассудочных форм мышления, интуиции и, наконец, просто в результате внезапных озарений, указывала способы решения ближайших проблем, в противном случае развитие общества, было бы вообще невозможно. Но чем согрешило современное человечество, что оно до сих пор вынуждено подчиняться стихии случайностей?
Современная общественная идеология, в которой стержнем стали либерально-торгашеские ценности, подмявшие под себя все остальные неоспоримые блага, с завидным упорством и изощрёнными способами постоянно доказывает, что каждый человек является уникальным и неповторимым существом. И за эту эксклюзивность он де должен бороться ежечасно, дабы его не обезличили, и в таком качестве он должен себя постоянно удерживать, чтобы не быть раздавленным (расплющенным под ноль) тисками необходимости и не затеряться между такими же индивидами, как и он сам. При этом он сам периодически вынужден (или его принуждают объективные обстоятельства) постоянно сверкать мишурой и сопровождать полифоническим шумом свою независимость, автономность, атомарность, ведь он же индивид! А и действительно, зачем стремиться быть гением, который, по словам Гёте, и есть «интеллект, зажатый в тиски Необходимости» [1, с. 222], если многим не скучно забавляться с собственным многообразием иллюзий о себе и о мире.
Тогда в чём сложность самовыражения и обнаружения себя в качестве активного субъекта в хаосе случайностей? Доказывать свою уникальность и неповторимость можно лишь посредством творения чего-то нового, т.е. того предмета культуры, которого еще нет ни у кого. А поскольку каждый вольно или невольно является творцом, прежде всего, самого себя, как шедевра культуры, творцом своей собственной неповторимости, он не может не вглядываться в зеркало мнений о себе со стороны окружающих его людей. Ведь никто не станет творить невиданный до сего времени предмет культуры, если заведомо будет известно, что он никем не будет востребован на протяжении длительного времени. В этом случае индивид через сотворенную им вещь актуально не обнаруживается для других, а значит, ему невозможно будет обнаружить своё собственное существование и для самого себя, как существа, способного разумно мыслить.
Чтобы наверняка знать, что творимый предмет будет востребован, нужно еще до начала его делания потереться в обществе, понять, кому и почему этот предмет будет нужен. Во-первых, это долго и сложно. Индивиду, наполненному лишь иллюзиями о значимости своих достоинств, трудно самовыражаться в среде таких же, как он. Во-вторых, кроме иллюзий о своих достоинствах, каждый, всё же, достоверно знает, что он существует не только как набор иллюзий о себе и о мире, но он еще есть и как реальное мыслящее (хорошо или плохо, вопрос другой) существо! Даже любая иллюзия есть не что иное, как превращенная форма той реальности, по поводу которой возникла иллюзия.
Субъективность потому и субъективность, что каждый находит в себе что-то такое, чего нет больше ни у кого. Но это что-то, обнаруженное в себе, по мнению его обладателя, может быть пропуском в ту или иную социальную среду. Поэтому-то об этих находках хочется уведомить других, и, тем самым, заявить, что он уже не каждый я, а есть как некое неповторимое существо со своим набором неповторимо сочетающихся в нём качеств и даже является обладателем всеми задатками, которые необходимы для формирования и реализации универсальных способностей. Действительно, порой достаточно проявиться хотя бы одной творческой способности, чтобы появилось потребность в абсолютизации этой способности. Сколько людей нежится в однажды сверкнувшем изобретении, паразитируя на нём всю оставшуюся жизнь, набивая оскомину у окружающих людей пиарами своей далеко не фундаментальной (общезначимой) эксклюзивности.
Профильные (профессиональные навыки) способности всегда были востребованы лишь в ограниченном социальном пространстве, в ограниченных по кругу лиц отношениях, и при строго определенных способах взаимодействия, тогда как универсальность в том и заключается, что каждое материальное образование имеет такой атрибут, как протяженность, т.е. как нечто сущее всегда и везде. И каждый человек здесь не является исключением. Разница лишь в том, что он, в отличие от всех других материальных тел, способен, так или иначе, осознавать различные состояния своего тела, и при определенных обстоятельствах самостоятельно руководить им. В этом смысле, каждый человеческий индивид уже есть философ ранга, равного Р.Декарту, провозгласившего новую эру в философии одной только фразой: «Cogito ergo sum» — «Я мыслю, следовательно,— существую».
В чём новизна декартовского высказывания, ставшего философским брендом, если задолго до Декарта и после него люди именно так и обнаруживали существование собственной души (собственного я), делая предметом своих размышлений свои мысли и даже собственные ощущения своего тела, но только с той разницей, что делали они это не всегда критически. А вот в этой-то разнице (в отсутствии критичности), как необходимого признака разумности, и вся суть.
У Декарта знаменитая фраза означала начало бунта разума против любого догматизма и в особенности религиозного. Фраза «я мыслю» всегда пугала и будет пугать всякого ортодокса, любого обскуранта, идеолога частной собственности, политического и религиозного деятеля. Ведь именно такое утверждение обязывало Рене Декарта рассуждать об истинных методах познания (самообнаружения субъекта), не полагаясь больше на уже существующие мнения, в критическом отношении к которым он решил самостоятельно «стать своим руководителем» [2, с. 259]. Поэтому Декарта и причисляют к первому методологу и систематизатору научного, т.е. истинного мышления и познания.
Человечество за весь путь своего развития ни разу ничего само не придумало, оно всё подглядело в природе, что в философии стало обозначаться «хитростью мирового разума» (Гегель). И эта способность человечества уметь подглядеть всё у Природы, сегодня для науки стало бесспорным фактом. А кто берет на себя смелость это оспаривать, тот, тем самым, объявляет, что его «творчество» лежит за гранями истины, следовательно, и за пределами науки. Но творя предметы культуры и всё культурное пространство, человек создавал то, что в самой по себе природе не возникло бы без его предметно-преобразующей деятельности. И, если по религиозным учениям Бог сотворил всё, то получается, что он уже больше «ничего не может творить» (Спиноза). Всё — это всё!
Но если творить может человек, и в своих потенциальных возможностях он ничем не ограничен, то получается, что он и есть то́ самое совершенное существо, которое способно уподобиться Богу. Поэтому для Спинозы Бог и есть истина (т.е. Бог, как вся Природа со всеми её атрибутами), на которую (Природу) человек и должен молиться. А поскольку истина одна, то места для второго Бога наряду с Природой не остается. Здесь лишь возникает возможность дать два названия одному и тому же — Природа=Бог, Бог=Природа. Именно этим можно объяснить глубокую мысль Ф. Энгельса о бессмысленности проблемы первичности и вторичности духа, сознания, мышления и материи. Споры в философии о первичности одного и вторичности другого имеет смысл только в рамках теории познания, гносеологии. Вся бесконечная Природа своим атрибутом имеет мышление, а оно также вечно и бесконечно в своём многообразии, как и материя, поэтому мышление до и вне материи — невозможно. Вполне понятно, почему религия так ненавидит Б. Спинозу и, соответственно, материалистическую диалектику, к которой неизбежно подвели учения Декарта, Спинозы, Фихте, Гегеля, Фейербаха и т.д.
Почему истина одна? Истина от слова есть. И если есть какое-то материальное образование, то при всём желании никто и никогда не способен создать абсолютно такое же материальное образование. И сколько бы ни упражнялись в этом радетели «искусственного интеллекта», их старания будут обречены на провал изначально. Копия всегда останется копией, как бы она не была совершенна и всегда будет менее совершенна оригинала.
Да, но человеческий индивид все же ограничен в пространстве и во времени, и уже только поэтому не может претендовать на вездесущее всемогущество. Это вроде бы и так, но мышление, коим обладает пусть даже и не столь развитое существо, как земной человек, является, согласно учению Спинозы, атрибутом (неотъемлемым свойством) субстанции (материи). И, коль уж Природа (материя) бесконечна, то кто может запретить полагать, что любое материальное образование (протяженность) является центром бесконечной Природы? Неделимый атом бесконечно делим. Или есть желающие указать для него пределы его делимости в микромире? Мы, как живые существа, состоим из атомов, следовательно, как нечто сущее в бездну микромира простирается бесконечность материального субстрата, из которого состоит наше тело.
Теперь переведем наше внимание на бездну макромира. Скопление звезд образует галактику, скопление галактик образует метагалактику, скопление метагалактик образует квазигалактику и т.д. до бесконечности. Кто-то возьмет на себя ответственность указать границы, за пределами которой существует ничто? А если оно все же существует, то оно должно быть бесконечным и одновременно должно быть границами материальной субстанции, в которой тоже есть место для ничто, хотя и относительного, а не абсолютного. Но в понятии Вселенная уже скрыто противоречие, ибо оно содержит в себе ограничение в виде понятия «всё». При таком раскладе нетрудно центром вселенной назначить любое материальное тело.
Разум потенциально способен беспрерывно охватывать бесконечность макромира вместе с так называемым ничто, и бесконечность микромира. В этих двух «дурных», по словам Гегеля, бесконечностях каждый вполне на законных основаниях может полагать себя центром Вселенной. Ведь только в бесконечности центром может мыслиться любая точка, любое материальное образование, обладающее, при этом, свойством (признаком) некоей целостности. Вот и не ищите вне себя целостность (Бога). Так что наиглупейшее допущение за пределами материальной субстанции бесконечного ничто (абсолютной пустоты), ничего не меняет ни в понятии того, что можно мыслить как нечто целое, ни в понятии любого материального образования в качестве центра Вселенной. А если учесть, согласно учению Спинозы, что мыслит вся Природа (попробуйте у неё отнять это свойство, коль уж мышление является атрибутом всей Природы), то и оконечивать себя частными интересами, частной деятельностью, полагая, что здесь достигается некая целостность, бессмысленно и бесполезно.
В таком случае — что́ есть целое, если целостность предполагает границы? В этих рассуждениях каждый конкретный человек, если он помыслил себя центром мироздания, уж точно должен быть неким целостным и единым образованием. Тогда в чём оно для него может выражаться?
Целое — есть функция, в том числе и для человека. Но для человека функцией может быть только его способность мыслить в согласии с законами и Природы и Общества, т.е. всей Природы, всего Общества. Но, поскольку каждый конкретный человек, как и всё человечество, ограничены в пространстве и во времени, то требуется экстраполировать мышление каждого и всех сразу за пределы наличного бытия, как самой тощей (бедной), по справедливому замечанию Гегеля, категории. А это возможно лишь при присвоении такой способности, как мыслить диалектически, при присвоении всего арсенала инструментов диалектической логики, в том числе и при формировании исторического сознания.
А если еще учесть, что человек не является частью Природы, точнее он настолько её часть, насколько он её (Природу) сделал частью своего культурного (неорганического) тела, то ему ничего не остается, как через это постоянное делание (преобразование одного в другое) познавать диалектику взаимодействия части и целого, конечного и бесконечного. Диалектико-материалистическое мышление с точки зрения методологии научного познания истины является предметом исследования философии. Вне присвоения человечеством диалектико-материалистического мышления, как единственного способа разумного бытия, человечество не выживет, оно себя уничтожит как негодное (несовершенное) образование, поскольку оно не спешит стать совершенным (свершившимся, другими словами) образованием, разумным субъектом.
Когда постоянно и повсеместно слышишь, что философия — это суждения ни о чём, то возникает чувство, что человечество так и не поняло, что оно приобрело в лице теории познания, коим философия всегда занималась. Поэтому Ленин и заключил в своих философских тетрадях буквально следующее: «Если Магх не оставил «Логики» (с большой буквы), то он оставил логику «Капитала"…. В «Капитале» применена к одной науке логика, диалектика и теория познания, не надо 3-х слов: это одно и то же». [3, с. 301]
Надо бы наконец-то уяснить всем тем, кто ратует за плюрализм в философии, а значит и за плюрализм в других сферах общественного сознания, что он в них, мягкое говоря, неуместен. Трудно себе представить более строгую науку, которая требовала бы самого жесткого подчинения выработанным философией понятиям, категориям, законам, хотя бы только на том основании, что они все есть, в сущности, субъективная диалектика, присвоенная человечеством из объективной диалектики, присущей всей Природе. Пренебрежение ими, вольное обращение с ними, равносильно побегу от, и из разумной действительности, равносильно отказу от будущего. И это не призыв к тому, чтобы последним утверждениям поверить, это призыв понять объективную логику становления человеческой субъектности в разумной форме.
Литература
Ильенков Э.В. Спиноза (материалы к книге). Цитата взята из ΙΙ раздела книги «Э.В. Ильенков. Личность и творчество». Спиноза (материалы к книге).—М.: 1999 г. с. 222.
Декарт Р. Рассуждения о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках. Соч. в 2-х томах. Т. 1 — М.: Мысль, 1989 г. с. 259.
Ленин В.И. ПСС. т. 29. Философские тетради.— М.: Политическая литература, 1973, с. 301.
1.10. Лауфер К. М. Концепция «идеального» Э. В. Ильенкова и «искусственный интеллект»
Проблема «искусственного интеллекта» наиболее спорная с точки зрения философского осмысления тема, связанная с 4-ой промышленной революцией. На протяжении тысячелетий человек, так или иначе, отделял себя от мира природы и животных, считал себя венцом «тварного» мира, вершиной эволюции. В цифровую эпоху эта позиция подвергается массированной критике, утверждается взгляд на «эволюцию» кибер-физических систем как более перспективную по сравнению с эволюцией и культурой человека. В средствах массовой информации, в социальных сетях широкое распространение получает мнение о том, что «искусственный интеллект» (AI) [1] уже сегодня по многим параметрам превосходит человеческий интеллект, а в недалеком будущем его развитие будет определять основную линию природной эволюции, вытеснив человека на ее периферию. При этом известная «проблема Тьюринга» — «Может ли природный разум быть воплощен не биологически?» — имплицитно полагается решенной, что далеко не очевидно [2].
В статье ставится цель показать принципиальные различия между человеческим интеллектом и AI различных кибер-физических систем. Определение «человеческий» мы считаем избыточным в применении к понятию «интеллект», «мышление», «сознание», ибо принципиальная позиция автора, которую он попытается обосновать в статье, состоит в том, что мышление — это атрибут человека и только человека. Интеллектом не могут обладать животные или искусственные системы. Искусственные интеллектуальные системы как совокупность машинных алгоритмов, не могут обладать имманентными атрибутами мышления, необходимыми для самостоятельного приспособления к природной среде. Тем более машина не сможет когда-либо вытеснить человека с вершины эволюционного развития космоса, занять его место и создать некую «цивилизацию роботов».
В основе утверждений сторонников и визионеров будущей «победы» AI над человеком, на наш взгляд, лежит непонимание того, что такое мышление как сущность, и непонимание природы «идеального» как философской категории. Мышление сводится только к деятельности мозга, мозг понимается как «мыслящий орган» человека. Поиск мысли внутри черепной коробки, даже профессионалами в области нейропсихологии и психолингвистики, позволяет говорить сторонникам такого взгляда об эволюции кибернетических систем на основе AI по типу эволюции живых существ. Утверждается, что кибер-физические системы самостоятельно могут осваивать мир и ставить себе цели собственного совершенствования в ходе его освоения [2]. Также высказываются утверждения о том, что в ходе эволюции AI будет наделен нормами морали и будет способен сформировать собственную этическую систему ценностей в отношениях между машинами [1,2]. То же подразумевается и в отношении эстетического отношения к действительности [2].
Для реализации заявленной цели статьи основные положения теории историко-культурного генезиса сознания А.Н.Леонтьева [3,4] и концепции «идеального» Э.В. Ильенкова [5,6,7] были применены к анализу условий и философской рефлексии возможностей развития и функционирования AI в сравнении с человеческим мышлением. Эти теории базируются на деятельностном подходе к пониманию сознания [3,4]. С опорой на эту концепцию центральным моментом для определения возможностей и пределов развития AI было принято определение мышления как творческой деятельности, выходящей за границы «видимости» предметного мира, за границы мира «телесных образов» (imagines corporeae Спинозы). При этом аттрактором человеческой деятельности являются не предметные границы материальных тел, а их сущность как мыслимого, их закономерные отношения, которые преобразуются в деятельности человека по логике самого предмета. Одним из наиболее важных условий такой творческой деятельности, idem est мышления, является быстрота изменения социальной и предметной среды обитания человека и необходимость приспособления к ее изменениям.
Вид homo sapiens — это сегодня единственный вид на Земле, представители которого могут меняться в зависимости от изменения окружающей среды. Причем влияние условий жизнедеятельности и, в первую очередь, условий труда ведет не только к морфологическим изменениям организма и профзаболеваниям, но и к изменениям в психике и мышлении. Все живые организмы, начиная с микробов [8,9,10], в той или иной степени изменяют окружающую среду. Но только человек — единственный вид живых существ на Земле, который не только приспосабливается к изменениям окружающей среды за счет мутаций генов, но и изменяет ее в соответствии с потребностями вида, выходящими за границы отдельного биологического организма. Способность человека к подобного рода изменениям и его выделенная роль в цепи эволюции живого определяется самим характером и законами эволюции жизни.
«Жизнь есть способ существования белковых тел» [11]. Это очень хорошее определение. Во-первых, потому что, мы не знаем другой жизни, кроме белковой. А во-вторых, способом существования белковых тел является метаболизм, то есть обмен продуктами жизнедеятельности и, соответственно, энергией, с окружающей средой. И этот способ, лежащий в основе определения белковой жизни, мы распространяем на любые другие теоретически возможные формы метаболизма самовоспроизводящихся организмов — на основе пар кремния — кислорода, азота — бора или азота — фосфора и других.
В любом случае, метаболизм и самовоспроизведение живых организмов возникает спонтанно в результате эволюции Вселенной при случайном, но устойчивом в длительном периоде сочетании необходимых природных условий. Эволюция Космоса в целом, от Большого взрыва и в перспективе после 13,7 млрд. лет развития не имеет цели — это бесспорный факт. Тогда жизнь как космическое явление, как элемент эволюционного развития Космоса тоже не имеет цели. Приходится признать, что и историческое существование человечества как вершины известных нам форм жизни и его влияние на эволюцию в космическом масштабе ничтожно и также не имеет цели. Его задачи или функции такие же, как у мотыльков-эфемерид, живущих от рождения до смерти менее суток: обмен продуктами жизнедеятельности и энергией со средой и размножение. Человек — наиболее успешный вид живых существ на Земле. Он распространился по всем природным ареалам, уничтожил и вытеснил множество других видов, вышел в космос. Тем не менее, как вид он предельно уязвим, вплоть до полного уничтожения, в ходе природных и космических катастроф, более того, он сам неотвратимо уничтожает природную основу своего существования — Землю, несмотря на все усилия экологических движений и развитие альтернативных технологий.
Именно случайность возникновения человека и отсутствие у него как вида цели существования и специфические условия эволюции обеспечивают возникновение сознания. Только совместная социальная деятельность человека отливается в форму «идеального», в форму деятельности в соответствие с сущностью самого предметного мира, символически выражаемого и передаваемого как накопленный человеческий опыт. Сознание, мышление возникает там, где возникает необходимость передачи накопленного взрослыми опыта и усвоения его детенышами отдельно от основного процесса жизнедеятельности. Так, эволюционное развитие человека в результате борьбы видов привело к вытеснению представителей рода homo в такие природные ареалы, где у них неизбежно развилось прямождение [12]. Затем изменение климатических условий и природного ландшафта привели к выращиванию и воспитанию потомства в палеолитических пещерах, вне непосредственного процесса добывания пищи и борьбы с угрозами внешнего мира, как у других животных. Эта передача накопленного социального опыта происходит неизбежно в обобщенной, символической форме. Прежде всего, для этих целей инструментами служат язык (вторая сигнальная система) и развивающиеся затем на их основе языки науки и техники (вплоть до машинных языков) и искусство (система художественных образов). Достаточно взглянуть на шедевры наскальной палеолитической живописи наших предков, например, в пещерах Альтамиры и Ля Ляско, чтобы понять, что не физиология двигала древним художником, и не пресловутая «потребность самовыражения». Древнее искусство, как и искусство во все века,— это способ передачи концентрированного и обобщенного социального опыта, который отдельный человек может иным способом и не получить, но который необходим каждому для выживания человека и всего человечества как вида.
Не только передача, но и усвоение символических структур требует усилий, и может проходить только в процессе деятельности. Причем эта совместная, социальная деятельность носит сначала игровой, повседневный характер, затем, со временем, все более специализируется.
Конечно, часть опыта, как в древности, так и сейчас, передается в виде шаблонов поведения и действий. Такие шаблонные действия выполняются человеком на уровне психики, на уровне приобретенных рефлексов, так же как у животных. Они не требуют выхода за пределы знакомых жизненных ситуаций. Поэтому такие действия, иногда очень сложные, не порождают «идеальное» как продукт сознательной деятельности. Часто такие действия человек выполняет «на автомате», не контролируя даже на уровне психики их выполнение.
Здесь уместно вспомнить великого врача и ученого И.М. Сеченова, еще в середине XIX века первым нашедшего пути к изучению мозга человека и процесса мышления как физиологического процесса: «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению — мышечному движению» [13]. В тоже время множество мышечных движений не сопровождается осознанной мозговой деятельностью, которая является атрибутом человеческого мышления. Любые осознанные (мыслительные) явления в мозге связаны с мышечными движениями, но не все мышечные явления сопровождаются осознанными мыслительными процессами. Исходным, общим понятием здесь выступает мышечная деятельность, результатом — мозговая деятельность, в том числе — осознанная, выступающая в форме мысли.
Важнейшим моментом для решения поставленной проблемы соотношения естественного интеллекта и AI является индивидуальность, неоднородность, неполнота усвоения передаваемого социального опыта. Каждый человеческий индивид усваивает передаваемый ему в процессе обучения и воспитания опыт в соответствии со своими психофизиологическими особенностями и особенностями его среды жизнедеятельности. При этом неизбежны искажения при трансляции опыта и ошибки при его индивидуальном освоении. Даже при нарушении шаблонного поведения возникает необходимость действовать в новой ситуации, решать возникшую проблему, выходить за рамки готового, известного ответа. То есть происходит процесс мышления.
Именно здесь ключевое, на наш взгляд различие между мышлением человека и AI. Разнообразие опытов — основа изменения и выживания вида. Это разнообразие создает сложный, структурированный, развивающийся мир взаимоотношений между индивидами.
У машин метаболизма нет Ржавление, выход из строя и замена деталей и механизмов логически не связано с функционированием машин, их целевой предназначенностью. Это внешний энтропийный процесс. В отличие от этого, смерть живого существа, смена поколений — эволюционный процесс, процесс развития, необходимое условие жизни.
Гипотетическая машинная цивилизация имеет четкую (алгоритмически построенную) цель своей деятельности. Эта цель изначально задается (программируется) человеком. Даже если эта цель — самосохранение машин и захват всего мира, всей Вселенной, она не выполнима. Потому что, разнообразия, как основы изменения и развития личного опыта у машин не может быть, в том числе каких-либо лакун в информации, которых нет у других машин. Если машина имеет ограниченный доступ к информации и ограниченные функции, то, скорее всего,— это контроллер или датчик, который явно не конкурент человеческому мышлению. Все машины, обладающие функцией AI, должны иметь доступ ко всему массиву информации и перестраивать свою деятельность, то есть обучаться однотипно. Соответственно, отсутствие разнообразия опыта не позволяет машинам развиваться в различных направлениях и неминуемо заведет двигающуюся по одному пути гипотетическую машинную цивилизацию в тупик. Поскольку внешняя среда остается изменчивой и непредсказуемой, а алгоритм отношения машины к внешней среде не меняется и не развивается в силу отсутствия разнообразия, машина не может индивидуализировать опыт, а лучше сказать, полученную информацию. От машины к машине она передается целиком и без изменений. Заложенный заранее, запрограммированный изначально алгоритм отношения машины к внешней среде не меняется. Он может усложняться в процессе обучения машины, но принципиально, по исходным принципам и целям измениться не может.
Все кибер-физические системы с AI должны обладать всей полнотой имеющейся информации в той области, для которой они спроектированы, (или, что то же, иметь не ограниченный доступ к ней). Именно поэтому реакция AI на изменения внешней среды методом проб и ошибок невозможна, а перебором вариантов может быть критично велика. В неизменяющихся условиях с четкими алгоритмами поведения искусственный интеллект может превосходить человека, обыгрывая чемпионов мира по шахматам или игре в го. В сложных, меняющихся условиях алгоритмы машинного обучения не работают. Примером сегодня могут служить торговые станции (trade-station) — программы с AI для игры на бирже, которые обучаются на историческом материале движения цен и объемов сделок, автоматически отдают приказы на открытие или закрытие позиций. Они достаточно успешно работают в стабильных условиях, в условиях длительных трендов развития внешней ситуации. При сильной волатильности или при действиях других игроков на основе инсайдерской информации, эти системы бесполезны и даже ведут к проигрышу.
Единообразие информации для всех кибер-физических систем, циркулирующей в среде искусственного интеллекта, не может породить столкновения мнений, споров, отстаивания своей, особой, точки зрения. «Машины становятся быстрее, разумнее, мощнее, так что необходимость наделить их моралью все более и более актуальна» [2, с. 132] — этот тезис РВК представляется крайне сомнительным. Нет логической и материальной основы для возникновения морали у машин, как системы внутренних установлений поведения отдельной машины в совокупности себе подобных.
Мораль — система надличных ценностей и запретов, позволяющих обществу структурироваться и каждому его члену, индивидуально осваивая их, социализироваться. У машин, в силу их единообразия доступной всем им информации, мораль не может возникнуть по определению. Машине не нужно встраиваться и приспосабливаться к своей «экосистеме». Изначально она в нее вписана и занимает определенное место. Моралью наделить нельзя. Можно выстроить алгоритмы запретов на определенные действия, типа законов робототехники Айзека Азимова, но не на отношение машины к машине. Машина не может поступить плохо или хорошо, подло или равнодушно, преследовать личные цели, отличные от целей, заданных всей машинной системе,— у нее нет свободы выбора. Она поступит так, как прописано в ее алгоритмах, пусть даже нам не доступных. Подвиг Джордано Бруно или Януша Корчака не алгоритмизируется и поэтому машинам не доступен. Именно потому, что это высшее проявление диалектической логики в действии: «Я погибаю мучительной смертью, но остаюсь человеком. Если струшу и останусь жить, перестану быть человеком». Машина так не поступит никогда, поскольку ее уничтожение (самоуничтожение) не изменит ситуации с точки зрения формальной логики.
Поэтому AI есть и всегда будет инструментом человеческого мышления, даже имитируя его в процессе deep learning на многоуровневых нейронных сетях и с применением квантовых вычислительных устройств. У машины нет имманентного целеполагания к продолжению рода, что является специфической характеристикой жизни. Нет чувства родителей при рождении ребенка, нет радости общения с себе подобным, и ответственности за близкого тебе человека. Эти чувства не алгоритмизируются. Как и понятие счастья, которое у каждого свое. Не может быть самопожертвования ради своего ребенка или во имя высших социальных целей или догматов веры. Реальный пример из социальных сетей на бытовом уровне — к старушке с диагнозом болезнь Альцгеймера в приют (Израиль) несколько раз в неделю приходит старик-муж, обихаживает ее, разговаривает, весь день проводит вместе. «Зачем вы это делаете? У нас в приюте прекрасный уход. Она все равно не узнаёт вас и сразу забывает о вас, как только вы уходите.— Зато я помню, кто она» — весь социальный опыт поколений и индивидуальные особенности воспитания и развития и всей жизни вместе в этом ответе.
Тем не менее, развитие AI, как и других цифровых технологий, оказывает существенное негативное значение на состояние и деградацию мышления у современных молодых людей. Это связано с вытеснением человека из сферы труда, уменьшением необходимости бороться за свое и своей семьи выживание в современном мире. Если сам AI не представляет прямой угрозы человечеству, то последствия его применения, в совокупности с другими технологиями цифровой эпохи, эпохи четвертой промышленной революции, ведут к коренным изменениям в человеческих представлениях о мире. Это, прежде всего, связано с понятием «смысла жизни»; отношения к труду и понимания его роли в обществе; общественной и индивидуальной морали и требуют глубокого специального философского, культурологического, социального и экономического анализа.
Литература
Floridi L. The Philosophy of Information. L.: Oxford University Press, 2011.— 426 p.
Агамирзян И., Белоусов Д., Кузнецов Е. и др. Вызов 2035. / Составитель сборника В. Буров. М.: Издательство «Олимп-Бизнес», 2016.— C. 136 — 137 — (первый выпуск).
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.— 304 с.
Соколова Е.Е. Деятельностное понимание психического в трудах Э.В. Ильенкова и школы А.Н. Леонтьева vs. воинствующий «церебрализм» Neuroscience. // Философия Э.В. Ильенкова и современность: Материалы XVIII Международной научной конференции «Ильенковские чтения». Белгород, 28–29 апреля 2016 г. / Под общ. ред. А.Д. Майданского. Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2016.— С. 86 — 90.
Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М.: Политиздат, 1974.— 271 с.
Ильенков Э.В. Диалектика идеального // Искусство и коммунистический идеал. М.: Искусство, 1984.— С.8–77.
Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. // Э.В. Ильенков. Абстрактное и конкретное: собр. соч. Т. 1. М.: Канон +, 2019.— С. 23–353.
Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 2001.— 376 с.
Азимов А. Краткий история биологии. М., Издательство «Мир», 1967.— 176 с.
Вологдин А.Г. Земля и жизнь. М., Издательство Академии наук СССР, 1963.— 175 с.
Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. М., Государственное издательство политической литературы, 1961.— С. 616.
Лауфер К.М. Прямохождение homo как предпосылка возникновения мышления. // Философия Э.В, Ильенкова и современная психология. Сборник научных трудов. / Под общей ред. д.ф.н. Г.В. Лобастова, д.ф.н. Мареевой, д.ф.н. Н.В. Гусевой. Усть-Каменогорск, 2018.— С. 143 — 148.— [Электронный ресурс].
Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. М.: ООО «Издательство АСТ», 2014.—352 с.— [Электронный ресурс]. URL: https://www.litmir.me/ br/?b=267683&p=1 (дата доступа 06.05.2019)
1.11. Морозов М. Ю. Диалектика идеального как ключевая проблема философской практики
У обсуждаемой работы Э.В. Ильенкова два названия; написанная как «Диалектика идеального» в середине 70-х годов, она неоднократно вычеркивалась из планов издания двухтомного труда, подготовленного в Институте философии РАН, в который она должна была войти. [1] При жизни автора ее так и не напечатали: первый раз на русском языке статья увидела свет в шестом номере «Вопросов философии» за 1979 год в сокращенном виде под названием «Проблема идеального», которое сегодня смотрится горькой иронической отсылкой к действительным проблемам, с которыми сталкивался Эвальд Васильевич при подготовке ее к публикации.
Разработка категории идеального в этой работе настолько многомерна, что не всегда понятно, в каком разрезе вести обсуждение «ильенковского» идеального. Не ставя себе целью охватить все возможные аспекты, перечислим некоторые из них.
Идеальное является ключевой проблемой философии, если понимать философию так, как понимал её Э.В. Ильенков (и как понимали ее, по убеждению самого Ильенкова, Энгельс и Ленин) — как науку, стоящую не «над», а наравне с другими положительными науками; науку, имеющую своим предметом теоретическое мышление («диалектика, логика, теория познания — не нужно трех слов»). Понятно, что мышление разумеется здесь не в узко-позитивистской интерпретации, которая, к великому сожалению (хотя и в силу объективных — вненаучных — причин), стала в современной науке вполне естественной и, в основном, общепринятой — несмотря на разнообразие того букета дисциплин, что кроется за словами «когнитивная наука», и который, кажется, по своему составу (нейрофизиология, теория ИИ, психология, лингвистика, антропология и их возможные отпрыски) должен бы «раскрывать» понятие мышления с различных сторон. «Мышление» современной науки о познании довольно скудно — и двойственный смысл этого предложения, который получится при снятии кавычек, здесь не случаен; начало исследования внутри любой из указанных отраслей когнитивистики исходными своими положениями имеют вычислительную гипотезу, механистический материализм, абсолютный детерминизм, господство формально-логических построений вкупе с автоматическим обскурантизмом другой «логики» и некоторые иные пережитки старой философии, успешно преодоленные в свое время Гегелем, Марксом и Энгельсом. Вовсе не это мышление (идеальное) имеет в виду Ильенков, страстно протестуя против его отождествления с психическим; само собой понятно, что эта категория находится у настоящей научной философии на особенном счету.
Идеальное является ключевой проблемой философии, если принимать во внимание диалектическую парность этой категории с материальным. Так, С.Н. Мареев отмечает, описывая очередные злоключения своего учителя: «Впрочем, Ильенков не «реабилитировал» себя в глазах этой публики даже тогда, когда писал уже не об «идеальном», а о «материальном». Ведь и «материальное» у него не такое, как у «людей». А если серьезно, то ведь все дело в том, что, каково «идеальное», таково и «материальное». И наоборот. И это тоже центральный пункт «философии» Ильенкова». [2] Не поняв сущность и формы идеального, мы не определим его границу и его способ перехода в материальное и обратно, лишившись тем самым возможности поиска истины, без которого философия, в понимании Ильенкова, также существовать не может. И ценность этого положения не ограничивается одним лишь философским полем, напротив: еще в главном своем философском труде один известный русский гегельянец (чьё имя до сих пор по какой-то странной причине носит московский метрополитен) отмечал, что неверно понятая категория материи сулит массу проблем прежде всего для философски неподкованных естествоиспытателей. В подтверждение этого сегодня можно наблюдать засилье статей и работ, в которых, например, физики и нейрофизиологи из результатов своих исследований делают настолько «далеко идущие» мировоззренческие выводы, что проблема «исчезновения материи» в начале XX века уже не кажется настолько глобальной.
Идеальное является ключевой проблемой философии диалектического материализма, потому что решение этой проблемы позволяет по-марксистски понять не только суть и гносеологические корни идеализма, но также и диалектичность, «умность» (по Ленину) этого вида материализма, его отличие от материализма вульгарного, механистического. Необходимо отметить, несмотря на некоторую возможную неочевидность такого замечания, что вульгарно понятый материализм (марксизм) потенциально способен принести вред не меньший, чем собственно идеализм, а то и больший: очень непросто взвесить и сравнить ущерб, нанесенный, например, самому Ильенкову, этими дополняющими друг друга крайностями. Отметим и другое: сегодня нас уверяют, что, дескать, основной вопрос философии — вовсе не основной, а всего лишь «один из». Что нет нужды так резко и остро противопоставлять философские направления. Что попытка свести все к «бинарной классификации: пролетарское или буржуазное» убога по своей сути и грозит чуть ли не новой инквизицией, не говоря уж о том, насколько она далека от науки и «современной философии». Что вера может быть и научной (sic!), что внелогическое познание и иррациональность самоценны, что нет нужды объяснять все с позиции рациональности, разума. Излишне здесь было бы говорить, насколько лицемерны такие рассуждения на фоне стремительно нарастающих противоречий в той реальности, что философия по занимаемому положению должна бы отражать в движении своего содержания.
Таким образом, рассмотрение идеального как ключевой проблемы философии, несомненно, имеет под собой основания. Однако в данной статье, как следует из названия, акцент хотелось бы сделать несколько на ином.
По вполне понятным причинам, марксистская сторона творчества Э.В. Ильенкова сегодня остается в тени; на первый план выходят педагогические, психологические, историко-философские аспекты его работ. Но злободневные жизненные обстоятельства, окружающие нас каждый день, делают актуальным и современным марксизм вообще и марксизм в творчестве Ильенкова, в частности. «Критика капитализма является мейнстримом. Она характерна, например, для всех значимых школ в западной социологии и социальной философии (все они так или иначе считают себя марксистскими), а нобелевские премии по экономике присуждаются за изучение проблемы неравенства в современном мире» [3].
Помимо взгляда на философию, как на науку, как на поиск истины, существует также следующий: «Философия — это практика политического вмешательства, облеченная в форму теории. Ее деятельность в основном ограничена двумя областями: областью теории, исследующей результаты классовой борьбы, и областью теории, исследующей результаты научной практики. Сама она по своей сути является производным от результатов классовой борьбы в соединении с результатами научной практики. Итак, ее политическая деятельность, облеченная в форму теории, проявляется в двух областях: области политической практики и области научной практики; для нее естественно оперировать в этих двух областях, поскольку сама она — производное от слияния результатов двух этих практик» [4].
На первый взгляд кажется, что трудно найти в марксизме более отвлеченный от практики вопрос, чем проблема идеального; однако поверхностность этого взгляда разоблачается уже тем, что в марксизме неприемлемы «чисто схоластические» вопросы. Л. Альтюссер отмечает, что «Ленин внес огромный вклад в диалектический материализм, что он, развивая идеи Маркса и Энгельса, совершил настоящее открытие и что суть этого открытия можно свести к следующему: научная теория Маркса вызвала к жизни не новую философию (называемую диалектическим материализмом), а новую философскую практику, точнее, философскую практику, основанную на позиции, которую занимает в философии пролетарский класс» [4].
Изучаемое под таким углом идеальное имеет колоссальное практическое значение. Большой эвристический потенциал, по мнению автора, несет в себе разработка ильенковского идеального с привлечением некоторых положений синергетики и теории фракталов в тесной их связи с логикой целостности и тотальности; связь между ними в научной литературе не прослежена или прослежена очень слабо. Подчеркнем, что подобное исследование нужно проводить в духе основоположников направления — с позиций материалистической диалектики, и в первую очередь это касается не только и не столько терминологии, а метода, логики движения содержания. И здесь необходимо заострить внимание на нескольких весьма тонких нюансах.
Первый состоит в том, что за исследование в русле марксистского метода нередко принимают любую работу, окрашенную в цвета соответствующего вокабуляра. Больше — в советское время, меньше — в девяностые годы, исчезающе мало — сегодня, такая работа заключает в себе весь набор «правильных» положений и маркерами терминов вроде бы показывает свою партийную принадлежность, однако — оговорками или самим ходом исследования — на деле представляет собой «переодетое» в философские термины реферативное обобщение открытий и проблем положительной науки, выполненное напрямую в позитивистском ключе. В редких случаях отличаться может не только «дух», но и «буква»: положения, содержание и выводы. В своем письме «О положении с философией» [5] эту трудность Э.В. Ильенков выразил еще во второй половине 60-х годов: учитывая сегодняшнее методологическое засилье позитивизма, надо тем более по достоинству оценить его проницательную дальновидность. Необходимо, следовательно, с одной стороны, не увлечься новыми терминами и подходами, дабы не «изобретать зонтик», а грамотно и точно использовать существующие категории и методы исследования, однако, с другой стороны, также и не просто копировать форму, а добиваться движения самого содержания согласно диалектическому методу. В качестве небольшого примечания заметим, что представляется возможным и небезынтересным некоторым образом связать термины «современной научной философии» с устоявшимся, выработанным двухтысячелетней традицией философским языком (который сегодня стремительно утрачивается), выразив их через понятия и показав тем самым их непреходящую современность.
Второй нюанс заключается в том, что, несмотря на объективное разложение школ философской науки, некоторые исследованные в современных работах положения позволяют по-новому «высветить» уже выработанные понятия и представить их в новом качестве с учетом современных проблем и нерешенных еще вопросов. Ситуация сугубо диалектична: понятия и категории («орудия труда») позволяют справиться с «проблемной ситуацией» научного исследования, а само исследование («процесс труда»), в свою очередь, позволяет как «заострить, обтесать» эти орудия труда, так и сформировать (или улучшить) способности самого субъекта, который эти орудия использует.
«Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отраженья».
Имеющее место в действительности наслоение великого количества взаимных отражений различных характеров и типов создает весьма обширное поле интерпретаций: так, само собой понятно, что смыслы, которые извлекает для себя читатель «Науки Логики» в контексте дня сегодняшнего, во многом существенно отличаются от смыслов в ситуации ее изучения во время Первой мировой войны — даже если абстрагироваться от огромного количества индивидуальных различий между читателями оной (здесь, однако, подчеркнем, что не следует и односторонне выпячивать относительность такого познания: сложность в том и состоит, чтобы не только дойти до уровня уже написанных до читателя конспектов, не потеряв при этом крупицы абсолютной истины, но и углубить, расширить это понимание — и по возможности не только в субъективном аспекте). Если же сюда добавить индивидуальные способности, культурный и исторический контекст, знакомство с уже существующими интерпретациями, цели и задачи, стоящие перед читателем etc. etc., то продуктивность такого подхода становится очевидной.
В данной статье нет возможности и места подробно останавливаться на всех аспектах исследования, поэтому ограничимся обозначением узловых пунктов. Необходимо показать методологическую и гносеологическую ограниченность синергетики как метода современной науки, сделать это можно через выявление соотношений ее различных школ и направлений с марксизмом путем критики с позиций материалистической диалектики. Одна из существенных слабостей современной формы структурализма (синергетики) состоит в абстрактном понимании системы, которая унаследована ей от традиционной системологии (тектология Богданова; общая теория систем фон Берталанфи); последняя, в свою очередь, справедливо критиковалась П.К. Анохиным с позиций, совпадающих по своей сути с тем, что можно назвать диалектическим методом. Любопытно, что сам Анохин к философии такие позиции не относил, что, с учетом времени и контекста написания его работ, еще раз подтверждает слова Ильенкова о плачевном положении материалистической диалектики.
Очень плодотворным, по мнению автора, является разработка понятия «фрактал» и фрактальных аспектов диалектики идеальных форм. Таких аспектов можно выделить несколько.
Чаще всего о фракталах говорят, имея в виду их масштабную инвариантность, самоподобность, наглядно выраженную в графической форме. Имеет смысл говорить о самоподобности, самовложенности, как о первом фрактальном аспекте. Можно показать, что идеальное иерархично внутри себя, имеет различные вложенные друг в друга (фрактальные) самоподобные структурные уровни организации (индивидный, коллективный, общественный, всемирно-исторический), причем более высокие из них оказываются нередуцируемыми к низшим. Важно заметить, что эти различные уровни вполне могут иметь одни и те же аттракторы (в т.ч. «странные») — то, что мы назвали бы законами становления и развития содержания — действие и возникновение которых может быть адекватно описано с помощью теории динамического хаоса на уровне явлений, но которые при этом являются лишь отражением сложнейшей диалектики на уровне методологическом: диалектика всеобшего, особенного и единичного; субъективного и объективного; абстрактного и конкретного; логического и исторического; части и целого. Необходимо выявить взаимные превращения, «переливы» этих уровней через противоречия различной природы и показать необходимые связи и развитие через преодоление их в фактическом поле. Таким образом можно проследить логику формирования классового сознания в переходе между «структурными» уровнями идеального (с индивидуального до всемирно-исторического), исследовать прохождение бифуркационных (критических) точек и воздействие материальных предпосылок (а также субъективного фактора) на этот процесс, в котором «идея овладевает массами» и сама через практику становится материальной силой, а индивид, в этот процесс вовлеченный, переходит в результате становления от своего «малого бытия» (Мих. Лифшиц) к бытию субъекта истории.
Подразделом этого пункта может являться выход на проблему «Я», проблему личности; являясь в данном аспекте как бы одним из уровней, она вполне может быть рассмотрена как совершенно самостоятельная задача по нескольким причинам. Во-первых, проблема личности, взятая сама по себе, связана с огромной собственной ценностью как в теории, так и на практике — недаром она является отдельной областью исследований в философии, психологии и педагогике. Во-вторых, проблема личности имплицитно содержит самоподобие как свой сущностный атрибут. Э.В. Ильенков прямо пишет об этом: «Видно, как возникает и самое это таинственное «единство», каждый раз индивидуально неповторимое «Я», обладающее самосознанием, то есть способностью осознавать самого себя как бы со стороны, смотреть на свою собственную деятельность как бы глазами другого человека, с точки зрения «рода человеческого», постоянно сверяя свою работу с ее идеальными эталонами (нормами), заданными историей культуры, и стремясь эти нормы превзойти, задав им новый уровень» [6]. В-третьих, и это особенно важно, уровень индивида, личностный уровень является «замыкающим» во фрактальной структуре: будучи самым «нижним», он непосредственно примыкает к уровню «высшему», к своему абсолютному основанию — посредством атрибутивности мышления, которое позволяет в единичном иметь не только особенное, но и всеобщее: невыразимое богатство мыслимого мира, бесконечного, схватываемого конечным человеком в его целостности; с той оговоркой, разумеется, что мыслимый мир лишь в пределе процесса познания стремится к абсолютному тождеству, полному совпадению с миром реальным в смысле объема и полноты. Таким образом, фрактальное самоподобие «пронизывает» все «уровни» бытия — только посредством человеческого мышления, что дает нам право говорить о его атрибутивности.
Вопрос об атрибутивности приводит еще к одному фрактальному аспекту, который мы обозначим как прерывность. Так, длина побережья Великобритании парадоксальным образом зависит от масштаба рассмотрения береговой линии острова, как это показал Б. Мандельброт в своей известной статье, а в пределе рассмотрения стремится к бесконечности. [7] Верное с формально-логических позиций построение приводит к результатам, которые противоречат реальному объекту, и подобное встречается в науке довольно часто — например, в рассуждениях о дискретности материи и энергии. В применении к теории познания можно говорить о том, что именно человеческое мышление, идеальное, способно «создавать» непрерывность, познавать движение в его истине, познавать предмет как тотальность (не впадая при этом во «фрактальную» — resp. дурную — бесконечность), то есть именно мышление — единственная форма движения материи, которая не только одна лишь способна охватывать собою всеобщее, но способна собою обнять непрерывное, движение, целостность материального мира в целом, освещая, таким образом, «онтологический» аспект.
Наконец, еще одним фрактальным аспектом является фрактальность, понятая как фрагментарность, «изрезанность», раздробленность. Это справедливо, если учитывать как сущность понятия, разработанного в геометрии в своей классической форме (см. Береговая линия Великобритании), так и происхождение самого термина: fractus — дробный. В этой форме фрактальность выступает в качестве имманентной характеристики современного общества, в котором отчуждение и господствующий способ производства постоянно производит «фрагментарных индивидов». [8] Фрактальное в таком аспекте противостоит не только целостности, тотальности, что в таком рассмотрении вроде бы выступает на первый план, но и идеальному в контексте истинности: «Иллюзии, воплощены ли они в познавательных схемах или в схемах воображаемого миропорядка, но коль скоро они обладают силой, они «мнут» (от слова «мнить») предмет. <…> Но сила иллюзий в том, что она изменяет и оформляет предмет по своей собственной «логике» и в таком виде «запускает» его в пространство действительности. И «изломанный» (курсив мой — М.М.) предмет ломает теперь и реальное, и смысловое пространство человеческого бытия». [9] Задача проработки этого аспекта заключается в выявлении той сложной диалектики, полюсами которой являются истинное единство-целостность и «мнимая» (или «мятая») фрагментарность-раздробленность как отдельного предмета, индивида, понятия, так и общества, взятого в целом в контексте движения к преодолению этим обществом фрагментарного характера своего бытия.
Литература
Майданский А.Д. Предисловие к «Диалектике идеального» // «Логос», №1, 2009. С. 3–5.
Мареев С.Н. Из истории советской философии. Лукач-Выготский-Ильенков. М.: «Культурная Революция», 2008. 448 с.
Что такое пролетариат? Часть 2. Электронный ресурс https://zarya.xyz/
Альтюссер Л. Ленин и философия. Пер. с фр. Н.Кулиш. М.: Ad Marginem, 2005. 175 с.
Ильенков Э.В. О положении с философией // Эвальд Васильевич Ильенков.— Москва, 2008. С. 378–387.
Ильенков Э.В. Становление личности: к итогам научного эксперимента // «Коммунист», №2, 1977. С. 68–79
Benoît Mandelbrot. How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension. Science, New Series, Vol. 156, No. 3775. (May 5, 1967), pp. 636–638.
Бурик М.Л. Человек и экономика в виртуализованном мире. «Аграр Медиа Груп», 2016.
Лобастов Г.В. Идеальное. Образ. Знак. «Русская панорама», 2017. 232 с.
1.12. Петров А. П. Субстанциальный монизм как диалектика мареиального и идеального
Вначале будем исходить в развитии заявленной темы из трактовки субстанциональности Э.В. Ильенковым, тем более, что он учитывал выводы великих предшественников — Декарта, Спинозы, Канта, Гегеля.
Итак, «субстанция (лат. substantia — сущность; то, что лежит в основе),— объективная реальность, рассматриваемая со стороны ее внутреннего единства, безотносительно ко всем тем бесконечно многообразным видоизменениям, в которых и через которые она в действительности существует; материя в аспекте единства всех форм ее движения, всех возникающих и исчезающих в этом движении различий и противоположностей» [7, с. 151].
В ильенковском понятии субстанции можно выделить следующие аспекты — субстанция это: 1. материя (поскольку дефиниция «объективная реальность» прочно ассоциируется с данной категорией) как некое основание всего сущего, как целое, нечто единое; 2. однако, эта материя расчленена внутри себя на бесконечное многообразие своих форм («видоизменений») (здесь формы материи учтены со стороны их наличности, актуальности, т.е. как «вещи»); 3. будучи целым, эта материя-субстанция, тем не менее, каким-то образом объединяет в себе также все формы движения всех своих многообразных модификаций (здесь формы материи учтены со стороны их движения, т.е. как процесс); 4. однако, формы материи-субстанции (её «бесконечно многообразные видоизменения») сами не являются субстанциями (другими словами — не имеют в себе causa sui и, следовательно, инертны, не способны к самодвижению, хотя это самодвижение и декларируется); 5. субстанция как целое саморазвивается, хотя и не указан механизм её саморазвития (таковым вряд ли можно считать упомянутые «возникающие и исчезающие различия и противоположности», поскольку они отнесены не к субстанции в целом, а к её «бесконечно многообразным формам»).
Т.о. субстанция трактуется Э.В. Ильенковым как материя в целом, всеобщее, непонятным образом соединяющее в себе всё многообразие как актуальных материальных форм (особенное и единичное), так и форм их движения, а также содержащая внутри себя необъяснённую причину собственного самодвижения. Хотя «бесконечно многообразным видоизменениям», содержащимся внутри единой субстанции и приписана возможность движения, но они, согласно определению же, тем не менее, не являются субстанциями, т.е. не имеют внутри себя причины самодвижения и, следовательно, лишены способности к самодвижению и потому непонятно, как и за счёт чего они движутся.
Продолжим — «…диалектический материализм рассматривает ее (субстанцию. Прим. наше.— А.П.) как одно из универсально-логических определений материи. В понятии субстанции материя отражена уже не в аспекте ее абстрактной противоположности сознанию (мышлению), а со стороны внутреннего единства всех форм ее движения, всех имманентных ей различий и противоположностей, включая сюда и гносеологическую противоположность «мыслящей» и «немыслящей» материи» [7, с. 152].
Если в определении, приведенном в начале, субстанция рассматривалась в её онтологическом статусе («объективная реальность»), то здесь она выступает уже как сугубо гносеологическая категория («универсально-логическое определение»), с чем можно согласиться только в том случае, если оставить за субстанцией и онтологический статус — такая субстанция предстаёт именно как диалектический (и онтологический, и гносеологический) объект. В данной цитате субстанции приписана также имманентность мышления, но не объяснена причина такой имманентности, она только декларируется под давлением эмпирии.
Вызывает вопросы и следующее утверждение: «Понимание материи как субстанции как раз и связано с требованием понять (“вывести») сознание во всех его формах из движения материи, сознанием не обладающей,— понять противоположность материи и сознания (мышления) как лишь относительную противоположность, а не как абсолютную и исходную, каковой она выступает лишь в пределах основного гносеологического вопроса, лишь в рамках гносеологии как особой науки. В категории субстанции само мышление (сознание) представляется как один из ее атрибутов, генетически связанный со всеми другими атрибутами и их предполагающий» [7, с. 152].
Во-первых, настойчивое стремление представить материю как субстанцию («понимание материи как субстанции…») совершенно игнорирует факт сущностного различия материи и субстанции. Материя как объективная реальность есть только основание (вспомним Гегеля) субстанции. Но субстанция тоже есть объективная реальность, однако эта реальность есть уже обоснованное, содержащее основание в-себе, и вот причину этого обоснования (а также различие материи и субстанции) и следует выяснить.
Во-вторых, в приведенной цитате предлагается «вывести сознание… из движения материи». Но ведь субстанция изначально диалектически соединяет в себе и материю, и мышление (вернее, материальное и идеальное) и вывести один из субстанциональных атрибутов из другого невозможно в принципе — атрибуты суть равнозначные, равноценные субстанциональные составляющие, причём синхронные, их невозможно развести во времени и пространстве — здесь нельзя вести речь о первичности и вторичности, но только о диалектическом единстве (повторим самого Ильенкова — «в категории субстанции само мышление (сознание) представляется как один из её атрибутов, генетически связанный со всеми другими атрибутами»). В противном случае из диалектического мира мы возвращаемся в мир дуалистический.
Утверждение — «материя… как субстанция рассматривается как материя, мыслящая в лице человека «сама себя», а не что-либо «другое”» [7, с. 152] — содержит аллюзию, что человек как мыслящий представитель субстанции как целого, тем более способный мыслить и это целое, также субстанционален, но это положение не развивается, а, напротив, человек дедуцируется до состояния модуса субстанции — «субъект, наделенный сознанием и волей, т.е. личность, тут понимается как модус той же самой всеобщей субстанции, как способ ее саморазличения, как ее представитель, и лишь постольку — как субъект» [7, с. 153]. Но ведь в субстанциональном ракурсе субъект понимается как то, что саморазвивается, исходя из внутренней причинности, что, разумеется, предполагает и саморазличение — именно это и есть внутренняя характеристика субстанции как субъекта собственного саморазвития — если таков человек, то и он субстанционален.
Окончательный вывод, что «субстанция, с одной стороны, понимается как материя, а с другой стороны, эта материя трактуется одновременно как субъект всех своих изменений как «субстанция-субъект», т.е. активная причина всех своих формообразований» [7, с. 153], и который (вывод), с одной стороны, отождествляет материю и субстанцию, не делая между ними различия, но, с другой стороны, одновременно объявляет субстанцию субъектом самодвижения, без указания механизма самодвижения, не находит внутреннего обоснования и представляет собой эмпирический вывод, не выдерживающий проверки логикой.
Такое наполненное противоречиями понимание субстанции заставляет вновь обратиться к самой сущности субстанциональности в трактовке Спинозы, послужившей отправным тезисом для Ильенкова и под каковой понимается: 1. самостоятельное, ни от чего не зависящее существование; 2. самопричинность; 3. как следствие — способность к самодвижению, т.е. субъектность [6, с. 361].
Однако, Спиноза только декларирует наличие внутренней причины самодвижения, одновременно перемещая её сущность из субстанции вовне, во внешнего бога: «…всё, что существует, выражает известным и определенным образом могущество бога, составляющее причину всех вещей» [6, с. 394]. Даже если, как это часто представляют, считать, что бог есть природа в целом, то и это допущение не разрешает проблемы причинности как внутреннего фактора самодвижения субстанции. Кроме того, одного голословного указания на существование некой внутренней причины как источника самодвижения без раскрытия его сущности явно недостаточно [6, с. 351].
Т.о. спинозовская субстанция только формально, но не сущностно самопричинна и субъектна, т.е. способна к самодвижению, что и было отмечено Гегелем: «…у Спинозы субстанция и ее абсолютное единство имеют форму неподвижного единства, т. е. не опосредствующего себя с самим собой,— форму какой-то оцепенелости, в которой ещё не находится понятие отрицательного единства самости, субъективность» [1, Т.1, с. 332]; «…субстанция определяется не как различающее само себя, не как субъект» [1, Т.1, с. 480].
Но уже одна только идея Спинозы, что «субстанция мыслящая и субстанция протяженная составляют одну и ту же субстанцию, понимаемую в одном случае под одним атрибутом, в другом под другим» [6, Т. 1 с. 407] представляла огромный шаг вперёд в понимании единого (монистичного) саморазвивающегося мира. Своей глубокой идеей единства протяжённости и мышления (другими словами — материального и идеального) в одной субстанции Спиноза пытается уйти от дуализма материального и идеального, неустранимого как в рамках вульгарного материализма (по крайней мере материализма, не объясняющего исчерпывающе сущности идеального), так и идеализма, и утвердить идею субстанционального монизма.
Спинозовскую «оцепенелую» субстанцию «оживил» Гегель, постулировав в качестве причины и механизма самодвижения внутреннюю противоречивость, заключавшуюся в том, что «нечто» саморазличая, саморефлексируя (отражая!) себя в себя же устанавливало внутри себя внутреннюю границу, разделявшую стороны становящегося противоречия. Такое саморазличённое «нечто» представало уже как наличное, внутренне противоречивое, бытие, обладавшее интенцией самодвижения как следствием взаимного рефлексирования сторон внутреннего противоречия — субстанция оформилась.
Принцип отрицательности, рефлексии, возведённый Гегелем в абсолют (и это можно утверждать вполне уверенно), стал тем золотым ключиком, который открыл тайну движения реальности. Но это не абстрактная отрицательность, применяемая к чему угодно, а рефлексия субъекта развития в себя (само-отрицание), соотнесение отрицаемого с отрицанием, становление противоречия, взаимодействие сторон противоречия вплоть до его разрешения — снятия противоположностей в новом качестве (отрицание отрицания). А это уже положительный момент — снятие противоречия и сохранение результата движения в новой, более полной форме [1, Т.1, с. 107–108].
Принцип саморазвития, основанного на самоотрицании (на саморазличении), развитии и разрешении возникшего противоречия превращает развивающуюся реальность (у Гегеля идею) в субъект собственного движения, что дало Марксу повод для утверждения, что «дея тельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно» [5, Т.3, с. 1].
Гегель в стремлении вывести всё сущее из одного начала совершенно верно выразил дух, суть идеи Спинозы о монистичности субъекта, находящегося в основании самодвижения. Но, возвеличив идею как высшую истину и исток сущего, он логически необходимо низвёл материю до дополнения к идее, до её вторичного проявления в вещественности, тем самым сведя все формы взаимодействия материального и идеального как источника всего богатства мира к формальному следствию из идеи. Найдя источник самодвижения объективной реальности, рассматриваемой им как идея, и подробно описав механизм его действия, Гегель в конце своего исследования остановился перед проблемой перехода идеального в материальное, только кратко заметив, что «сосредоточивая себя в непосредственность бытия, идея как целокупность в этой форме есть природа» [1, Т.3, с. 310], и оставив открытой проблему этого перехода, т.е. взаимодействия идеального и материального.
Глубокая гегелевская идея саморазвития как самоопределения субъекта развития через саморазличение (отрицание), дальнейшего движения полученного противоречия и его разрешения (снятие сторон в новом качестве) повисла в воздухе, поскольку, признавая право субъектности только за идеальным и отказывая в этом материальному, Гегель тем самым разводил их на противоположные несовместимые полюсы. Дуализм снова встал непреодолимым препятствием на пути познания реальности как единой саморазвивающейся сущности. Тем не менее, принцип саморазвития посредством внутреннего противоречия, логически безупречно исследованный Гегелем, оказался тем эликсиром, который оживил субстанцию Спинозы.
Стоя на точке зрения материализма, т.е. признавая существование самодостаточной объективной реальности, следует, и это совершенно очевидно, категориально определить эту реальность и уже из этого основания диалектически (т.е. как саморазвитие) выводить все последующие определения и отношения, конкретизирующие исходную абстракцию.
Но какие же свойства, качества, атрибуты наличествуют у объективной реальности, которые делают её способной к саморазвитию?
Материя должна быть выражена, во-первых, в её существовании и, во-вторых, в её единственности — т.е. исключительно через саму себя.
Самым первым и единственно возможным определением объективной реальности будет только указание на её существование как таковое безо всяких дополнительных атрибутов. Это есть существование в чистом виде как просто данность чего-то, нечто, что ещё не может быть определено никак иначе. Существование, данность этого нечто ещё не есть его бытие, которое следует рассматривать как движение, развитие пресловутого нечто, как его жизнь. Это просто его наличие, существование, данность, актуальность («естьствование», если можно так сказать) и ничего более. По сложившейся традиции назовём это нечто материей.
Поскольку ещё ничего, кроме упомянутой материи, нет, то такая материя дана только самой себе, она не ограничена ничем, кроме самой себя и в таком качестве дана себе непосредственно, не через что-то.
Итак, материя — это объективная реальность, предстающая как её простое наличие, существование, данность, актуальность. Такая материя дана только самой себе и как таковая она непосредственна. Особо подчеркнём эту непосредственность, это очень важный момент, как увидим.
Т.о. материя реальна (существует, наличествует), объективна (самотождественна, самодостаточна), непосредственна (дана только себе и не различает себя, не отчуждает себя от себя). Как таковая материя естьствует (наличествует, существует), но не бытийствует (не движется, не развивается).
В материи, как она определена выше, ещё не раскрыта способность, причина, в соответствии с которой из всеобщности материи возникают её особенность и единичность как формы материи. Материя, рассматриваемая сама по себе, статична, она не обладает внутренним источником самодвижения (а внешних быть не может — мы остаёмся на позициях диалектики) поскольку ещё не различает сама себя, и тем самым не ограничивает, не определяет себя. Такая материя ещё полностью в-себе, она не отчуждает себя от себя, не саморазличает своего иного и потому не имеет интенции к движению. Материя сама по себе не имеет бытия, ибо статичное существование, просто наличествование чего-то ещё не есть бытие, представляющее собой движение, жизнь.
Форм материи не только пока нет, но и не может быть, поскольку нет причины её движения и, следовательно, самого движения как появления и развития форм. Материя — это предельная абстракция существования как такового, существования нечто, ещё совершенно не определённого, не поставленного в отрицание чему-то, не ограниченного и потому бесформенного.
Возможно поэтому, комментируя Гегеля, после его слов «субстанция обладает действительностью лишь как причина» [1, Т.2, с. 209], Ленин уточняет: «с одной стороны, надо углубить познание материи до познания (до понятия) субстанции, чтобы найти причины явлений. С другой стороны, действительное познание причины есть углубление познания от внешности явлений к субстанции» [4, Т.18, с. 142–143].
В этом ленинском требовании возвышения понятия материи до понятия субстанции совершенно ясно просматривается, во-первых, спинозовское понимание субстанции как монистического основания всего сущего, имеющего причину своего движения в себе самом, и, во-вторых, гегелевское понятие субстанции как субъекта собственного развития.
В ленинском представлении субстанция не равнозначна материи, хотя без материи субстанции быть не может. Если следовать формулировке Ленина, то в самом общем виде субстанция есть материя плюс некая причина её движения. Движение, осуществляемое таким образом, т.е. за счёт внутренней причины, есть не что иное, как самодвижение, саморазвитие и потому субстанция субъектна.
Диалектика рассматривает в качестве причины движения внутреннее противоречие, каковым может быть только саморазличение как отчуждение себя от себя, как выявление себя и своего иного как сторон противоречия. Т.е. в материи предполагается имплицитное существование качества, которое делает материю потенциально способной к саморазличению и т.о. к самодвижению. Не исключено, что подобными соображениями и вызвана загадочная ремарка Ленина, что «ощущение признается одним из свойств движущейся материи» [4, Т.18, с. 41].И ещё: «в ясно выраженной форме ощущение связано только с высшими формами материи (органическая материя), и «“в фундаменте самого здания материи» можно лишь предполагать существование способности, сходной с ощущением» [4, Т.18, с. 39–40]
Но что такое ощущение, как оно определено выше, в самой общей абстрактной форме, как не некое различение прежде единого на ощущающее и ощущаемое, т.е. возникновение взаимосвязанных (неразрывных, неотъемлемых) противоположностей и дальнейшее их взаимодействие в форме противоречия. Если ощущающее, как это можно предположить, есть материя, ибо ничего другого в наличии нет, то что же такое ощущаемое? Материя, данная самой себе непосредственно, ощущаемым быть не может, поскольку в этом случае нет ощущаемого, иного, того, что должно ощущаться.
Но это иное не может быть и чем-то посторонним материи и совершенно независимым от неё. Материя и её иное с самого начала не могут не быть тождественными, т.е. неразрывными, неотъемлемыми друг от друга, но одновременно и отличными друг от друга, разделёнными. Как таковые они есть противоположности, представляющие стороны, моменты противоречия, являющегося интенцией и потенцией движения.
Вопрос движения есть вопрос поиска причины движения, понимаемой диалектически — как вопрос о движущем внутреннем противоречии. Такое противоречие может быть следствием только саморазличения материи, её самоотчуждения, самоотрицания и возникновения т.о. противоположности материи — её иного, являющегося моментом материи, её иной стороной. Материя, отрицающая саму себя и становящаяся т.о. внутренне противоречивой, переходит в новое качество — из просто есть она начинает быть, превращается в субстанцию, саморазвивающуюся сущность.
Так что же такое бытие материи, её движение, развитие, жизнь? Признав диалектичность бытия как его движение посредством самоопределения и возникновения т.о. внутреннего противоречия и его дальнейшего развития и разрешения, применим этот принцип к полученному понятию материи.
Казалось бы, для возникновения в материи саморазличения, саморефлексии нет оснований. Но, признав наличие, актуальность, существование нечто, в нашем случае материи, в соответствии с принципом диалектичности следует признать и возможность существования не-существования, понимаемого как отрицание, противоположность, несуществование материи — её инаковость, аналог ничто, иного на языке Гегеля (меона, рассматриваемого также как иное, в диалектике А.Ф. Лосева).
Признав необходимость наличия ничто, тождественного материи, т.е. неразрывно с ней связанного и одновременно отличного, противоположного, отрицающего, следует выявить также сущность и форму этого ничто.
Материя, определённая выше как нечто неизменное, просто наличествующее, есть предельная абстракция. Но такая неизменяющаяся материя невозможна, уже сам факт существования некой объективной реальности одновременно свидетельствует также о том, что у этой реальности есть её иная сторона, представляющая «историю» её существования. Даже если мысленно предположить, что материя возникла мгновенно, то и в этом случае у этого процесса будет своя история — история этого мгновения. И эта история неразрывно связана с материей, представлена в ней, она есть сторона процесса, создающего объективную реальность, связывающего воедино свои стороны — материальную (данную, актуальную, статичную) и процессуальную (движущую, действующую, преходящую, активную).
Налицо тождественность (понимаемая, напомним, как единство и одновременно различие) сторон бытия — материальной, данной, актуальной и не-материальной, представленной в данном, актуальном, материальном как процесс возникновения и движения данной объективной реальности. В этом тождестве материя не просто есть, в ней как результате некоего процесса содержится в снятом виде и сам этот процесс.
Отныне это не прежняя материя в своей изначальной непосредственности, это другая материя, содержащая в себе также и процесс своего изменения — иное — как источник нового актуального состояния. Но это иное, как процесс изменения, не есть материальное, поскольку оно не представлено явно, непосредственно — но только опосредствованно — через новую актуальную, наличную материальность. Это иное, снятое, представленное в материальном, есть не-материальное.
Теперь материя определена со стороны процесса своего изменения, движения, она ограничена этим процессом и одновременно своей новой актуальностью опосредствует, определяет этот процесс.
Отныне материя (непосредственное) и её иное, не-материя (опосредствованное) являются тождественными моментами одновременно и отрицающими, и определяющими друг друга.
Самоопределение материи состоялось и, обретя самоопределение, материя перешла в новое качество, в котором она уже не просто нечто непосредственно данное самой себе, неограниченное, бесформенное, но теперь, определённая со стороны процесса своего движения, она движущаяся, бытийствующая реальность и как таковая уже качественно другая материя, в отличие от прежней статичной, непосредственно данной материи. В своём новом состоянии эта «другая материя» содержит в себе в снятом виде внутреннюю отрицательность, противоречивость, которая становится перманентным источником самодвижения этого нового объекта реальности (можно уже сказать — субъекта, поскольку он содержит потенцию само-развития).
Теперь можно определить сущность и форму ничто (иного), о котором говорилось выше. Ничто (иное) — это не-материальная сторона бытия (движения) материи, сущностью которой является сама история бытия, процесс возникновения и движения объективной реальности, непосредственного материального, а формой — новое актуальное состояние материального, именно в актуальности (преходящей мгновенности; данности, постоянно выходящей за собственный предел и возвращающейся в себя) которого имманентно представлен процесс его возникновения. Новая актуальная материальность самим своим наличием опосредствованно представляет процесс возникновения, становления самой себя. Так понимаемая не-материальность (процессуальность), имманентно присутствующая (представленная) в ставшем материальном, и есть идеальность как сторона бытия материального, его «своё иное».
Сущность же собственно материального, как оно определено ранее, состоит в его объективности, реальности, непосредственности, данности и в силу этих определений она (сущность) всегда совпадает с формой материального. Интересно отметить, что на этом этапе движения форма одной стороны, материи, и форма её иной стороны, идеального, совпадают. Но форма материального представлена явно, а форма идеального — неявно, опосредствованно материальным.
Следует ещё раз подчеркнуть такой нюанс — явной, реальной формой может обладать только материя, материальное. Идеальное же как не-материальное не может иметь собственной явной формы. Идеальное как «своё иное» материи может быть представлено, выражено только неявно, посредством своего материального, в его форме.
Говоря языком гегелевской диалектики материя, рефлексируя в себя своё иное — идеальное — приобретает тем самым внутреннее определение (отрицание) со стороны своего иного. Саморазличение состоялось, материя стала, говоря языком Гегеля наличной и внутренняя противоречивость материи и её отрицания — своего иного, не-материального — как сторон противоречия, является источником дальнейшего движения уже нового объекта-субъекта реальности.
Результатом разрешения отмеченного противоречия является возникновение качественно нового объекта реальности, в котором стороны противоречия — материя и её иное (рефлексия процесса движения) — представлены в снятом виде. Этот качественно новый объект, который выше был определён как «другая материя», есть не что иное, как субстанция, которой уже имманентно внутреннее противоречие, делающее субстанцию субъектом собственного развития. Теперь перманентное внутреннее противоречие представлено двумя сторонами субстанции — материальной (материя) и не-материальной, отрицающей, рефлексивной, (иное материи, процесс становления, движения), снятой в материальном.
Этот процесс — возникновение внутренней рефлексии (появление своего иного), формирование внутреннего противоречия, сторонами которого являются его материальный и рефлексивный моменты и их последующее снятие в новом качественном состоянии того, что прежде представало как материя — есть процесс становления субстанции, внутренне диалектически противоречивой саморазвивающейся сущности.
Т.о. изначально непосредственная материя, приобретая способность к самодвижению, вступает в бытие, развитие, жизнь, становится субстанцией, которая не просто существует, но бытийствует. Субстанция, в отличие от материи, внутри себя различена и опосредствована своими сторонами, которыми являются материальный момент как объективность, реальность, непосредственность, данность и не-материальный момент как представление в актуальности, наличности, процесса её возникновения, становления, развития.
Материальный момент, материальное, дан непосредственно, представлен самим собой. Не-материальный момент представлен опосредствованно — тем же материальным, но уже изменённым в процессе движения.
Можно сказать, что не-материальное как процесс становления субстанции представляет собой закон её возникновения и развития, выражающий сущность субстанции. Являясь тождественными, моменты, стороны субстанции, выражают её внутреннюю противоречивую наполненность, напряжённую интенциональность, постоянно присутствующую потенцию движения. Определённое выше не-материальное и есть идеальное, т.е. представление в материальном процесса его движения, становления.
Таковое идеальное столь же объективно как и материальное. Но если реальность материального непосредственна, то реальность идеального явлена опосредствованно, через материальное же, как процесс становления внутренне диалектически противоречивой субстанции, сторонами которой и внутренним движущим противоречием предстают её материальный и идеальный моменты.
Подведём итог. Материя, получив посредством саморазличения, самоотрицания, новое качество — противоречивость — приобретает тем самым способность к самодвижению. Теперь это не прежняя непосредственная материя, а материя, обогащённая самоотрицанием и ставшая т.о. субъектом собственного движения — субстанцией.
В субстанции в одновременном тождестве и различии представлены две её стороны, момента — непосредственно данное материальное, наличное и представленный в этом материальном (опосредствованный этим материальным, наличным) процесс его возникновения, движения. При этом не-материальная сторона субстанции, представление в наличном материальном процесса его движения, есть идеальное. В субстанции в целом снят (снятие это не только исчезание, но и сохранение, удержание) процесс её движения и в снятом виде представлен в наличном, актуальном состоянии как тождественность материальной и идеальной сторон субстанции. Постоянно присутствующая тождественность как неразрывность материальной и идеальной сторон субстанции есть одновременно их противоречивость как различие сторон, и эта тождественная противоречивость является имманентным источником самодвижения субстанции.
Логическим путём мы пришли к выводу, что идеальное есть столь же объективное и реальное как и материальное, но, в отличие от непосредственно данного материального, объективность и реальность идеального представляются посредством этого же материального как идеальная сторона их противоречивого соотношения.
Или другими словами: Материальное — объективная реальность, данная непосредственно. Идеальное — объективная реальность, данная опосредствованно (через материальное).[8, с. 232]
Субстанция — саморазвивающаяся объективная реальность, представляющая собой тождество (неразрывное единство в различии) своих сторон — материального и идеального. Механизмом саморазвития субстанции является внутреннее диалектическое (диалектическое — поскольку каждая сторона является «своим иным» другой и без неё невозможна, не существует) противоречие её сторон (моментов) — материального и идеального. Такая субстанция является субъектом собственного саморазвития — в ней Спиноза и Гегель встретились в рукопожатии.
Во избежание недоразумений следует сказать, что субстанция, о которой идёт речь, не есть нечто третье по отношению к своим сторонам, это они сами в тождестве, которое одновременно есть противоречие. Каждая из сторон есть «своё иное» другой.
Движение субстанции есть постоянный переход материального, актуального, в идеальное (которое одновременно имманентно актуальному, материальному и есть его иная сторона) и снятие их противоречивого отношения в новом качестве, в новом, становящемся актуальном, в изменённом материальном. Движение субстанции — это кипение мгновения, перманентное снятие актуальности в себе самой и непрерывное становление тем самым новой актуальности.
Движение — это постоянная негация, последовательное отрицание обеих сторон субстанции, материального и идеального, друг другом, но и одновременно их отождествление, снятие, отрицание отрицания. Это непрерывное прехождение и становление (Гегель). В движении взаимно противоречивые стороны субстанции постоянно рефлексируют («переходят» друг в друга) и снимаются в новом, столь же противоречивом, качестве. В движении субстанция одновременно и существует (бытийствует, наличествует) — и как таковая она материальна, и не существует, она «исчезает» в движении, в процессе — и как таковая идеальна.
Субстанция предстаёт как неразрывное единство и противоречивое различие своих сторон. Поэтому выражения «сторона», «момент» следует понимать так, что речь идёт не о чём-то внешнем предмету рассмотрения (субстанции), либо искусственно в нём выделяемом, а об его имманентном качестве, без которого субстанция невозможна. Внешне субстанция представлена своей материальной стороной; её идеальная сторона представляет сущность субстанции как закон её возникновения и движения. При этом стороны субстанции не изолированы друг от друга, но взаимодействуют и влияют друг на друга, определяют одна другую и рефлексируют друг друга («перетекают» друг в друга), поскольку в противном случае субстанция также существовать не может — ведь она есть тождество своих соотносящихся друг с другом противоречивых сторон. И в этом отличие от субстанции Спинозы (бога, природы), которая вполне самостоятельна и независима по отношению к своим бесчисленным и совершенно изолированным друг от друга атрибутам.
Из застывшего в изолированности отношения атрибутов Спинозы невозможно вывести все проявления необычайно подвижного материально-идеального мира реальности (и это постоянно показывает практика), обязательно наступает момент, когда мышление не в состоянии объяснить переход материального в идеальное (и наоборот), и тогда приходится обращаться к трансцендентальному — в идеализме, либо редуцировать непонятые материально-идеальные явления только к материальным феноменам и тем самым обеднять сущность реальности — в вульгарном материализме. В обоих случаях познание лишается полноты и истинности, либо остаётся в тисках неразрешимых в границах данных концепций противоречий.
Теперь возникает вопрос — принадлежит ли статус субстанциональности природе как целому или он распространяется на все её саморазвивающиеся объекты?
Единственно правильным логическим выводом будет признание, что субстанцией является не только природа в целом, но и любые материально-идеальные объекты, саморазвивающиеся вследствие возникновения, развития и разрешения внутреннего противоречия между сторонами (моментами) субстанции, которая, т.о., является субъектом собственного движения. Форма возникновения, протекания и разрешения внутреннего противоречия постоянно изменяется в новых формах субстанции по мере их появления. Многообразие мира объясняется существованием множества форм субстанций и законов их развития.
В мире нет ничего, кроме саморазвивающихся субстанций в их бесчисленных формах, вплоть до природы в целом как субстанции. Именно такое понимание выражено в условии рассматривать категории как текучие, изменяющиеся в соответствии с изменениями вещей. С этой точки зрения все вещи (предметы, явления, системы, структуры и т.п.), фиксируемые мышлением, представляют собой не что иное, как мгновенные «снимки» названных процессов, предстающие перед нами как некие устойчивые материальные образования.
Ранее логически выведенное условие признать субстанциональным качеством единство материального и идеального, которые есть стороны, моменты субстанции необходимо дополняется выводом, подкрепляемым всем действительным многообразием мира, что это многообразие возможно только в том случае, если полагать как субстанции все саморазвивающиеся вследствие внутренней противоречивости объекты природы.
Такие субстанции предстают как саморазвивающиеся сущности, представляющие единство своих сторон (моментов) — материального и идеального — тождество которых в единстве и различии предстаёт как противоречивость, являющаяся причиной и основанием движения субстанции [1, Т.1 с. 222]
Логическим путём мы пришли к заключению, что действительность представляет собой бесконечное многообразие форм саморазвивающихся субстанций, которые есть тождество материального и идеального как их сторон, моментов и нерасторжимая противоположность которых, переходящая в противоречие, составляет источник самодвижения субстанций. Т.о., субстанциональна и природа в целом, и бесчисленные формы саморазвивающихся субстанциональных сущностей, находящихся в множестве форм взаимодействий. Субстанция всеобща как выражение принципа самодвижения и одновременно особенна и единична как воплощение этого принципа в бесчисленных субстанциональных формах.
Мы подошли к очень важному пункту в понимании сущности субстанции как всеобщего, целого. Все рассуждения строились исходя из признания всеобщности принципа саморазвития субстанции, т.е. определялись им как целым, детерминировались им. Это целое, всеобщее, тем самым, незримо, но существенно присутствовало во всех логических построениях, определяя развитие частного, ограничивая его собой, возможно, даже создавая впечатление некой целесообразности. Рассуждая таким образом мы не сформулировали, нет, мы следовали естественным образом естественному же принципу детерминации частей целым.
Принцип детерминации частей целым предполагает, что субстанция как саморазвивающееся целое, всеобщее, в каждое мгновение актуально содержит в себе все свои различения, проявляющиеся как особенные и единичные субстанциональные формы движения, процессы и т.п., и не только различает, но и, в известных пределах, определяет направление и форму их развития. Именно принцип детерминации частей целым находит своё выражение в известном тезисе о всеобщей связи вещей, в этом принципе механизм такой связи просматривается совершенно отчётливо. Более того, принцип детерминации всеобщее развитие замыкает в круг — наличное целое детерминирует развитие частного, частное необходимо приходит к целому.
Т.о., принцип саморазвития субстанции, дополненный принципом детерминированности частей целым, вместе составляют тождество, имеющее всеобще-конкретный характер и выполняющее функцию всеобщей связи — с одной стороны бесчисленные саморазвивающиеся субстанции, представляющие движение от частного к целому (части формируют целое), которое (целое), с другой стороны, само есть субстанция и как таковая детерминирует свои части [4, Т.29, с. 229].
Подведём итог. Материя, рассматриваемая сама по себе, как просто существование, самотождественна и стабильна, она не имеет внутренней причины к самодвижению. Субстанцией материя становится только в неразрывном единстве со «своим иным» — идеальным. Сущность субстанционального монизма в тождестве, единстве, неразрывности в ней материального и идеального при их различии. (Субстанциональный монизм есть принцип и онтологический (диалектически развивающейся реальности), и гносеологический (диалектического мышления о реальности).
Саморазличающаяся субстанция способна к самодвижению, саморазвитию посредством перманентного возникновения, развития и разрешения противоречия между своими сторонам, моментами — материальным и идеальным — что имеет следствием снятие сторон противоречия в новом качестве и возникновение новых субстанциональных форм. При этом первоначальная сущность субстанции — существование и способность к самодвижению — снимается, и в каждом новом шаге к ней «добавляются» новые качества, конкретизирующие каждую новую форму субстанции со стороны её движения, истории. Сущность каждой формы субстанции, т.о., исторична, а умножению форм сопутствует умножение сущностей.
Обобщая, можно сказать, что сущность всех субстанциональных форм — существование в самоопределённости и дальнейшем саморазвитии в конкретных субстанциональных формах. Как таковая сущность всегда конкретна, она представляет собой снятие процессов становления и движения конкретной субстанциональной формы. Поскольку каждая вещь есть результат исключительно её собственного процесса возникновения и движения, то идеальное каждой единичной вещи уникально, даже если множество подобных вещей возникли как результаты идентичных процессов. Как таковое идеальное единичной вещи представляет в наличном вещественном, материальном, только её собственное вещественное «прошлое» и потому особенно и единично. Формы субстанционального движения Первая форма субстанционального движения. Материальное и идеальное нераздельны и непосредственны (неопосредствованы)
Выше мы определили сущность субстанции как тождественность её материальной и идеальной сторон. В этом тождестве, знаменующем собой неразрывность (единство) сторон субстанции и имеющим всеобщее значение, материальное и идеальное ещё нераздельны (Неразделённость — неявное саморазличение материального и идеального, поэтому вовне предстаёт только то, что может явить себя непосредственно — материальное. Идеальное здесь полностью скрыто в материальном — саморазличение ещё в-себе, оно нераскрыто, имплицитно. Нераздельность есть внешнее представление непосредственности материального и идеального, отсутствие опосредствующих звеньев между ними, их видимая слитность. Раздельность — явное саморазличение материального и идеального, здесь они связаны не непосредственно, а через опосредствующее звено (впоследствии оно будет определено как часть материального или другое материальное) — здесь саморазличение материального и идеального уже для-себя, актуально, действительно) и это есть особенное первой формы субстанционального движения.
Рассматриваемая форма субстанционального движения характеризуется тем, что материальное и идеальное не только тождественны (неразрывны), но и нераздельны, а это значит, что они непосредственны, т.е. материальное как целое представляет своё идеальное в целом, между ними отсутствуют опосредствующие звенья. Это первая форма субстанционального движения.
Движение субстанции проявляется как изменение её исключительно материальной стороны, происходящее, по видимости (кажимости), как следствие взаимодействия исключительно материальных же частей субстанции. Присутствие идеального при этом внешне совершенно не просматривается, что создаёт впечатление полного отсутствия идеального.
Однако это обстоятельство не должно являться основанием для диалектической мысли для элиминирования идеального как стороны субстанции из исследования этой субстанциональной формы. Следует определить в какой форме идеальное присутствует в субстанции как её сторона.
Очевидно, поскольку здесь нет особенной части материального, представляющей идеальное, то идеальная сторона субстанции будет представлена материальной стороной в целом: материальное в целом представляет идеальное в целом. Форма тождественности здесь особенная — единство, в котором различие сторон неявно, имплицитно. Именно поэтому невозможно в этой субстанциональной форме отделить идеальное от материального и наоборот, они переплетены, слитны, непосредственны.
Противоречие материального и идеального в этой форме движения глубоко скрыто внутри субъекта движения и внешне проявляется лишь как мера, как количественно-качественные соотношения взаимодействующих материальных (по видимости) сторон. Здесь нет видимого, фиксируемого противопоставления материального и идеального, что и создаёт видимость отсутствия идеального и, следовательно, противоречия между этими сторонами субстанции.
В границах данной формы субстанции, представляющей нераздельное тождество материального и идеального, возможны многочисленные формы субстанций, движение которых определяется формами взаимодействия материального. Дело дальнейшего выделения этих форм в рамках данного субстанционального отношения материального и идеального относится к компетенции естественных наук, изучающих формы взаимодействия материальных объектов (Сюда следует отнести т.н. физическую и химическую формы движения, которые являются разными формами взаимодействия субстанциональных в своём существе объектов, но не формами движения субстанции. Для удобства и простоты изложения целесообразно называть первую форму субстанционального движения инертальной (от лат. iners — косный)). Вторая форма субстанционального движения. Материальное и идеальное разделены и опосредствованы
Начав с непосредственно данного,— нераздельности материального и идеального,— диалектическая мысль не может остановиться на этой данности и обязана подвергнуть её отрицанию, при котором нераздельность материального и идеального превращается в свою противоположность — разделённость.
Развитием предыдущей формы, её диалектическим отрицанием будет субстанциональная форма, в которой материальное и идеальное существуют раздельно.
Совершенно ясно, что такое отдельное идеальное не может быть идеальным в той форме, о которой речь шла до сих пор, а именно — снятием в самой субстанции в целом процесса её собственного саморазвития, неотделяемой сущностью субстанции.
Идеальное, подлежащее теперь рассмотрению, есть более сложная форма идеального и является диалектическим развитием прежней формы, её отчуждением от себя как своего отрицания. Но, во-первых, идеального не может быть без материального, и, с другой стороны, одному материальному не могут соответствовать разные идеальные представления одного процесса его собственного движения. Попробуем логически выяснить сущность искомого идеального и одновременно определить то материальное, которое его представляет, в котором оно снято (ведь материальное и идеальное субстанциональны, тождественны).
Поскольку собственное идеальное (идеальное «своё») отрицается, то это означает, что его место должно занять другое идеальное (идеальное «иного»). Но идеальное иного представлено материальным иного и в материальном же иного.
Мы пришли к логическому противоречию: некое идеальное должно одновременно принадлежать двум разным вещам (разному материальному) — одной вещи как её собственное идеальное (в форме своего идеального) и другой вещи как идеальное этой первой вещи (в форме идеального иного). Одновременно возникает и проблема механизма отрицания, отчуждения этого идеального и его присвоения другой вещью.
Очевидно, чтобы в какой-то вещи было представлено не только её собственное идеальное, но и идеальное другой вещи, они должны быть участниками одного процесса, т.е. взаимодействовать. Однако, одного этого условия недостаточно — факт взаимодействия как некий процесс будет просто представлен в том самом своём собственном идеальном каждого из взаимодействующих объектов, которое нераздельно с материальным.
Значит, необходимо выполнение ещё одного условия — в той вещи, в которой мы предполагаем раздельное сосуществование материального и идеального, идеальное другой вещи должно быть представлено особо — как идеальное представление именно другой вещи. Следовательно, в вещи, которая способна представлять другую вещь, должна существовать особая материальная структура (ведь материальное и идеальное нераздельны), воспринимающая воздействие другой вещи и затем представляющая её идеально, т.е. как снятую, в «своей» вещи. При этом собственное идеальное этой особой материальной структуры ничтожно, сущность её состоит в представлении «иного» идеального.
Это вторая форма идеального: в вещи, которая уже обладает «своим» идеальным как снятием процесса её собственного развития, одновременно какой-то частью её материального представляется другая вещь (процесс), взаимодействующая с первой, и т.о. дополнительно возникает идеальное представление другой вещи, идеальное «иного».
Другими словами, отрицание «своего» идеального есть одновременно рефлексия особой материальной структурой другого, взаимодействующего материального, формирование т.о. идеального «иного» и представление его в снятой форме в «своей» субстанции.
Тем самым субстанция усложняется — кроме того, что она содержит внутреннее противоречие между собственными материальным и идеальным моментами, в ней происходит снятие процесса взаимодействия с внешней вещью (процессом), возникает идеальное представление внешней вещи (процесса), которое осуществляется частью материального первой вещи, её особой материальной структурой. Эта отдельно оформленная особая структура субстанции и выполняет вновь возникшую функцию — представление в идеальной (снятой) форме в «своей» субстанции другой, внешней ей вещи, процесса, субстанции.
Выявленная особая структура выполняет функцию опосредствования между «своим» и «иным». Теперь взаимодействие с другой субстанцией имеет не характер непосредственного воздействия их друг на друга, оно гораздо более сложное и в сущности, и по форме. Другая субстанция (процесс) предстаёт уже не в своей непосредственной актуальности, вещественности, а в идеальной форме — как некое «сообщение» о ней, как «ощущение» её, как рефлексия, отражение.
Т.о., в рассматриваемой субстанциональной форме можно выделить две формы идеального — идеальное собственного процесса развития (идеальное «своё»), и идеальное как представление внешней взаимодействующей субстанции, вещи (идеальное «иного»). Решающую роль здесь играет факт возникновения особой материальной структуры, функциональным назначением которой является восприятие воздействия внешней субстанции и представление её в идеальной (снятой) форме в своей субстанции. Разумеется, что идеальное представление другой вещи осуществляется не непосредственно в идеальной форме, а опосредствованно, как некие сигналы о внешнем раздражителе. Идеальность же заключается в том, что форма внешнего взаимодействия снимается и предстаёт в субстанции в совершенно ином виде, не в форме прямого, непосредственного контакта, а в форме рефлексии, отражения, сообщения о нём. Это восприятие и преобразование внешнего воздействия в другую форму осуществляется особой структурой субстанции, снимающей внешние воздействия и представляющее их в особой форме внутри субстанции. Теперь оба условия, сформулированные выше, выполнены.
В этой форме субстанции, являющейся диалектическим отрицанием первой формы, в которой материальное и идеальное нераздельны, представлены уже две формы идеального — та же, что и в первой форме субстанции, т.е. идеальное собственного процесса (своё идеальное, нераздельное) и идеальное другой вещи как её представление, снятие в этой вещи (идеальное иного, отдельное). Это перекликается с ильенковским идеальным: «…один материальный объект, оставаясь самим собой, выступает в роли представителя другого объекта, а ещё точнее — всеобщей природы этого объекта, всеобщей формы и закономерности этого другого объекта». Но есть и отличие — представителем другого является не весь объект, а его особая структура.
Эти субстанции реагируют на внешние воздействия не как субстанции первого вида, т.е. непосредственным изменением своей вещественности, структуры (вплоть до разрушения), а опосредствованно, реагируя на сигналы своего особого органа (эволюционно развивавшегося по возрастающей — особые клетки, нервный узел, мозг) и приспосабливаясь, по возможности, к новой ситуации. Возникают новые природные феномены — поведение и его форма, приспособление и, как следствие, телеологичность в самой примитивной форме как стремление к самосохранению. Собственно эти феномены, как следствие появления особого органа и его функционального назначения — формирования идеального иного, и отличают «живые» субстанции от «неживых», косных. Живое только то, что внутри себя явно отделяет идеальное от материального посредством особого материального органа. Совершенно ясно, что возникновение жизни как явного разделения (отличения, отчуждения) идеального от материального невозможно, если в не-жизни предварительно не содержатся имплицитно, не сосуществуют в неявном виде материальное и идеальное.
Очевидно, вторую форму субстанционального движения целесообразно называть витальной (от лат. vita — жизнь, vivus — живой).
В живой субстанции своё идеальное является пассивной формой, определяемой изменением материального тела. Идеальное же иного начинает играть активную роль в поведении субстанции как фактор, его инициирующий, определяющий. Оно становится явным и относительно независимым, это уже идеальное для-себя.
Возникающее противоречие между наличным состоянием субстанции и внешними объектами-раздражителями, которые внутри субстанции предстают как активная форма идеального, становится внутренним источником движения субстанции, её реакцией на внешнее воздействие, адаптацией к изменившимся условиям. Эта реакция может быть двоякого рода — внешнее изменение как изменение формы взаимодействия субстанции с другим объектом (поведенческая адаптация) и внутреннее изменение как изменение структуры, свойств, сущности субстанции (эволюционная адаптация).
Идеальное неживой природы нераздельно с материальным, непосредственно, оно в-себе, в возможности, в потенции, скрытое. Здесь, по видимости (но не по сущности), явная первичность материального как активного фактора.
Идеальное живой природы выходит из тени. Оно существует в двух формах — одновременно и в-себе как своё идеальное, и для-себя как идеальное отражение внешней вещи, как своё иное, вернее своё иного. Теперь идеальное не только представлено явно, наравне с материальным, но и выполняет ведущую роль как инициатор возникновения противоречия между материальным и идеальным. Третья форма субстанционального движения
Логически определив ранее две формы субстанционального движения — первую как форму, в которой материальное и идеальное нераздельны, непосредственны, а вторую как форму, в которой материальное и идеальное разделены и опосредствованы — следует решить вопрос и о форме субстанции, в которой материальное и идеальное не только разделены, но которая способна отчуждать идеальное в идеальном же — в мышлении — и действовать с этим идеальным объектом самостоятельно.
Сущность субстанций второй субстанциональной формы движения заключается в том, что, не имея возможности самостоятельных действий с идеальным иного, они реагируют непосредственно на это идеальное и, т.о., их реакция будет приспособительной реакцией, поведенческой ли, эволюционной ли, но приспособительной. Эти субстанции в своих действиях всецело детерминированы внешним миром, поскольку не в состоянии отчуждать идеальное в форме самостоятельного объекта, и могут реагировать на идеальное отражение внешнего мира только непосредственной реакцией, поведенческой либо эволюционной. Такие субстанции приспосабливаются к внешнему миру.
Выше мы говорили об особой структуре субстанции, снимающей и преобразующей внешнее взаимодействие в форму внутреннего воздействия за которым следует реакция субстанции, которая, как было сказано, может быть двоякой. Этот процесс восприятия внешнего воздействия и его преобразования во внутреннее воздействия есть не что иное, как процесс рефлексии, отражения, в котором решающую роль играет особый орган, мы уже имеем право так сказать, орган отражения, или даже более определённо — отражения и управления, поскольку отражение внешнего имеет следствием некое внутреннее воздействие, управляющее последующим изменением субстанции.
Очевидно, что орган (органы) отражения представляет в субстанции в идеальной форме не только внешние воздействия, но и внутренние состояния собственной субстанции, и по этой причине становятся возможными отмеченные выше процессы поведенческой и эволюционной адаптации как следствие формирования органом отражения субстанции идеальных представлений о внешнем окружении и внутреннем состоянии, на которые субстанция, подчиняясь уже управляющим сигналам органа отражения, реагирует определённым образом.
Т.о., результатом функционального разделения материального и идеального, их раздельного представления, является возникновение в явном виде феномена отражения, имеющего две формы проявления. Отражение как восприятие — это идеализация материального процесса, объекта, осуществляемая особым органом субстанции, органом отражения. Вслед за восприятием следует реакция на него — управляющее действие, превращение идеального импульса (т.е. представления внешнего объекта) во вполне материальные изменения субстанции, внешние — поведенческие, либо внутренние — сущностные.
Наличие феномена отражения, который имеет следствием появление способности у живых субстанций к изменениям, как поведенческим, так и сущностным, становится необходимым условием эволюции и приспособления видов. Применительно к процессу отражения уже можно говорить о равнозначности материального и идеального, они равноправны и, взаимодействуя, перетекают друг в друга.
Т.о. отражение в обобщённом виде есть форма опосредствования взаимодействия материального и идеального, и одновременно механизм разрешения противоречия между ними в живых субстанциях.
Отражение есть основа движения субстанции на принципиально новой основе — опосредствовании раздельно представленных материального и его активного идеального. Феномен отражения по мере развития живых субстанций проявляется вначале случайно, робко, неуверенно и непостоянно, затем всё более уверенно и в человеке представлен уже совершенно явно. Отражение есть феномен всеобщий — действующий и в неживой, и в живой природе. Процесс отражения лежит в основании движения всех субстанциональных форм, а не исключительно живых форм, но в разных формах движения субстанций он действует также в разных формах. В неживой субстанции неявно, как принципы снятия частного в целом и детерминации частей целым (что проявляется в форме т.н. законов природы), в живой субстанции в явном виде, как идеализация материального и материализация идеального (заметим, что принципы снятия частного в целом и детерминации частей целым как всеобщие распространяют своё действие и на живые субстанции). Здесь уместно ещё раз напомнить ленинские предположения: «...ощущение признается одним из свойств движущейся материи»; «…„в фундаменте самого здания материи“можно лишь предполагать существование способности, сходной с ощущением»; «…в ясно выраженной форме ощущение связано только с высшими формами материи (органическая материя)».
Сокращая путь логических рассуждений можно представить итоговый вывод, что орган отражения — мозг — развивается до такого уровня, что появляется способность отражать содержание собственного, до сих пор образного, неразрывного с действительностью, мышления — появляется феномен отражения отражения. Возникает самосознание. Рождается человек. Отражение отражения, самоосознание субстанции — это последняя форма в развитии феномена отражения, сложнее которой быть не может, поскольку диалектический процесс возникновения, развития и разрешения противоречия завершён, отрицание отрицания свершилось. Этот вывод, к которому мы пришли положительно, Э.В. Ильенков сформулировал с отрицательной стороны: «Мышление бесспорно, есть высший продукт всеобщего развития, есть высшая ступень организации взаимодействия, предел усложнения этой организации. Формы более высокоорганизованной, чем мыслящий мозг, не только не знает наука но и философия принципиально не может допустить даже в качестве возможного, ибо это допущение делает невозможной самое философию [3, с. 417].
Субстанция, обладающая самосознанием, т.е. способностью отчуждать непосредственно данное идеальное в самостоятельный объект мышления и действовать с ним в соответствии с законами диалектики (т.е. рассматривать свой идеальный объект в его самодвижении) получает, т.о., новое идеальное, и, как следствие, имеет потенциальную возможность реагировать именно на это новое идеальное, полученное как результат мышления. Реакция субстанции, направленная вовне, это уже не непосредственное действие в ответ на внешнее воздействие, а действие, опосредствованное процессом мышления, вернее, его результатом, неким знанием. Такая субстанция в состоянии уже не только приспосабливаться к внешнему миру, но и изменять внешние условия своего существования. В своём историческом развитии субстанция, обладающая самосознанием, в итоге приходит к новой форме взаимодействия с внешней средой — она начинает вначале приспосабливать внешний мир к себе, а затем создавать свой собственный искусственный мир. «… Существеннейшей и ближайшей основой человеческого мышления является как раз изменение природы человеком, а не одна природа как таковая, и разум человека развивался соответственно тому, как человек научался изменять природу» [5, Т. 20, с. 545]; «… Человек воздействует обратно на природу, изменяет её, создаёт себе новые условия существования» [5, Т. 20, с. 546].
Налицо принципиальное изменение сущности и, как следствие, формы субстанционального движения, на основании чего субстанцию, способную в мышлении отчуждать идеальное и самостоятельно преобразовывать его, а затем действовать на основании полученного нового идеального (знания), следует признать самостоятельной, третьей формой субстанционального движения. Такая субстанция известна только одна — человек. Возможно, целесообразно называть третью форму субстанционального движения антропной (от др.-греч. ἄνθρωπος — человек). Применяемую в настоящее время формулу «социальная форма движения» нельзя признать удачной, поскольку социумы (сообщества) существуют у самых разных видов животного мира, т.е. во второй форме субстанционального движения (витальной).
Очевидно, что имеет смысл на основании проделанного анализа выявить сущность человека как особенной субстанциональной формы.
Мышление как деятельность сознания есть только момент, сторона сущности человека как субстанции. Другой стороной является его практическая деятельность, неразрывно связанная с мышлением и одновременно противостоящая ей. Человек возможен только как тождество бытия и сознания, практики и мышления.
Человек как субстанция существует только в диалектическом единстве этих сторон, их непрерывном взаимодействии, переходе друг в друга, в их противоречии и снятии этого противоречия — т.е. только в движении, развитии. Суть этого процесса заключается в движении от отражения внешнего мира и представления его в форме идеального содержания сознания и последующих действий мышления со своими идеальными объектами (процесс познания) — к практическому воплощению знания, материализации (процесс практики) — и затем снова к отражению в сознании сущности полученного практического результата и дальнейшей работы с новыми идеальными объектами. В целом — это активная, преобразующая внешний мир, деятельность, конечным результатом которой является создание искусственного мира, приспособленного к человеку.
Т.о. сущность человека как субстанции (субстанциональная сущность человека) состоит в целостности его жизнедеятельности как постоянно возобновляющегося циклического процесса отражения,— идеализации материального и материализации идеального,— которая (жизнедеятельность) предстаёт как единство (тождество) взаимодействующих обоюдонаправленных процессов,— единства познания (идеализация материального) и практики (материализация идеального) «…Свободная сознательная деятельность как раз и составляет родовой характер человека» [5, Т.42, с. 93]; «…именно в переработке предметного мира человек… действительно утверждает себя как родовое существо.» [5, Т.42, с. 94] — имеющих итогом приспособление внешнего мира к человеку, а не наоборот. Результатом является создание искусственной среды обитания, искусственной природы, посредством которой человек формирует условия своего дальнейшего саморазвития. Хотя и в другом контексте, и другими словами, но фактически то же самое сказал Э.В. Ильенков: «Логические — диалектические — законы и суть не что иное, как законы процесса «обмена веществ» между человеком (обществом) и природой, законы превращения объективного в субъективное и обратно. Законы процесса циклического, точнее, спиралевидного, с каждым циклом расширяющего свои масштабы.
Поэтому законы диалектики (логики) и связывают в одно целое и природу, и общество, и «мышление» (познание, понимание). Это именно законы связи, взаимоперехода одного в другое, формы их реального конкретного тождества, законы процесса отождествления, понимаемого как превращение одного в другое, непосредственно естественно природного в общественное, историческое бытие человека» [2, с. 101].
При этом субстанциональность человека проявляется и в индивидуальной форме, и в форме сообщества (другими словами субстанционален и отдельный человек, индивид, и его группы (сообщества, развивающиеся по своим внутренним правилам), и общество в целом). Однако, и индивид, и группы (сообщества) индивидов могут обрести именно человеческую субстанциональность как способность создания искусственного мира только в обществе как целом. В этой противоречивой тождественности общество — всеобщее, группы индивидов (сообщества, классы и т.п.) — особенное, индивиды — единичное. Поскольку материальный процесс развития каждого общества исторически конкретен (индивидуален) и снимается в его конкретном же идеальном (качествах, свойствах), то каждое общественное образование несёт на себе печать (родовые качества, если угодно) истории именно своего общества как целого, всеобщего, а индивиды также и особенного — своего социального слоя.
Исходя из определённой выше сущности человека можно сделать самый общий вывод: полное и свободное развитие человека как субстанции и в форме индивида, и в форме общества возможно только при отсутствии ограничений такому развитию, т.е. при наличии (вернее, при создании самим человеком) таких условий, которые позволяют раскрыть все потенции человека как саморазвивающейся субстанции — и как личности, и как сообщества личностей, всех без исключения. Следовательно, необходимо наличие вполне определённых материальных и идеальных условий, не только не ограничивающих ни с одной из сторон (материальной либо идеальной) развитие человека, но и способствующих такому развитию.
Очевидно, что этот вывод следует ещё раз подчеркнуть — сама субстанциональная сущность человека необходимо диктует ему условия его развития — полное освобождение человека (и в форме индивида, и в форме сообщества) от всех моментов, связывающих и ограничивающих его само-деятельность, отчуждающих его от свободной творческой деятельности. Полностью свободная деятельность — вот субстанциональная сущность человека (и индивида, и общества в целом). Цель этой деятельности — познание и изменение внешнего мира в интересах человека. (Впрочем, нельзя исключить возникновения в отдалённом будущем цели и более высокого — космического — порядка: осуществление космических антиэнтропийных процессов, о чём говорил Э.В. Ильенков в «Космологии духа». Субстанциональная сущность человека не только не налагает на подобные действия никаких ограничений, но, напротив, способствует этому.)
Эти условия может создать только сам человек и только сознательной деятельностью, спонтанно они не возникнут. Отсюда следует второй вывод — на каком-то уровне своего развития человек должен перейти к осознанному управляемому саморазвитию. Четвёртая форма субстанционального движения
С соединением в человеческой практике материального природы и собственно человеческого идеального в форме знания возникает новый природный феномен.
Человек, отчуждая от себя в процессе деятельности, практики, идеальное в форме знания и воплощая его в продуктах труда, создаёт новый мир. Знание, воплощённое человеком в веществе природы, в продуктах труда как их идеальное содержание, порождает новую субстанциональную форму. Возникает форма субстанции, внешне совпадающая с первой формой субстанционального движения, в которой материальное и идеальное нераздельны. Но форму субстанционального движения, о которой здесь идёт речь, следует признать вполне самостоятельной формой, поскольку идеального, воплощённого человеком в продуктах своей деятельности, т.е. знания как концентрированного и одновременно избирательного и комбинированного выражения законов природы, в природных вещах не существует. Это искусственное идеальное, существующее только в «очеловеченной» форме и являющееся результатом жизнедеятельности человека, придаёт продуктам труда форму и качества, которых нет в природе, заставляет их действовать по своим имманентным законам, определяемым их очеловеченным идеальным. Эта, по сути, иная, новая природа (вторая природа по Энгельсу), обладает, как уже говорилось, принципиально новым субстанциональным качеством.
Человек, создавая с помощью своего идеального (знания) новое материальное, т.е., говоря другими словами, помещая идеальное в форме знания в материальное, создаёт новую форму движения субстанции — очеловеченное материальное.
Пока эта форма субстанции всецело несамостоятельна и полностью зависит от человека не только как определяемая им, но и потому, что ещё совершенно не развита. Её предназначение до сих пор, в основном, узко специфично — обеспечение жизнедеятельности человека, причём жизнедеятельности в буквальном смысле, как его самосохранения, выживания, хотя потенция этой формы субстанции безгранична, как безгранична природа и её законы. Пока невозможно указать на принципиальные ограничения на создание с использованием познанных природных законов любых объектов и процессов (в т.ч. и саморазвивающихся), сколь бы сложны и масштабны они ни были — вплоть до космического масштаба. (Для краткости можно называть четвёртую форму субстанционального движения артифициальной (от лат. artificialis — искусственный), либо, что даже предпочтительнее, ноосферной, в том смысле, который вкладывал в это понятие В.И. Вернадский.)
Здесь можно ещё отметить, что с созданием саморазвивающихся объектов, т.е. таких, развитие которых не требуют дальнейшего вмешательства человека, четвёртая форма субстанционального движения отождествляется, смыкается с первой формой и т.о. всё субстанциональное движение замыкается в круговое движение. Точнее сказать, это спиральная форма, на каждом новом витке которой все предыдущие формы диалектически снимаются в высшей форме.
Естественно, что для каждой формы субстанционального движения характерны свои особенные внутренние противоречия, являющиеся источником их самодвижения, но это другая тема.
Литература
Гегель Г. Наука логики. В 3 т.— М.: Мысль, 1970.
Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. Избранные статьи по философии и эстетике.— М.: «Искусство», 1984.
Ильенков Э.В. Космология духа // Философия и культура.— М.: Политиздат, 1991.
Ленин В.И. ПСС. 5-е изд.— М., 1967.
Маркс К., Энгельс Ф. 2-е изд. Соч. В 50 т.— М., 1955.
Спиноза Б. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1.— М., 1957.
Философская Энциклопедия. В 5 томах.— М., 1960–1970.
Петров А.П. К проблеме идеального / Э.В. Ильенков и философия Маркса. Сборник научных трудов (под ред. Г.В. Лобастова).— Усть-Каменогорск, 2018.
1.13. Солопов Е. Ф. Э. В. Ильенков об идеальном
Проблемы идеального и мышления в целом были в центре внимания Э.В. Ильенкова. Он ввел расширительное понимание идеального, включающего не только субъективные, но и объективные отношения между любыми объектами, в которых один из них определенным образом представляет другого. В этом случае понятие идеального фактически подменяется общим понятием информационного отражения, теряя свою специфику. Но больше всего Ильенков писал об идеальном как субъективном, мыслительном образе объективной реальности. В разработку именно данного, традиционного материалистического, понимания идеального он и внес наибольший вклад, раскрывая при этом взаимосвязь идеального и мышления с трудом, общественно-исторической деятельностью человека, культуры в целом. Далее, Ильенков постоянно подчеркивал также связь идеального с объективными и устойчивыми общими и всеобщими отношениями, законами, которые превращались у него подчас в бестелесные, самостоятельно существующие силы, управляющие, подобно платоновским идеям, взаимодействиями материальных тел. Общавшийся с философом литературовед и историк В.В. Кожинов вспоминал: «Близкие ему люди знают, что Эвальд Ильенков был убежден во вполне реальном бытии понятий …». Сказанное обосновывается ниже анализом конкретных положений нашего выдающегося философа.
Итак, Ильенков: «От структур мозга и языка идеальный образ предмета принципиально отличается тем, что он — форма внешнего предмета. От внешнего же предмета идеальный образ отличается тем, что он опредмечен непосредственно не во внешнем веществе природы, а в органическом теле человека и в теле языка как субъективный образ. Идеальное есть, следовательно, субъективное бытие предмета …».
Э.В. Ильенков настойчиво, многократно варьирует важнейшую мысль: идеальное и язык символов как внешнее тело идеального образа внешнего мира рождается именно в труде, в процессе преобразования человеком окружающего мира и самого себя, совершающегося в общественно развитых и общественно определенных формах. Значение данной мысли оценивается Э.В. Ильенковым словами: «Здесь — тайна идеального, и здесь же — ее разгадка». При этом подчеркивается, что идеальный образ требует для своего осуществления вещественного материала, в том числе языка. Поэтому труд рождает потребность в языке, а затем и сам язык». Обратим внимание, что язык, слово совершенно правильно характеризуется именно как материальная форма выражения идеального содержания. В дальнейшем же, перейдя к расширенному определению идеального, Э.В. Ильенков будет говорить о языке как об идеальной форме, в результате чего создается путаница и расхождение с веками установленным пониманием соотношения идеальной мысли и материального слова, языка вообще.
А теперь воспользуемся другой его работой — статьей «Диалектика идеального». Здесь уже товар как материальная вещь, выступающая формой выражения стоимости (тоже материального, объективного отношения), характеризуется как идеальная форма стоимости, но не в смысле мысленной формы, а в смысле, что здесь этот товар, выступает не сам по себе, а в роли представителя и меры величины стоимости другого товара. Идеальность понимается уже по-другому, а термин сохраняется старый. Это тоже неизбежно порождает путаницу.
Часто Э.В. Ильенков допускает логическую противоречивость, называя человека природным существом и вместе с этим признавая его способность к целесообразной преобразующей деятельности. «В процессе труда человек, оставаясь (? — Е.С.) естественно-природным существом, преобразует как внешние вещи, так и (тем самым) и свое собственное «природное» тело, формирует природную материю (включая сюда материю собственной нервной системы и мозга, ее центра), превращая ее в «средство» и в «орган» своей целесообразной жизнедеятельности». Значит, в результате длительного социального развития человек перестал быть природным существом, усовершенствовал структуру и функционирование мозга и стал готовым к дальнейшему социальному развитию. Напрашивается вопрос, почему только человек способен к интериоризации, к переводу внешней действительности в свой внутренний мир? Почему животные, живущие вместе с человеком в той же самой окружающей окультуренной среде не могут аналогичным образом формировать сознание и личность? Потому что они не способны, не приспособлены телесно и психически к труду,— можно ответить и добавить, что все их тело не приготовлено к этому.
Очень важное размышление Ильенкова: «Идеальная форма — это форма вещи, но вне этой вещи, а именно в человеке, в виде формы его активной жизнедеятельности, в виде цели и потребности. Или наоборот, это форма активной жизнедеятельности человека, но вне человека, а именно в виде формы созданной им вещи. «Идеальность» сама по себе только и существует в постоянной смене этих двух форм своего «внешнего воплощения», не совпадая ни с одной из них, взятой порознь. Она существует только через непрекращающийся процесс превращения формы деятельности в форму вещи и обратно — формы вещи — в форму деятельности (общественного человека, разумеется).
Попробуйте отождествить «идеальное» с одной из этих двух форм его непосредственного существования, и его уже нет. Осталось одно лишь «вещественное», вполне материальное тело и телесное же отправление этого тела. «Форма деятельности», как таковая, оказывается телесно закодированной в нервной системе, в сложнейших нейродинамических стереотипах и «церебральных механизмах» схемой внешнего действия материального человеческого организма, единичного тела человека. И никакого «идеального» внутри этого тела, как ни старайтесь, вы не обнаружите. Форма же вещи, созданная человеком, изъятая из процесса общественной жизнедеятельности, из процесса обмена веществ между человеком и природой, опять-таки окажется просто материальной формой вещи, физической формой внешнего тела, и ничем более. Так, слово, изъятое из организма человеческого общежития, и есть не более как акустический или оптический факт. «Само по себе» оно так же мало «идеально», как и мозг человека.
И только во взаимно-встречном движении двух противоположных «метаморфоз», формы деятельности и формы вещи, в их диалектически противоречивом взаимопревращении «идеальное» и существует.
Поэтому-то с проблемой идеальности вещей и смог справиться только материализм диалектический».
Прекрасно сказано. Но что в целом означает сказанное? Сами по себе изделия, произведенные человеком, отсоединенные от его живого труда и живого мышления (!), представляют, как и природные объекты, чисто материальные вещи, мертвые «железки». И человеческий мозг, выключенный из живой деятельности человека, не включенный в его процесс мышления, в его внутренний мир, психику и сознание — это тоже просто органическое тело. Чтобы «очеловечить» все это, чтобы обнаружить в этих материальных вещах скрытую (закодированную) в них информацию, надо превратить ее в мысль и сознание человека, т.е. в то, что издавна и называется идеальным в собственном смысле этого слова, т.е. нематериальным, бестелесным, неощущаемым и вместе с тем по-особому, по-своему существующим (идеально, мысленно существующим). Таким образом, надо признать, что идеальное как таковое неразрывно связано с мышлением, сознанием человека и нормальным функционированием его мозга. Именно об этом постоянно пишет Д.И. Дубровский.
Теперь можно перейти к главному, чего нет в использованных текстах Э.В. Ильенкова,— к вопросу об историческом возникновении человеческого сознания и собственно идеального. До сих пор речь шла о формировании сознания и идеального только в онтогенезе ребенка, об усвоении им под руководством взрослых уже существующей культуры, созданной предшествующим развитием общества трудом предшествующих поколений людей. Речь шла об уже сформировавшемся человеческом труде, вполне целенаправленном (это точнее, чем называть его просто целесообразным) благодаря тому, что у человека как субъекта труда уже сформировался мозг, способный обеспечивать абстрактное мышление и сознание. А как это все возникло исторически?
В этой связи ценными представляются выводы Ю.И. Семенова о том, что производственная деятельность людей не сразу стала сознательной и волевой, что целенаправленной сознательной деятельности предшествовал труд, который еще не освободился от своей примитивной, инстинктивной формы. По предположению исследователей, мышление и язык начали формироваться через 1 млн лет после начала производственной деятельности людей, а именно в период 1,0 — 1,8 млн лет назад. Но именно участие сначала в примитивной, а затем во все более усложняющейся трудовой деятельности приводило к совершенствованию всего тела человека, в том числе и прежде всего его мозга, что и обеспечило, в конце концов, возникновение абстрактного мышления, сознания и языка. Вместе с этим возникало как продукт труда и мышления и идеальное, способное противопоставлять себя материальному, материи, причем именно для того, чтобы точнее, глубже, адекватнее отражать, познавать как материю, так и сознание, как материальное, так и идеальное бытие, как объективную реальность, так и субъективную.
Развивающаяся трудовая деятельность древних людей породила, в конце концов (40–35 тыс. лет назад), мозг человека homo sapiens, способный в ходе онтогенеза родившегося ребенка в общении и взаимодействии с другими людьми совершенствоваться количественно и качественно, структурно и функционально, и на этой основе обеспечивать усвоение ребенком сначала элементарных, а потом все более усложняющихся навыков деятельности, мышления и речи, все новых и новых достижений общественно-исторической человеческой культуры.
Э.В. Ильенков снова и снова вынужден возвращаться к классическому пониманию идеального как субъективного образа объективной реальности, создаваемого людьми и закрепляемого в их индивидуальном и общественном сознании. «Человек способен изменять форму своей деятельности (или идеальный образ внешней вещи), не трогая до поры до времени самой вещи. Но только потому, что он может отделить от себя идеальный образ, опредметить его и действовать с ним, как с вне себя существующим предметом... Архитектор строит дом не просто в голове, а с помощью головы, в плане представления на ватмане, на плоскости чертежной доски. Он тем самым изменяет свое внутреннее состояние, вынося его во вне и действуя с ним, как с отличным от себя предметом. Изменяя таковой, он потенциально изменяет и реальный дом, т.е. изменяет его идеально, в возможности. Это значит, что архитектор изменяет один чувственно воспринимаемый предмет вместо другого... Только вещь-то здесь изменяется особая; она — только опредмеченное представление или форма деятельности человека, зафиксированная как вещь».
Надо обратить внимание на то, что Ильенков связывает здесь идеальное с психофизиологическим состоянием архитектора, которое выносится во вне и опредмечивается в словах и чертежах. Изменяя эти материальные вещи, архитектор изменяет уже опредмеченный в них идеальный образ создаваемого дома. И очень важно иметь в виду, что данные вещи — «только опредмеченное представление, или форма деятельности человека, зафиксированная как вещь». И в заключение: «Идеальное и есть не что иное, как совокупность осознанных индивидом (выделено мною — Е.С.) всеобщих форм человеческой деятельности, определяющих как цель и закон волю и способность индивидов к деянию... А значит, предполагает способность сознательно сопоставлять идеальный образ с реальной действительностью еще не идеализированной».
Ни в коем случае нельзя упускать из виду теснейшую, просто неразрывную взаимосвязь категорий материального и идеального с категориями материи и сознания, с основным вопросом философии об их соотношении. Идеальное есть инобытие именно материи (материальных объектов, их свойств и отношений) и именно в сознании человека, а не в чем-либо ином. Идеальное не есть всякое инобытие всякого объекта в любом другом объекте. Идеальное и материальное обозначают именно гносеологическую противоположность материи и сознания. Инобытие одного в другом — чисто онтологическая категория, она, конечно, более общая, чем категория идеального, но и более абстрактная, в смысле менее содержательная. Подмена идеального абстрактным инобытием одного в другом — это уход от выбора между материализмом и идеализмом, это внесение путаницы в решение данного вопроса.
Всякий отрыв чего-либо от материи с целью поставить это что-либо на место и вместо материи — вот где начинается идеализм и во всяком случае прямая дорога к идеализму. А с помощью чего осуществляется все это? Только с помощью сознания и лежащего в его основе абстрактного мышления. И только в самом сознании возможен отрыв от материи ее атрибутов и свойств, прямое или косвенное признание их идеальными, т.е. нематериальными, относящимися к сфере сознания, а не материи. Поэтому всякая разновидность идеализма порождается обязательно сознанием и заключается так или иначе в отрыве от материи и противопоставлении ей самого сознания и создаваемого им того или иного мира идей. И обо всем этом просто и точно писал В.И. Ленин, анализируя случай отрыва от материи движения: «оторвать движение (как и любой другой атрибут или частное свойство — Е.С.) от материи равносильно тому, чтобы оторвать мышление от объективной реальности, оторвать мои ощущения от внешнего мира, т.е. перейти на сторону идеализма. Тот фокус, который проделывается обыкновенно с отрицанием материи, с допущением движения без материи, состоит в том, что умалчивается об отношении материи к мысли. Дело представляется так, как будто бы этого отношения не было, а в действительности оно протаскивается тайком, остается невысказанным в начале рассуждения, но выплывает более или менее незаметным образом впоследствии». И еще: «Существенно то, что попытка мыслить движение без материи протаскивает мысль, оторванную от материи, а это и есть философский идеализм».
В плане понимания сущности идеального Ильенкова особенно интересовали общие отношения. В итоге вслед за Платоном и Гегелем он стал называть «идеальной формой» не что иное, как общие и всеобщие объективные законы движения материи, которые отражаются сознанием человека в виде законов науки, диалектики, системы категорий. Вот они-то и являются идеальной, мысленной формой. Чуть ниже Ильенков так и напишет о различии материальных форм отношений между людьми и идеального выражения их «в формах их сознательной целесообразной воли, т.е. в виде … устойчивых идеальных образований».
Затем Ильенков переходит к проблеме «так называемых «идеальных, или абстрактных объектов» математического знания», заявляя при этом, что если считать эти объекты находящимися только в сознании людей, то значит, якобы, что математика изучает лишь процессы в самом сознании, а не в реальном мире. И здесь же он приписывает оппонентам отождествление сознания и идеального с «некоторым чисто психологическим или психофизиологическим ментальным феноменом», который на самом деле является скорее не моментом сознания, а его внешней, материальной основой.
Сам Ильенков прекрасно знал, что идеальное содержание человеческого мышления отражает прежде всего внешний мир, охватывая его во всей его бесконечности, а не только и не столько саму психофизиологию мозга. Идеальное, мысленное богатство людей настолько велико (или мало), насколько велик (или мал) мир их знаний, целей и интересов. Большинство людей, в том числе ученых, кроме специалистов в области психофизиологии, ее феномены не интересуют, но никто не может обойтись без изучения той части идеального содержания сознания, которая относится к их специальности. И все-таки идеальный, мысленный мир людей напрочь привязан к их сознанию, он может быть бесконечно богат, но лишь пока существуют мыслящие люди, их сознание и разнообразные материальные носители идеального.
Математические идеальные объекты, мысленные абстракции вообще могут быть очень далеки от объективной реальности, но в определенных условиях и случаях они оказываются весьма полезным познавательным средством. Н.И. Лобачевский, например, создавал свою геометрию просто как воображаемую, а позже она нашла применение в качестве математической основы специальной теории относительности А. Эйнштейна.
Еще Энгельс писал о том, что в целях специального изучения количественные отношения и пространственные формы математики сначала отделяют от их содержания и конкретных материальных объектов, а потом забывают об этом и начинают представлять общие отношения «как нечто самостоятельное, как явившиеся извне законы, с которыми мир должен сообразоваться». Так, к сожалению, и Ильенков, увлеченный идеей объективности идеальных форм, писал о всесильности бестелесных форм, управляющих судьбами вполне телесных вещей. Показательно, что здесь он говорил именно об управляющей, господствующей роли всеобщих отношений. Объективно же существуют лишь различные взаимодействия самих объектов и, в конечном счете, вечная, абсолютная устойчивость всеобщей их взаимосвязи, т.е. всего мира. Всеобщие законы диалектики и общие законы естественных и общественных наук не командуют, не управляют ходом мировых процессов, а лишь отражают в сознании ученых объективную сущность, внутренне присущую самим этим процессам.
1.14. Хамидов А. А. Мировоззрение: архитектоника и культуро-историзм
Для общества, как и для индивида, жизнь без мировоззрения представляет собой патологическое нарушение высшего чувства ориентирования. Альберт Швейцер [1, с. 73].
«Что такое мировоззрение? — спрашивает А. Швейцер и отвечает: — Совокупность волнующих общество и человека мыслей о сущности окружающего мира, о положении и назначении человечества и человека в нём» [1, с. 71]. Стало быть, содержанием мировоззрения являются, в первую очередь, 1) Мир как таковой, то есть Мир как некое целое, 2) Человек в Мире, также как целое, то есть в своей сущности и 3) способ бытия Человека в Мире, то есть их взаимоотношение. Стало быть, в мировоззрении, как отмечает С. Л. Рубинштейн, «стоѝт вопрос не только о человеке во взаимоотношении с миром, но и о мире в соотношении с человеком как объективном отношении» [2, с. 7].
Понятно, что, когда речь идёт о мировоззрении, то говорится о нём как об имеющем отношение к сознанию — как общественному, так и к индивидному (хотя, конечно, по своей сущности последнее также является общественным и общественно-историческим). Следовательно, сначала необходимо определить место мировоззрения в архитектонике сознания. В архитектонике общественного сознания обычно выделяются несколько уровней. Мы отметим лишь уровень специализированного сознания и уровень обыденного сознания. Первый занимает верхнюю позицию, второй — нижнюю. К уровню специализированного сознания относится то, что в историческом материализме называлось формами общественного сознания. Однако представители данного раздела Государственной философии относили к ним не только правосознание, политическое, этическое сознание и философию, но также религию, искусство и науку. Но ведь, скажем, современная наука, особенно естествознание, немыслимо без своей материально-технической базы, которую никак нельзя отнести к сфере сознания. Но это не значит, что не существует религиозного, эстетического и специфически когнитивного, то есть познающего сознания.
Ряд из этих форм общественного сознания непосредственно вырастают из соответствующих мироотношенческих модальностей — когнитивной, этической, эстетической, религарной (неконфессионализованной религиозной). Философия вырастает из рефлексивной мироотношенческой модальности. Маркс писал: «Отношение философской системы к миру есть отношение рефлексии» [3, с. 210]. Хотя эти модальности формируются не одновременно, они по своей сущности примордиальны, тогда как политика и право и соответствующие им формы сознания не только вторичны, но и паразитарны относительно примордиальных модальностей.
Мировоззрение, конечно, тоже есть форма общественного и индивидного сознания, но она отнюдь не расположена в ряду перечисленных форм. Она занимает место над ними. В нём в идеальной (ideelle) форме резюмируется наличное миро-отношение и его основные модальности (когнитивная, этическая, эстетическая, религарная и др.). Таким образом, мировоззрение — это своеобразная, часто неосознаваемая рефлексия над мироотношением. В той или иной форме и степени мироотношение корректируется в мировоззрении и, в свою очередь, результаты такой коррекции в виде ориентиров снова адресуются мироотношению. И данный процесс постоянно воспроизводится и повторяется. Так мировоззрение и мироотношение взаимно корректируют и совершенствуют друг друга.
Как и вообще общественное сознание, мировоззрение также обладает некоторой архитектоникой, которую можно изобразить как в виде ядра и концентрических кругов вокруг него, так и в виде иерархии уровней, в которой более высокие занимают более высокие позиции, а более низкие — соответственно более низкие. Ядром мировоззрения являются универсально-всеобщие определения Бытия, или категории и целые категориальные ансамбли (то, что по традиции называют законами диалектики) и объективная логика их взаимосвязи — диалектика — в той их форме, в какой на данный исторический момент они освоены и до-развиты общественным человеком. Универсум является многоуровневым и многомерным. В нём присутствуют различные иерархически соотнесённые между собой уровни его организации (в частности, формы организации неживой и живой природы, над которыми надстраивается культура) и измерения. В Универсуме существует первоначало, то есть Субстанция с её многочисленными атрибутами — категориями и увязывающей их между собой логикой — диалектикой.
На каждом уровне организации Универсума диалектика и её категории, сохраняя свою всеобщую сущность, предстают в особенной форме. В специфически особенной форме они бытийствуют и в человеческой культуре. В своём единстве и взаимосвязи они образуют, можно сказать, категориальный каркас культуры. По своемý существу они объективно реально-идеальны. В литературе их именуют категориями культуры. Поскольку культура исторична, постольку историчны — и по форме, и по содержанию — её категориальные формы. Они не замкнуты на себя, но открыты изменению, развитию и совершенствованию. Их идеальное выражение также присутствует в миро-воззрении. Архитектоника мировоззрения содержит в себе также универсаль-ные (претендующие на универсальность, ибо они культуро-историчны) принципы, ценности, императивы.
Мировоззрение формируется и функционирует по большей части стихийно, незаметно для индивидов и целых поколений, организованных в общественное целое. Хотя оно формируется и функционирует благодаря сознательной жизнедеятельности множества индивидов и целых поколений, оно в то же время формируется как бы помимо воли и целенаправленной их активности, то есть, по излюбленному выражению К. Маркса, у них за спиной. Кристаллизация мировоззренчески-мироотношенческой атрибутики осуществляется как бы сама собой, без чьего бы то ни было специального участия. В результате получается, что все эти категории, принципы, ценности и императивы оказываются как-то увязанными в мировоззрении в некое по виду внутренне непротиворечивое целое. Эффект этой целостности достигается и обеспечивается самóй архитектоникой мировоззрения с его относительно жёстким ядром и сравнительно диффузной оболочкой, а также срабатыванием так называемой «серой логики», посредством которой оказываются когерентно взаимоувязаными все элементы мировоззренческого комплекса. Мировоззренческое содержание транспонируется во все формы и уровни общественного сознания и сферы культуры. Оно незаметно входит в сознание индивидов, исподволь осуществляя регулирование их деятельности, поступков и поведения. У последних срабатывает своеобразный «синдром Журдена»: они руководствуются мировоззренческими ориентирами, подчас даже не подозревая о наличии этих ориентиров и мировоззрения вообще.
Главная функция мировоззрения — давать Человеку основные ориентиры в обитаемом мире, но не в каких-то отдельных его областях, а в Мире как таковом, в Мире как целом. Следовательно, и содержание мировоззрение есть не что иное, как прежде всего система таких ориентиров. Они определяют общую сущность и устройство Мира, место в нём Человека, отношение Человека к Миру и Мира к Человеку, отношение Человека к обществу, к другим людям и к самомý себе. Мировоззрение даёт общий ответ на вопрос о смысле жизни, о назначении Человека в Мире, о высших ценностях, о смерти и т. д.
Чем более развито мировоззрение, тем оно, так сказать, реалистичнее, тем более явно и объективно артикулированы в нём категориальные определения действительности. И чем менее оно развито, тем более смутно и расплывчато они в нём выражены. Выше отмечено, что в силу «синдрома Журдена» большинство людей — особенно на ранних ступенях эволюции культуры — не замечает явного воздействия мировоззренческих ориентиров на их сознание и поведение. В то же время их сознание смутно улавливает наличие и необходимость таких ориентиров. Следствием такого улавливания явилось создание ещё на заре цивилизации своеобразного двойника и субститута мировоззрения и его основного содержания. Создание этого двойника-субститута — и оно тоже во многом является процессом стихийным — осуществляется по логике перевода неявного содержания на язык явного и очевидного. Неуловимые мировоззренческие категории и их логика облекаются в одежды доступного чувственному восприятию и наивному представлению материала, почерпнутого из повседневной, обыденной жизни, из эмпирического опыта людей. Вследствие такой процедуры мировоззренческое содержание становится наглядным. Ориентиры становятся доступными восприятию. Мировоззрение, переведённое на язык наглядности и доступности обыденному сознанию, есть не что иное, как картина, или модель, Мира.
Картину Мира можно определить как «популяризированное» мировоззрение, мировоззрение «для всех». В ней оно приобретает как бы зримые очертания и именно в такой форме оно выполняет свою регулятивную функцию куда более успешно: ведь создаётся возможность для каждого индивида — полного или частичного — сознательного мировоззренческого самоотчёта. Мировоззренческие функции в картине Мира выполняют так называемые универсалии. Последние являются либо своеобразными аппроксимациями категориальных форм (таковы, к примеру, бинарные оппозиции в архаической картине Мира), либо же вообще не имеют объективного онтологического денотативного соответствия (таковой в Архаике была универсалия Мирового Древа). Но чем более развитой становится культура, тем в большей степени она освобождается от универсалий, особенно безденотативных.
Каждому типу социальности присуще собственное мировоззрение. В нём образуется и функционирует общее мировоззренческое силовое поле, пронизывающее собой все мироотношенческие модальности, формы общественного сознания и сознание каждого индивидуума, формируя его собственные общие, чаще всего неэксплицируемые в актах саморефлексии, мировоззренческие установки и ориентиры. Это общее мировоззренческое силовое поле генерируется господствующим мировоззрением, порождённым господствующим типом социальности. «В итоге,— отмечает А. Швейцер,— все мысли как индивидов, так и общества как-то причастны к господствующему мировоззрению» [1, с. 71].
Но подобно тому как господствующий тип социальности не исчерпывает собой всей полноты наличной общественной формации, так и господствующее мировоззрение не резюмирует в своём содержании всей духовной формации эпохи. Всегда в данной духовной формации наличествуют в той или иной форме и степени выраженности и иные мировоззренческие парадигмы. Одни из них отживают, другие зарождаются, третьи (или же только их фрагменты) ведут латентный, подспудный, виртуально-эвентуальный способ существования и при соответствующей «констелляции» могут высвобождаться из-под спуда и актуализироваться. Однако общее мировоззренческое силовое поле в той или иной форме и степени всё же накладывает свою печать на функционирование инаковых мировоззренческих содержаний. И чем более упрочивается данный тип социальности, тем выше напряжённость формируемого им мировоззренческого поля, тем более всепроникающими становятся его силовые линии. Оно становится по отношению к иным соседствующим с ним мировоззрениям или их фрагментам, выражаясь словами Маркса, тем всеобщим освещением, «в сферу действия которого попали все другие цвета и которое модифицирует их в их особенностях. Это — тот особый эфир, который определяет удельный вес всего того, что в нём имеется» [4, с. 43].
Мировоззрение, как отмечено, обладает культурно-историческим харак-тером. Это означает — помимо всего прочего — и то, что в нём может быть в большей степени выраженной та или иная мироотношенческая модальность. Так, в мировоззрении Древней Греции и в традиционном японском миро-воззрении преобладает (хотя и в разных аспектах его) эстетическое начало; в древнекитайском мировоззрении преобладает этическое начало; в древнеиндийском, традиционно российском и в средневековом западноевропейском преобладает религарное начало; в западноевропейском мировоззрении, начиная с Нового времени, преобладает когнитивное начало. И лишь в древнеримском мировоззрении превалировало юридическое начало.
Культура Востока (это в данном случае Древняя Индия и Древний Китай) и культура Запада (прежде всего Древняя Греция и отчасти Древний Рим) кардинально отличаются друг от друга прежде всего системами своих мировоззренческих координат. Восточная система координат содержит два уровня Мира — не-Бытие и Бытие (в Индии это а-Сат и Сат, в Китае — У и Ю). Иначе говоря, это — Непроявленный Мир (вечный, бесконечный и без-оснόвный) и Проявленный (временный, конечный, производный от Непроявленного, имеющий основание в нём и по истечении срока своего существования возвращающийся в него). К этому также следует добавить, что с актом проявления непроявленный Универсум не исчезает, а продолжает существовать как за пределами проявленного Универсума, так и внутри последнего. Западное же мировоззрение не знает непроявленного измерения Мира. Проявленный Универсум (Космос, Вселенная) был для него, да и продолжает оставаться единственным и всем Миром. Появление в западном мировоззрении вследствие утверждения христианства трансцендентного Бога ничего не меняет: этот Бог определяется через бытие. Кроме того, восточное мировоззрение в проявленном мире отдаёт приоритет энергетической его стороне (в Древней Индии это прана, в Древнем Китае это энергия ци) по сравнению с вещественной, телесной, тогда как западное мировоззрение не только принимает проявленный мир за единственный, но и отдаёт в нём приоритет вещественной, телесной его стороне по сравнению с энергетической. Эти два типа мировоззрения соотносятся аналогично функциональной асимметрии полушарий головного мозга. Только в человеческой голове полушария находятся в относительной гармонии (то или иное полушарие может доминировать), а мировоззрения Востока и Запада пока нет.
Обратимся теперь от общественного целого к человеку. А. Швейцер писал: «Призвание каждого человеческого существа состоит в том, чтобы, выработав собственное мыслящее мировоззрение, стать подлинной личностью» [1, с. 75; курсив мой.— А.Х.]. Человек не рождается личностью, он рождается просто индивидом. В соответствии со своей сущностью в своём онтогенетическом развитии каждый человек должен бы пройти три стадии — стадию всего лишь индивида, стадию индивидуальности и стадию личности. На этом завершается его конечное развитие и начинается бесконечное совершенствование. Всё это вместе — и развитие, и совершенствование — охватывается тем, что К. Маркс называл абсолютным движением становления безотносительно ко всякому наперёд заданному масштабу [см.: 5, c. 476]. Однако во все времена подавляющее большинство людей, достигнув взрослого состояния, так и задерживается до конца дней своих на стадии индивидности. Многие поднимаются на стадию индивидуальности (положительной или отрицательной) и завершают своё земное существование данной стадией, не рискнув, не пожелав или же не сумев подняться выше. И лишь очень немногие достигают личностного уровня, преодолев в себе негативную индивидуальность.
У каждого человека возможны три следующие жизненные позиции, соотносящиеся по принципу иерархии. «На сáмой нижней ступени — такие компоненты жизненной позиции, которые зависят (и в которых индивид именно зависит) от ближайшей социальной ситуации: от своего социально-ролевого и узкопрофессионального положения в составе своей общественной группы и своего класса, от обстановки, тесно обступающей его каждый день и час и вынуждающей его прямо реагировать на неё, вынуждающей подчинить ей даже свою мотивацию поведения. Таков ситуативный слой жизни, такова ступень жизненной тактики» [6, c. 449]. Такова жизнь индивида в сфере повседневности (Alltäglichkeit), быта и обихода. В сфере ситуативного уровня — будь то в границах общественно необходимого времени, будь то в сфере досуга — индивид гетерономно связан с ситуациями, так что трудно определить, ситуации принадлежат ему, или же он — ситуациям. Будучи всецело погружённым в стихию ситуаций, он порой бывает не в силах определить степень значимости той или иной ситуации. Таков ситуативный человек. Он — всего лишь индивид, нередко даже частичный (Teilindividuum), согласно К. Марксу, массовый, или омасовлённый, человек, согласно Х. Ортеге-и-Гассету, или das Man, согласно М. Хайдеггеру. Множество таких экземпляров — просто «другие». «Их кто не этот и не тот, не сам человек и не некоторые и не сумма их. «Кто» тут неизвестного рода, люди (так В.В. Бибихин перевёл хайдеггеровское das Man.— А.Х.)» [7, с. 126].
Итак, уровень, или ступень, ситуативности — это самый нижний уровень. «…Над этой ступенью стоят те компоненты позиции человека как индивидуальности и как личности, которые он обретает и вырабатывает в себе, лишь поднимаясь над любыми ближайшими ситуациями и соотнося себя уже не столько с этими последними, сколько прежде всего с глубинными достояниями его культурной эпохи, а через неё — с общей направленностью глобального, всемирно-исторического процесса. Здесь человек соотносит себя с другими не только внутри социальных ролей, а и поверх них — с человечеством как противоречивой целостностью и с его общей судьбой на Земле. Таков над-ситуа-тивный слой жизни каждого, такова ступень всежизненной стратегии, применяемой также и к тактике, разумеется, т. е. к непосредственным ситуациям» [6, c. 449]. При этом следует иметь в виду, что человеческая индивидуальность точно так же как и индивид, может быть как положительной, так и отрицательной.
В границах над-ситуативного уровня человек уже позиционирует себя по отношению к сонму ситуаций принципиально иначе, чем на ситуативном уровне. Здесь он вырабатывает критерии различения ситуаций. Он смотрит на них и оценивает их значимость как самих по себе, так и лично для него с позиций глобальных векторов всемирной истории. Потому-то он и по-разному реагирует на разные ситуации, обступающие его.
«Наконец, есть в человеке как субъекте есть ещё и сверх-стратегический слой, образуемый собственно мировоззренческими принципами и непреходящими ценностями. Здесь человек как субъект соотносит свою жизнь не с каким-то ограниченным миром, а со всем безначальным и бесконечным неисчерпаемым содержанием объективной диалектики. Здесь он осмысливает (хотя не обязательно лишь научно-теоретически) свою жизнь как занимающую своё определённое место в действительности вообще и претворяет свою судьбу перед лицом всей Вселенной, вéдомой и невéдомой, в её незавершимой диалектической тотальности. Он здесь встречается с беспредельным миром самим по себе, и только поэтому ступень эта и называется заслуженно миро-воззренческой. Это — слой принципов в строгом значении, которые могут раскрываться субъекту как высшие и как всё более и более высокие, как путь принципов» [6, c. 449]. Мировоззрением, конечно, обладают и индивид, и индивидуальность, и личность, но только личность способна полноценно делать своё мировоззрение предметом для себя, делать мировоззренческий самоотчёт и вырабатывать мировоззренческое самоопределение. Стало быть, только как личность человек способен вырабатывать у себя мыслящее мировоззрение.
Вообще же возможна выработка мировоззрения через приобщение человека к философии. Для его выработки, как и для развития теоретического мышления, отмечал Ф. Энгельс, «не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения всей предшествующей философии» [8, с. 366]. Ведь углубляясь в сочинения философов разных стран и эпох, человек углубляется в способы постановки и решения мировоззренческих, методологических и иных собственно философских проблем и вырабатывает собственное вѝдение. И, к ак отмечает А.Н. Чанышев, «филосо фию, по-видимому, легче, лучше и правильнее можно определить через мировоззрение...» [9, c. 6] Так мировоззрение на высшем уровне общественного сознания смыкается с философией.
Литература
Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. Философия и культура. Ч. I // Он же. Благоговение перед жизнью. М.: Прогресс, 1992.— С. 41 — 79.
Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М.: Наука, 1997.— 191 с.
Маркс К. Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура. С приложением // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 40. М.: Политиздат,1975. С. 147 — 233.
Маркс К. Введение // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 46. Ч. I. М.: Политиздат, 1968. С. 17 — 48.
Маркс К. Критика политической экономии. (Черновой набросок 1857 — 1858 годов). [Первая половина рукописи] // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 46. Ч. I. М.: Политиздат, 1968. С. 49 — 559.
Батищев Г.С. Диалектика и смысл творчества (к критике антропоцентризма) // Он же. Избранные произведения. Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2015. С. 435–452.
Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997.— 451 с.
Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 20. М.: Политиздат, 1961. С. 339 — 626.
Чанышев А.Н. Начало философии. М.: Изд-во Московского ун-та, 1982.— 184 с.
Раздел II. Ильенков и проблема личности
2.1. Суворов А. В. Восхождение к личности
Эвальд Васильевич Ильенков всегда интересовался детским развитием. Уже в первой же своей монографии «Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении» он подробнейшим образом прослеживает, как ребёнок овладевает простейшим счётом — сложением, на уровне абстрактно-общего представления, но ещё не конкретно-всеобщего понятия. Сокращённый пересказ — безнадёжная затея, так что не посетуйте на длинную выписку.
«...Процесс усвоения ребёнком способности оперировать понятиями, способности отражать чувственно данные факты в понятии никак не сводится к процессу усвоения способности оперировать словами и заключёнными в них абстракциями. Ребёнок довольно рано, например, учится сосчитывать чувственно данные ему предметы, производить простейший пересчёт. Три спички или три конфеты он одинаково называет словом „три“. Более того, он очень быстро научается и операции „сложения“: взяв три спички и три пуговицы и сложив их в кучу, он может пересчитать их и, пересчитав, назвать чувственно предлежащую перед ним кучу разнородных предметов словом „шесть“.
Это значит, что он уже научился совершать довольно сложную операцию абстрагирования, производить абстракцию, отвлекающую от чувственно данных ему предметов только их количественную определённость, научился вырабатывать общественно значимую абстракцию и фиксировать ее в слове. Согласно логике эмпиризма, он уже владеет „понятием“: в самом деле, весь состав номиналистического представления о понятии можно обнаружить в его умственных действиях. Он отвлекает «общее», называет его словом, и притом такое „общее“, которое единственно важно и „существенно“с точки зрения тех задач, которые ему предлагается решить. Но математическими понятиями он на этой стадии отнюдь еще не овладел. Это показывает самый элементарный эксперимент.
Показателем отсутствия на этой стадии способности оперировать понятием числа, заключенным и выраженным в словах „три“, „шесть“и т.д., является полная неспособность совершить простейшую операцию сложения „в уме“. Он по-прежнему вынужден производить чувственно-практический пересчёт предметов, сложенных в одну кучу, начиная снова от „единицы“, хотя он прекрасно знает, что в эту кучу он сам сложил „три“и „три“.
На этой стадии слова „один, два, три,..., шесть“для него сами по себе, не привязанные намертво к чувственно данному, не имеют абсолютно никакого значения и смысла. Единственное значение этих слов — это значение внешне привязываемого знака, не более. Ребёнок производит счёт предметов чувственно-практически, а слова лишь параллельно сопровождают его чувственно-практические действия. Простейшим математическим понятием „трёх“он ни в малейшей степени еще не владеет. Но он уже прекрасно владеет словом „три“и способностью отвлекать соответствующую этому слову абстракцию. Он легко называет словом „три“и три конфеты, и три карандаша, и три игрушки. Он даже умеет — когда ему говорят слово „три“— вызывать в своем чувственном воображении образ трёх предметов, безразлично каких, и даже умеет в плане чувственно воображаемой реальности сосчитывать эти предметы вновь. То есть он уже умеет, опираясь на слово, вызывающее в его сознании чувственно воображаемый образ, производить пересчёт чувственно представляемых им предметов. Опираясь на слово, он активно вызывает в своем воображении чувственный облик трёх предметов и в плане чувственного представления сосчитывает их один за другим....Ребёнок как будто уже научился „считать в уме“— он поднимает глаза к потолку и, шепча про себя, „складывает“три и три, получая шесть. Значит ли это, что он уже овладел понятием „трёх“? Оперирует ли он понятием, как высшей формой духовной обработки чувственно данных фактов? Экспериментальная проверка достоверно показывает, что понятием ребёнок на этой стадии не владеет. Те операции, которые... кажутся уже действиями с понятием, на самом деле есть всего-навсего действия в плане чувственного представления, опирающегося на слово. Слово выступает здесь как знак, как сигнал, вызывающий в живом воображении чувственно-конкретный образ вещи. С этим образом воображения, вызванным словом,— а вовсе не с понятием — ребёнок и производит операцию пересчёта. Этот факт обнаруживается уже самой простой проверкой. Стоит предложить этому ребёнку „сложить вместе“не три и три — это сравнительно нетрудно „представить“себе в живом воображении,— а большие числа, скажем, сто и восемь, как действие в плане представления сразу подводит. Ребёнок по-прежнему старается чувственно представить и сосчитать, начиная от единицы, кучу предметов... А это — задача, при попытке решить которую обязательно откажет голова и не детская. Это значит, что слово, обозначающее чувственно данную совокупность, „кучу“предметов (чувственно созерцаемых или чувственно представляемых), еще не играет для ребёнка роли понятия. Оно не несет в себе той особой, высшей духовной реальности, с помощью которой чувственные данные перерабатываются человеком плане логической деятельности. Оно не сокращает ни на миг познавательных действий, не служит ребёнку в качестве реально обобщённого образа действительности, с которым он мог бы действовать вместо непосредственно осязаемой реальности. Оно, слово (и абстракция, в нём заключённая), здесь просто обозначает чувственно данный образ или же вызывает его в воображении. Действует же ребёнок не с понятием, а по-прежнему с чувственным представлением. Слова, которые ребёнок шепчет при этом про себя, находя в них опору для чувственных образов, лишь пассивно и параллельно сопровождают его действия в плане воображения, обозначают эти действия и ту чувственную реальность, с которой он действует. Но и это ещё не всё. Далее ребёнок научается вообще забывать про чувственно воображаемые предметы. Он сосчитывает уже не спички, не конфеты, хотя бы только воображаемые, а ведет чисто словесный счёт. Но здесь само слово, его фонетическое звучание, выступает как простая механическая замена чувственно воображаемого предмета. Звуки „один“, „два“, „три“для него при этом играют ту же самую роль, какую до этого играли чувственно осязаемые образы. И с этими словами-предметами он обращается точно так же, как с конфетами или спичками. Он по-прежнему не может сразу, „в уме“сложить вместе три и два. Он прошептывает „про себя“все заданное ему количество, начиная каждый раз снова с единицы. Он неспособен сразу осознать три как три. Он должен снова — прежде чем „прибавлять“к нему что-то — чувственно воспроизвести это „три“в своем воображении. Он снова шепчет: „один, два, три..“— и уже лишь затем, как к снова сосчитанному, прибавляет: „...четыре, пять!“
Последнее слово он произносит уже вслух, громко, как слово, совпадающее с остановкой в пересчёте. Слова „четыре“и „пять“для него и тут чувственно воспринимаемые слова-предметы. Сделав после слова „три“еще два шага в пересчёте, два шага, которые он для себя отмечает прошептыванием, он останавливается и громко произносит слово „пять“.
Механизм такого пересчёта очень сложный и стоит ребёнку массы усилий, большого напряжения — тем большего, чем больше сосчитываемое количество. После слова „три“он вынужден совершать следующее: он знает, что ему надо сделать еще два шага — первый из которых называется „четыре“, а второй — „пять“. Прошептывая „четыре“, он должен про себя отметить, что это не только „четыре“, но и „первый“после трёх шаг. Каждый шаг в пересчёте приобретает вдруг два разных числовых обозначения: „четыре (то есть один после трёх)“, „пять, то есть два после трёх“, „шесть, то есть три после трёх“и т.д. „Сложение“, производимое таким непроизводительным способом, доставит и взрослому немало труда и напряжения. Каждая из чувственно сосчитываемых „единиц“приобретает два разных названия, которые он одновременно должен иметь в виду; связывать их, „считать“подобным образом, когда числа большие, нелегко. „Семнадцать, то есть двадцать три, восемнадцать, то есть двадцать четыре, девятнадцать, то есть двадцать пять“,— вот какая сложная и мучительно искусственная операция совершается в его голове.
При этом он должен еще постоянно помнить, на каком по порядку шаге „после трёх“он должен сделать остановку, и должен помнить, что вслух произнести надо не тот порядковый номер, который соответствует первому ряду пересчитываемых единиц, а другой номер, другое слово, связанное с первым лишь случайным, каждый раз различным, образом. В одном случае он должен иметь в виду, что „два“на самом деле (во втором ряду) есть не „два“, а семнадцать; в другом случае, в сложении других чисел, он вынужден шептать „два, то есть восемь“, или „два, то есть сорок четыре“, и т.д. и т.п. Это употребление двух различных названий для одного и того же умственного действия и составляет на этой ступени механику пересчёта в сложении. Появляются два совершенно не связанных между собой ничем, кроме единичных условий задачи, параллельно сосчитываемых ряда, каждый из коих начинается с „единицы“. Нетрудно понять, почему ребёнок так часто „срывается“в сложении. Возникает так называемая „конфликтная ситуация“в сознании, требующая максимального напряжения внимания, памяти, воли, сосредоточения. Рушатся все привычные для ребёнка каноны умственных действий: он должен называть одно и то же двумя разными названиями, и именно в этом видеть — „смысл“.
И все эти коллизии происходят от того, что он реально не владеет понятием, а лишь словом, абстрактно обозначающим чувственно воспринимаемую или чувственно воображаемую реальность.
Он вынужден решать логическую по существу задачу с помощью нелогических средств — с помощью слова, обозначающего абстрактно-общее чувственное представление...
В этом случае, на этой ступени умственного развития, он имеет дело с чистейшей количественной абстракцией, зафиксированной соответствующим словесным обозначением именем. Из слова „три“(„пять“, „восемь“и т.д.) испарились уже последние остатки чувственно воспринимаемых свойств вещей. Но зато само слово, его фонетическое звучание, превратилось для него в особый чувственно воспринимаемый предмет, с которым он действует точно так же, как он раньше действовал со спичкой, конфетой. Он действует с чистейшей воды абстракцией, выраженной в слове. Само слово становится для него особой реальностью, с которой можно действовать теми же самыми способами, как и с реальными конфетами. Тем более что за успешные действия взрослые награждают его именно конфетами...
Но, владея словом и заключенной в нем абстракцией, владеет ли он понятием? Отнюдь, нет. Скорее „понятие“владеет им. Взрослый, реально владеющий понятием, ставит его в искусственно созданные условия, внутри которых ребёнок вынужден действовать, все время поправляет его, руководит каждым его умственным шагом. При этом часто и взрослый хорошенько не осознает, какие сложные процессы происходят в голове ребёнка, по каким ступеням совершается в голове ребёнка процесс овладения понятием.
Ясно, что процесс овладения понятием реально осуществляется только в ходе решения задач, условия которых создаются взрослым и задаются ребёнку в виде чувственно-практическихусловий, внутри которых он вынуждается действовать. В ходе разрешения этих задач ребёнок и овладевает способами идеального действия, которые соответствуют сложной природе понятия. Тем самым он, в конце концов,овладевает и понятием.
Но ясно, что до поры до времени он никаких логических (в полном смысле слова) действий совершать не в состоянии. До поры до времени он действует лишь в плане представления, опираясь при этом на слово, не более. Понятием, как особым „предметом“, который позволяет проделывать над собой логические действия, он здесь еще не владеет. И именно поэтому никаких — даже самых элементарных — логических действий он совершать с абстракцией, выраженной в слове, и не в состоянии. Словом „три“он владеет уже прекрасно и уверенно: он уже не ошибается, не назовёт этим словом восемь спичек или пять конфет.
Столь же уверенно он отберет именно три (причем любых) предмета, если его об этом попросят. Абстракцию он производит совершенно точно, и также точно проделывает обратную операцию — изготавливает чувственно данную реальность, соответствующую этой абстракции (отбирает и кладет перед собой именно заданное количество). Но действовать с ним как с понятием он не может, не может решить „в уме“самой простенькой задачки на сложение или вычитание. Он по-прежнему должен, опираясь на слово, вызвать в воображении всю чувственно осязаемую совокупность „единиц“, обнимаемых названием „три“, и действовать именно с этой совокупностью.
Реально обобщённым, реально сокращённым выражением реальности, с которым он мог бы действовать вместо чувственно данной реальности, она ему не служит. Не служит она ему и в качестве орудия, с помощью которого он мог бы активно обрабатывать чувственные данные сокращенным образом, не повторяя вновь и вновь бесплодного порядкового пересчёта, не начиная каждый раз с единицы, с самого начала.
Он не осознаёт того, что в числе „три“пересчёт произведён, что число три есть выражение уже произведенного пересчёта, есть результат, в котором этот пересчёт содержится» [1, с. 92–97].
Уже полученный результат нужно осознать. От абстрактно-общего представления нужно взойти к конкретно-всеобщему понятию, осмыслив, осознав то, что и как ты на самом деле делаешь и уже сделал. И дальше исходить из результата произведённых действий, а не крутить всё ту же карусель пересчёта — опять и опять от единицы. Надо совершить восхождение от абстрактного к конкретному. От пересчёта с единицы — к счёту «в уме».
И этот альпинизм работает, конечно, не только в математике, а во всём, в том числе в гораздо более элементарном, как выяснилось примерно через десять лет после создания «Диалектики абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении», когда встретились Ильенков и Мещеряков. Две ступени познания. Первая — чувственно-предметная, ступень созерцания (хотя бы и созерцания в форме осязания, ощупывания — эта оговорка мелькает уже сейчас, в 1950-е годы) и (ступень) представления — слова, обозначающего чувственно созерцаемый предмет.
Вторая ступень познания — конкретно-всеобщее взаимодействие и рационально-логическое осмысление, осознание в понятии, в понимании этого взаимодействия.
И — восхождение от абстрактного к конкретному, от абстрактно-общего представления к... конкретной научной абстракции, осмысленной, понятой в понятии. Ибо понятие, конечно же,— тоже абстракция, но высшего, конкретно-диалектического порядка. Абстрактно-общее, конкретно-всеобщее, конкретная абстракция, абстрактная конкретность, объективная конкретность, субъективная абстрактность... И это вовсе не жонглирование терминами, не игра слов. Это — тщательное, детальнейшее теоретическое отслеживание реального движения жизни. В том числе — а в конце концов особенно — отслеживание движения, восхождения от абстрактного индивида к конкретной личности. От человека — существа называющего, дающего имена,— к человеку поистине разумному, понимающему, зрящему в корень, в суть дела. От номинализма к диалектике.»...Понятие, выражающее конкретную «сущность» каждого единичного представителя человеческого рода, не может быть получено на пути абстрагирования того «общего», которым обладает каждый индивид. Такое понятие может быть образовано только путем исследования системы всеобщего взаимодействия, внутри которой осуществляется жизнедеятельность человеческих индивидов, то есть на пути рассмотрения системы общественных отношений человека к человеку и человека к природе» (1, с. 105). Иными словами, только путём исследования культурно-исторического и космического контекста. Это верно и для первоначального детского развития. Следовательно, пока ребёнок не овладел предметно-деятельностным контекстом, включающим и все предметы, с которыми он учится действовать, и педагога, и самого ребёнка,— у него лишь абстрактное приблизительное представление (а то и никакого), он воистину «без понятия». Овладев же предметно-деятельностным полем, контекстом проблемной ситуации, он восходит от представления к понятию, и только поэтому может действовать самостоятельно. Личность — это форма общественного функционирования индивида, поэтому она социальна на все сто процентов. Вне общественного функционирования нет личности. И восхождение от абстрактного индивида к конкретной личности — это и есть процесс обретения индивидом конкретной формы общественного функционирования, жизнедеятельности в культурно-историческом контексте. К этому сводится очеловечивание каждой особи вида Homo Sapiens.
Что поразило Эвальда Васильевича Ильенкова в работе Александра Ивановича Мещерякова со слепоглухими детьми? Какая философская логика, железная творческая необходимость не позволила Ильенкову пройти мимо Мещерякова, а впрягла философа с психологом в одну творческую упряжку, подружила их на всю оставшуюся жизнь и на всю оставшуюся историю человечества?
Кому-то могло показаться чудачеством: философия, диалектическая логика — и слепоглухие. Писал бы себе про диалектику абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении вообще и в «Капитале» Маркса особенно, про эстетическую природу фантазии, про гуманизм и науку, про отличие идолов от идеалов... А тут вдруг, со всем этим багажом — слепоглухие. Почему? Зачем? Делать больше нечего было доктору философских наук?
Понятно, что «лирика» дружбы и сотрудничества — не причина, а следствие. Следствие творческого роста, его логики. Именно диалектика абстрактного и конкретного привела Ильенкова к Мещерякову. И не позволила, поклонившись, удивившись, повосхищавшись, пройти мимо.
Попробуйте-ка! — Любил Эвальд Васильевич поддразнивать коллег. Попробуйте-ка ответить на вопрос слепоглухой девочки, «где я?», так же точно и просто, как спрошено! В самом деле, где?
Что значит — мыслить конкретно? Когда ребёнок перейдёт от «чистейшей воды абстракции» пересчёта с единицы — к математическому понятию числа? Представление — это слово, обозначающее и заменяющее тот или иной чувственный предмет. А если слОва нет? А если жест? Что ж, он тоже обозначает и заменяет чувственный предмет, а потом сам заменяется словом... А до жеста? До человеческой психики вообще? А совсем без психики?
Как это абсолютно беспомощное существо, умирающее от голода рядом с пищей,— этот индивид, абстрагированный слепоглухотой от всего человеческого и во многом даже от животного,— как он может стать и становится человеком, личностью? Какова диалектика абстрактного и конкретного в процессе очеловечивания слепоглухих?
Главная работа Ильенкова о педагогике Мещерякова так и называется — «Откуда берётся ум?» [2] В журнальном варианте — «Становление личности: к итогам научного эксперимента» [3]. Очевидно, это то, что и привлекло Ильенкова в тифлосурдопедагогике. Возможность не только порассуждать, не только у кого-то прочитать (у того же Мещерякова), а пронаблюдать, откуда берётся ум и как происходит становление личности. И поучаствовать в этом не только в качестве теоретика... Сюда вела вся логика философского творчества Ильенкова. Ни объехать было, ни обойти. Исследуя диалектику абстрактного и конкретного, он на самом деле исследовал диалектику очеловечивания человечества. Настаивая на том, что предмет философии — мышление, он на самом деле настаивал на том, что предмет философии — разум: формирование, становление человечества как разумной (конкретной!), общественной формы жизни. Ясно же, что человечество — вовсе не совокупность всех абстрактных единиц,— особей биологического вида. Этому виду надо очеловечиваться, чем он с переменным успехом и занимается на протяжении всего своегосуществования. Виду надо стать человечеством — родом человеческим. А индивиду — личностью, разумным существом, полномочным представителем рода человеческого.
Вот это всё и есть предмет философии — очеловечивание человечества и отдельных индивидов. И тифлосурдопедагогика выглядит в этом контексте экспериментальным разделом философии. И Ильенков, автор «Космологии Духа», не мог пройти мимо экспериментального моделирования Духа.
Наша разумность — всё ещё стихийна. Не всё человечество — на самом деле человечество. Не все абстрактные единицы — индивиды,— становятся разумными существами.
Разумность — она же талантливость,— это привилегия скольких-то немногих процентов поголовья биологического вида. Двадцати или даже шести процентов, составляющих не только биологический вид, а человеческий род. И не природа тут виновата. Привилегия разумности создаётся неразумно устроенным обществом, тем, что человечество далеко-далеко не поголовно является человечеством.
«Не будем выяснять,— пишет Ильенков,— насколько достоверна статистика, определяющая наличный процент талантов. Важно другое — она выражает совсем не то, что стараются ей приписать буржуазные идеологи. Она выражает тот факт, что при наличном — буржуазно-капиталистическом — способе разделения общественного труда лишь меньшинство индивидов оказывается в нормальных условиях человеческого развития и потому достигает нормы этого развития. Норма составляет тут привилегию. Остальные же этой нормы не достигают, поскольку система воспитания, созданная этой цивилизацией, задерживает их на том уровне развития психики, для которого доступна лишь чисто репродуктивная работа, исполнение извне навязанных действий, схема и алгоритмы которых разработаны „талантливым“меньшинством. Работа, вознаграждаемая за ее принудительный и нетворческий характер подачками-поощрениями, на манер тех кусочков сахара, которые дают в цирке медведю, катающемуся на велосипеде. Когда же таких подачек-подкреплений оказывается недостаточно, в дело вступают „отрицательные подкрепления“— наказания... Посулы поощрений и угрозы наказаний, кнут и пряник — вот те единственные способы „педагогического воздействия“, с помощью которых буржуазная цивилизация добивается от своих работников соответствующего ее идеалам и стандартам „поведения“» [3, с 78].
Я узнал из фейсбука, что в текущем 2019 году, оказывается, исполняется 210 лет со дня рождения Чарльза Дарвина. По этому поводу опять пошумели, от обезьяны человек произошёл или от Господа Бога.
Я дразнился в комментариях: Маркс (или Энгельс?) писал, что в пользу теории Дарвина свидетельствует Монблан фактов. Известный биолог Александр Александрович Любищев ответил, что против свидетельствуют Гималаи фактов. Меня спросили, что я сам-то без шуток думаю, откуда взялся человек.
Я ответил, что не биолог, и ни Дарвину, Ни Любищеву, ни Николаю Ивановичу Вавилову не судья. Относительно того, что труд создал человека, есть мощное подтверждение в тифлосурдопедагогике.
Труд, предметная деятельность. Человек произошёл из труда, в труде, от труда, а чисто биологически он отличается от остальных животных универсальностью, пластичностью, неготовностью ни к чему и потому — потенциальной готовностью ко всему. Эта универсальная пластичность и делает его — в перспективе — разумным существом. Происхождение человека как разумного существа — проблема не биологическая, а философско-психолого-педагогическая.
Как только некий биологический вид достигает потенциальной универсальности, реализующейся, актуализирующейся в предметной деятельности — то есть достигаетразума,— биология кончается.
Спорят о происхождении человека, а невдомёк, что он ещё не произошёл! Ни от «бога», ни от обезьяны. Как разумное существо он может произойти только от самого себя — в своей предметной деятельности, в труде. Никак иначе. Остальное — поистине от лукавого, в смысле — не имеет отношения к сути дела.
Суть же дела в том, что человечество ещё не стало человечеством — разумной формой жизни. Всё впереди, если раньше не передОхнем в безумии самого страшного на планете хищника, претендующего на «разумность»... Некий, видимо, священник ужаснулся: «Трудно даже представить, чего воляете вы и вам подобные». Я ответил, что на философском языке то, чего мы «воляем», называется — мышление как атрибут субстанции.
Осознание человечеством его космической миссии именно в качестве мышления — атрибута субстанции, мышления — неотъемлемого свойства Природы, в качестве Мыслящего Духа, а не случайного эпифеномена.Говоря о мышлении как атрибуте субстанции, использую вслед за Ильенковым терминологию Баруха (Бенедикта) Спинозы [4].
Свою знаменитую книгу «Как любить ребёнка» Януш Корчак начал с признания: «Как, когда, сколько, почему? Предчувствую множество вопросов, ждущих ответа, множество сомнений, требующих разрешения. И отвечаю: — Не знаю» [5, гл.1]. А закончил — напутствием матери: «Ребенок вносит в жизнь матери чудную песнь молчания. От долгих часов, проведенных возле него, когда он не требует, а просто живет, от дум, которыми мать прилежно окутывает его, зависит, какой она станет, ее жизненная программа, ее сила и творчество. В тишине созерцания с помощью ребенка она дорастает до озарений, которых требует труд воспитателя. Черпает не из книг, а из самой себя. Ничего не может быть ценнее. И если моя книга убедила тебя в этом, значит, она выполнила свою задачу. Будь же готова к долгим часам вдумчивого одинокого созерцания» [5, гл.109].
Александр Иванович Мещеряков тоже склонялся перед способностью своих сотрудников любить и жалеть детей: «Стали готовить учителей, но чему их учить? Все внове, все неясно. Сотрудники института» (дефектологии.— А.С.) «читали им лекции, кто что знал. Обучали дактилологии — умению разговаривать с помощью рук, брайлевскому алфавиту для слепых, печатать на брайлевской и обычной машинке. Правда, потом оказалось, что лекции наши слишком много пользы не принесли. Не в них было дело. Хорошим учителем становился у нас в школе тот, у кого было два качества: честность и добросовестность. Ну, конечно, если он еще при этом любил детей — попросту жалел их, старался что-нибудь для них сделать» [6].
Александр Иванович под эту любовь подвёл и строго научную базу — совместно-разделённую предметную деятельность. То самое «происхождение человека" — очеловечивание. Овладение человеческой культурой совместно с педагогом и по его инициативе. Формирование навыков самообслуживания посредством человеческих предметов — орудий, в которых закреплены, воплощены определённые способы их употребления.
Ильенков, совершенно очевидно, увидел в этом практически-педагогически реализованное восхождение от абстрактного к конкретному — от абстрактного индивида к конкретной личности. Он оценил педагогику Мещерякова ни много ни мало как философский эксперимент, превращающий философию в строго экспериментальную науку. И со всей своей страстностью, научной одержимостью, увлечённостью включился в эту практику, в этот философский эксперимент по очеловечиванию индивида.
«С какими же <орудиями> знакомится слепоглухонемой ребенок на первых порах его обучения, какими функциями, закрепленными за этими <орудиями>, он овладевает?" — спрашивает Мещеряков. И отвечает: — «Их, этих <орудий>, на первых порах десятки, а потом сотни и тысячи. Это прежде всего огромное количество предметов быта, овладение которыми обычным зрячеслышащим ребенком происходит незаметно, как бы само собой. Ребенок учится есть ложкой и вилкой, из миски и тарелки, сидя на стуле за столом, поочередно откусывая хлеб и прихлебывая из ложки, размешивать чайной ложкой в стакане или чашке, пить из стакана и чашки, пользоваться салфеткой; обучается в определенное время, согласно режиму, ложиться спать в кроватку, на простыню и подушку, укрываться одеялом, приучается в определенное же время просыпаться и вставать с постели, убирать свою постель, пользоваться горшком или уборной, делать утреннюю зарядку, ходить в умывальную комнату, открывать и закрывать кран, регулировать приток теплой и холодной воды в струе, намыливать руки и лицо мылом, смывать мыло с рук и лица, чистить зубы зубнойщеткой, вытираться полотенцем и причесывать волосы гребешком, надевать и снимать трусы, чулки, штанишки и рубашку или платье, надевать и снимать носки, тапочки, ботинки, валенки и калоши, пальто, кепку; он обучается открывать и закрывать двери, спускаться и подниматься по лестнице, ходить по полу и по земле, сидеть на стуле и на диване, играть с мячом, с куклой и с другими игрушками.
Это перечень не случайно пришедших в голову предметов и дел, всему этому действительно приходится специально обучать слепоглухонемого ребенка. Практически вся жизнь слепоглухонемого ребенка, подчиненная определенному режиму, является его непрерывным обучением. Ребенок обучается выполнять не только то, что выше перечислено, но и еще десятки и сотни дел, воспринимая и познавая десятки и сотни предметов, сделанных человеком, овладевая закрепленными за этими предметами функциями. Через это овладение многочисленными предметами быта и происходит первое общение ребенка с человечеством, общение, в котором он, усваивая аккумулированный в предметах и их функциях тысячелетний человеческий опыт, сам начинает становиться человеком.
Обучение навыкам самообслуживания, которое имеет целью, по сути дела, овладение общественно выработанными способами удовлетворения индивидуальных потребностей, принципиально важно в общей системе воспитания и обучения слепоглухонемого ребенка как первый и важнейший шаг, закладывающий основы дальнейшего развития» [7, с. 80–81 ]
После смерти Мещерякова и Ильенкова меня без малого полвека спрашивают, сохранился ли их дух в работе нынешнего Сергиево-Посадского (бывшего Загорского) детского дома для слепоглухих. Я уклончиво отвечал, что, спасибо, детдом вообще выжил, до сих пор существует...
24 сентября 2019 года защитила кандидатскую диссертацию учитель-дефектолог детдома Марина Викторовна Переверзева. Тема работы — «Диагностика и формирование навыков самообслуживания у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития». Разработка автором этой ключевой проблемы показывает, что дух Мещерякова и Ильенкова в детдоме не только жив, но и получил развитие в самом главном направлении — в изучении корней детской личности.
Конечно, орудиям, с которыми ребёнок должен ознакомиться и которыми овладеть — несть числа. Но Переверзева как практик и теоретик проделала работу, подобную той, которую проделали физики, исследуя атом. Физики обнаружили, что атом состоит из элементароых частиц. Переверзева исходит из теории деятельности А.Н.Леонтьева, из её структуры: мотив — деятельность, цель — действие, задача — операция. Переверзева в операции разглядела психолого-педагогическую «элементарную частицу» навыка. Подобно атому, навык оказался далеко не самой фундаментальной единицей психолого-педагогического процесса, а состоящим из более/менее длинной цепочки операций, последовательность которых никак не безразлична для скорости и качества обучения [8].
Диссертация — жанр в высшей степени неудобочитаемый, наукообразный стилистический стандарт очень затрудняет понимание. Поэтому нижеследующую цитату я разнообразил знаками выделения, подчеркнув ключевые слова, а все шесть навыков самообслуживания нахально пронумеровал от себя:
"Основной инструмент метода — /_диагностическая карта_/ — состоит из семи разделов: /_общие сведения_/ о ребенке и доступных ему средствах общения, /_оценка навыков_/: приема пищи /1/, пользования туалетом /2/, умывания /3/, чистки зубов /4/, причесывания /5/ и одевания-раздевания /6/. Каждый из навыков представлен в виде /_последовательности элементарных однозначно трактуемых операций_/, /*последовательности,*/ соответствующей порядку /_ожидаемого появления этих операций в онтогенезе_/. Каждая операция оценивается независимо от других в соответствии с разработанными критериями, представленными в баллах от 0 до 5, где 5 соответствует самостоятельному выполнению ребенком операции, а 0 говорит об /_отказе_/ от выполнения данной операции даже в совместной с педагогом деятельности». (значок /* */ отмечает текст, добавленный к авторскому мною).
Оказывается, степень сформированности навыков можно диагностировать и точно фиксировать в диагностической карте. Оказывается, навыков собственно самообслуживания, имеющих, в терминологии Мещерякова, наиболее «деловой» характер, то есть самым непосредственным образом относящихся к уходу за телом, а не к обращению с другими предметами,— не десятки, сотни и тысячи, а всего-навсего шесть. Ходить по полу и по земле, открывать и закрывать двери, тем более играть с мячом и другими игрушками — это, разумеется, навыки, но не самообслуживания, а поведения в расширяющемся внешнем мире,— навыки, имеющие, по Мещерякову, уже менее «деловой» или вообще не «деловой» характер.
Получается как у Ильенкова: четыре универсальные способности — мышление, воображение, нравственность и физическая культура,— и бесчисленное количество всех остальных, специальных. А тут — всего шесть навыков собственно самообслуживания: приёма пищи, культурного выделения, выделения, умывания, чистки зубов, причёсывания, одевания/раздевания,— и великое множество навыков человеческой жизнедеятельности во внешнем мире, не имеющих прямого отношения к обслуживанию тела. Разве что постараться шишек не набить о стулья и прочие препятствия,— и потому слепоглухой малыш вынужден передвигаться на четвереньках задом наперёд, подставляя «пятую точку» для «взаимодействия» с предметами обстановки.
Кроме шуток, будучи слепоглухим, я тоже вынужден иногда так подстраховываться: своего рода седьмой навык именно самообслуживания. «Смешно дураку, что рот на боку»,— часто говаривала моя мама. А я, теряя тапочки либо ещё что, досыта наползался в поисках. Потому что либо не хочется, либо некого звать на помощь. Ах, будь мы рядом, мы бы с радостью помогали,— мечтают иные. Да, разок-другой. Раз в полгода. А чаще — быстренько надоест. Поэтому я живу один... Нередко вынужденный использовать упомянутый «седьмой навык самообслуживания»...Вообще, комментируя автореферат Переверзевой, я прежде всего обратил внимание, что все или почти все её выводы про детей можно распространить и на взрослых слепоглухих. Такие же параллели у меня возникали и при штудировании книги Мещерякова. Особенно это касается понимания и терпения, которых сплошь да рядом не хватает взрослым (по мнению ребёнка) и здоровым (по мнению инвалида — как ребёнка, так и взрослого).
Особенно сложное для понимания, но и едва ли не самое важное место в автореферате Переверзевой я перечитал несколько раз. Так ничего и не понял, хотя последующий текст вроде бы поясняет, но всё равно невнятно. Традиционное наукообразие очень затрудняет понимание. Пробую сократить: «Последовательность привычных манипуляций отличается (как? в какую сторону? — А.С.) от последовательности ожидаемого появления этих операций (где? в каком месте? — А.С.) в процессе развития ребенка и часто в привычной цепочке первыми стоят действия, появляющиеся гораздо позднее». Что-то очень важное, но не удаётся сообразить, где лошадь, где телега? Какими чудесами в привычной цепочке оказывается то, что ожидается позже?
После защиты я по WhatsApp разговорился ночью с Мариной Викторовной, расспросил её, и нашёл-таки и лошадь, и телегу. В переводе на терминологию Ильенкова — Мещерякова, лошадью оказался изначальный способ знакомства ребёнка с тем или иным человеческим предметом, а телегой — общественно зафиксированный, закреплённый за этим предметом способ употребления, пользования. Оба эти способа оказались противоположно направленными. Изначальный способ (по Переверзевой, «онтогенетический») направлен от результата к механизму его получения, а общественно закреплённый (по Переверзевой, «традиционный») — от механизма пользования к результату. Как сказал бы Ильенков, Ребёнок восходит от абстрактного представления к конкретному понятию, от «что получается» к «как это получается», а общественно закреплённый способ предполагает движение от готового понятия — знания, как,— к основанному на нём представлению о результате — знанию, что в итоге.
Марина Переверзева (далее — МП):
Александр Васильевич здравствуйте!
На почту отправила Вам текст про разницу цепочек в моей работе.
Я:
Спасибо. Прочитал.
Сбивает с толку терминология: традиционная, онтогенетическая цепочка...
Что входит, что не входит в ЗОНУ Ближайшего Развития?
Засучивание/рассучивание рукавов?
А при чём тут они?
Я сейчас, извините, в одних трусах, так и лучше умываться, а потом уже всякие рукава/штанины.
МП:
Внутри каждой цепочки самообслуживания, например еды или одевания, есть разные по доступности освоения в данный момент.
Это как и в любом другом предмете.
Например, ребенок сначала учится держать карандаш, потом проводить линии, потом писать буквы, слова, и уже после пишет сочинения.
Никому не подходит в голову заставлять трехлетнего малыша писать сочинение по произведениям Достоевского!
А в самообслуживании у наших детей это и происходит.
Для них в самом начале закрутить кран, как сочинение, а подставить руки под струю воды, это как держать карандаш.
Я:
Но чтобы подставить руку, кран надо открыть...
Да, спасибо за анализ.
И когда начинают со струи — это онтогенетическая цепочка?
МП:
Да, но открывает кран педагог руками ребенка, а когда доходит до подставить руки, педагог отпускает (!) руки ребенка, предлагая ему проделать это самостоятельно, а за мылом потом снова совместно.
Я:
Значит, совместность и разделённость чередуются в соответствии с тем, к чему ребёнок уже готов, а к чему не готов...
И при овладении «традиционной» цепочкой ошибка в том, что застревают на ещё недоступной, но предшествующей доступной операции.
Чем всё же отличается традиционная цепочка от онтогенетической?
Причём тут онтогенез?
И к какому генезу относится традиционная цепочка?
Не к филогенезу же?
МП:
Есть теория построения движений Бернштейна.
В ней говорится, что становление движений происходит в определенном порядке.
Например, сначала ребенку становятся доступны крупные движения, и только много позже он сможет осваивать мелкую моторику.
То есть ребенок в процессе развития овладевает движениями в определенной последовательности, которую я называю онтогенетической.
Привычная цепочка соединяет эти движения вразнобой, так как исторически ребенок с рождения сначала учился двигаться, а потом самообслуживанию.
И к моменту начала обучения самообслуживанию ребенок уже владел всеми нужными движениями, поэтому и оставалось только усваивать нужную последовательность операций.
Сейчас наши воспитанники поступают (в детдом.— А.С.) и не могут даже одновременно две руки поднять вверх, например, у них не сформированы эти основные движения.
Это приходится учитывать.
Я:
Это может быть и неврологической симптоматикой...
Меня врач-психоневролог всегда просит коснуться кончика носа указательными пальцами поочерёдно обеих рук.
МП:
Я взяла поднятие рук, как пример, можно заменить на вытянуть руки вперед.
Я:
Меня и об этом просили врачи.
Проверяли на тремор.
А если стоя — то на равновесие.
Ну, это я давно не выдерживаю, иначе бы мне не была нужна коляска...
МП:
Но наши дети в большинстве своем это не делают не из-за проблем неврологических, а потому, что никто их даже не пытался учить этому.
Я:
Я это и хотел от Вас услышать.
Спасибо огромное.
МП: И Вам спасибо!
Я:
Вот, два полуночника...
Сейчас скопирую этот разговор в заметку, чтобы затем использовать в статье.
Литература
Ильенков Э.В. Абстрактное и конкретное.— Собрание сочинений. Том 1.
Ильенков Э.В. Философия и культура.— М., ПОЛИТИЗДАТ, 1991.
Коммунист. 1977, №2.
Спиноза Б. Этика... // Спиноза Б. Избранные произведения. Том первый. М., ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1957.
Корчак Я. Как любить ребенка. Издательство «Книга», 1980. Главка 1, 109.
Левитин К.Е. Лучший путь к человеку (репортаж из детского дома) // Карл Левитин. Всё, наверное, проще... М., «Знание», 1975.
Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе формирования поведения. М., «Педагогика», 1974.
Переверзева М.В. Диагностика и формирование навыков самообслуживания у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития // Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. М., 2019.
2.2. Барсуков И. С. Объективное противоречие процесса труда и проблема формирования мышления
Труд — деятельность целесообразная. И целесообразность непросто его характеристика наряду с другими, она является его качественной определённостью, основанием труда как продуктивного действия общественного человека. Противоречие, о котором пойдёт речь,— внутреннее противоречие цели. Структура данного противоречия выражается в отношении индивидуального и родового (общественного) в процессе реализации цели. Поскольку в труде цель как идеальный образ реальности предшествует результату, то возникает вопрос: каким образом приходят идеи к индивиду, или, каким образом формируется индивидуальная цель? Здесь важно именно формирование образа действия у индивида, ибо в труде присутствует момент индивидуального, и, прежде чем стать овеществлённым труд должен обязательно быть живым трудом — трудом, протекающим во времени, специфически человеческим бытием индивида. При этом источником формирования идеи у индивида выступает родовой опыт, воплощённый в материальных и идеальных формах, результат совместной целесообразной деятельности прошлых и живущих поколений (культура в широком смысле слова), т.е. опыт сам есть результат действия индивидов. Таким образом в структуре самодвижения цели выделяются два противоречащих друг другу процесса: формирование цели и реализация цели.
Различие двух движений заключается в исходной основе и в результате. Исходная основа и результат второго процесса представляют собой узловые пункты любого практического действия. Результат здесь отличается от исходной основы тем, что идеальная форма как образ предмета переведена в вещественную форму. Но в этом процессе самодвижения цели имеется различие между двумя содержаниями. Исходное содержание и результативное не совпадают, так как в итоге имеется приращение содержания, его своеобразное снятие. Отсюда и развитие всего так называемого «тела культуры» происходит именно в сфере практической реализации. Совсем иной характер содержания в процессе формирования цели — в процессе образования. Индивиду в процессе формирования цели (образования) родовой опыт предпослан как прошлый, следовательно, тождественный самому себе, фиксированный в идеальных образах действительности мир. Однако, как реализующий цель, индивид стремится к тому, чтобы преобразовать мир. Получается, что с одной стороны, содержание предпослано, с другой,— индивиду в процессе реализации цели (в процессе труда) требуется снять предпосланное, выйти за пределы. Налицо противоречивая основа процесса расширенного воспроизводства человека (индивида) и общества (рода).
Указанное противоречие во все периоды истории человечества разрешалось и продолжает разрешаться в области практического. Именно в этой области имеет место приращение содержания, с последующим переходом содержания в родовой опыт. В сфере же образования в качестве содержания использовались фиксированные в опыте, отошедшие в прошлое представления. В образовании всегда речь шла о трансляции знаний, и задача действительного приращения содержания здесь никогда не ставилась, т.е. не была продолжительное время в истории сообществ людей актуальной задачей. И если в практической сфере приращение содержания осуществлялось посредством объективной диалектики вещей и, стихийно отображающей этот процесс, диалектики идей, что было достаточно для развития сообществ людей, то в области образования закреплялись догматические и метафизические методы работы с содержанием. Но когда стало очевидным, что так называемый «информационный взрыв» и широкая автоматизация приводят к быстрому моральному устареванию добываемых наукой знаний и увеличению темпов замены основного капитала, то обеспечить темпы развития, основанная на традициях эмпиризма и позитивизма, наука не готова.
К изменениям стиля мышления наука не готова, в том числе и потому, что традиции мышления, основанного на диалектике, сначала просто игнорировались (что характерно для теорий, особенно в гуманитарной сфере) и постепенно полностью исчезли из системы подготовки научных кадров. При этом консерватизм в обновлении содержания образования, обречённого на трансляцию, т.е. простое воспроизводство содержания, глубоко укоренился в системе. Так что адекватно ответить на вызовы времени система образования объективно не может. К тому же и в практике, какой бы замечательной и передовой она не была, всегда имеются не только субъективные, но объективные границы, связанные с методами мышления, которые представляют собой эмпирические или позитивистско-рационалистические формы. Т.е. имеет место кризис расширенного воспроизводства знания и неспособность обеспечить высокие темпы развития общества.
Но как это часто бывает в истории науки, как бы предвосхищая глубинные трансформации в экономике в конце XX — начале XXI веков, уже в первой половине — середине XX века на стыке педагогики и психологии начались активные поиски методик, обеспечивающих подготовку человека к расширенному воспроизводству знаний. Идея преодоления принципиальной ограниченности дидактики состояла в том, чтобы научить ребенка учиться самостоятельно, т. е. превратить его из обучаемого в учащегося, сделать субъектом собственного образования. Для этого требовалось уже в начальных классах формировать у детей способность к самостоятельному теоретическому познанию, развивать теоретическое мышление, выдвигая это направление в качестве приоритетного,— «… только формируя такое мышление, можно ввести ребенка в позицию субъекта учебной деятельности»,— указывал, например, В.В. Давыдов [6, с. 8]. Опираясь на доказанную Л.С. Выготским ведущую роль обучения в психическом развитии детей [1], В.В. Давыдов фактически заложил основы теории и практики развивающего обучения. Критикуя систему образования, называя его — «… ремесленным обучением, сложившимся несколько веков назад …» [6, с. 115], которое закрепляет в мышлении школьников ограниченность эмпирических методов, методов агрегативного освоения содержания, он видел преобразование системы в приведении образования — «…в соответствие с научно-техническими достижениями века, что предполагает изменение типа мышления, проектируемого системой обучения. Новой «моделью» должно стать диалектическое, теоретическое мышление» [6, с. 213]. Разработанные В.В. Давыдовым и его последователями учебные программы и методы преподавания в отличие от всех остальных педагогических разработок того периода, имели глубокое психологическое обоснование, опирались на работы А.Л. Леонтьева о деятельностных основаниях развития психики [9] и теорию П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий [2].
Тем не менее, эти подходы, несмотря на их прогрессивность, были ограничены пределами психологии, поэтому во многом были неэффективными в аспекте работы с предметным содержанием или научным знанием. Это стало ясно, когда теория развивающего обучения под влиянием западных идей гуманистической психологии существенно трансформировалась, утратив основные ориентиры на формирование диалектического стиля мышления и теоретического мышления вообще. Об этом также свидетельствуют трудности, возникшие в системе развивающего обучения при переходе на этапы основного общего и среднего общего образования, где значительно повышаются требования к научности освоения содержания.
Надо заметить, что диалектика и вообще природа логического никогда не были предметом изучения психологии и педагогики, эта область всегда оставалась предметом философии, причём классических её форм. Но для современной науки диалектика, и как мировоззрение, и как метод мышления остаётся невостребованной, уравненной, в мнимом многообразии с логически ограниченными формами с тем же позитивизмом всех сортов, вполне пригодным для обобщений в области точных наук, но оказывающимся часто бесполезным в гуманитарных. Между тем только для диалектики актуальной является задача прояснения для познающего уникальной функции мышления, протекающего в понятиях — приращение содержания. Для снятия разобранного выше внутреннего противоречия труда, требуется именно подобный образ действий в процессе формирования цели.
Учитывая также уникальные характеристики мышления и, прежде всего, способность само себя сделать предметом. Мышление, понимающее собственные законы и сознательно направляемое,— это мощь, которой ни одна иная форма движения окружающего мира не способна противостоять. Противостоять в том смысле, что мышление во всё может проникнуть, всё сделать своим, представить объективный мир в собственных формах. Но, к сожалению, на сегодняшний день ни одна педагогическая технология, широко применяемая на практике, не учитывает и целенаправленно не применяет логические средства в организации учебного труда, а при подготовке педагогических кадров и в образовательной политике в целом такая задача вообще не ставится.
Низкий уровень культуры мышления и отсутствие понимания природы логической формы приводят к тому, что процесс формирования мышления идёт вслепую, стихийно, а значит малопродуктивно, с большим уровнем издержек, приводящих к снижению человеческого потенциала. Результат — отчуждение субъекта учебного труда от предмета (наук, видов искусств, философии, физической культуры, медицины и т.д.), что не только вредно для отдельного лица, но и блокирует развитие самого предмета. Часто выставляемый аргумент против включения в учебный процесс фундаментальных наук — невостребованность подобного рода знаний в практике конкретного индивида — есть не более, чем ограниченная рефлексия здравого смысла, не понимающего специфику категориальных обобщений и их роль в отражении объективных законов действительности.
И пока такое положение дел не преодолено прежде всего в индивидуальном учебном труде, никакие организационные формы и коммуникационные изыски (организационно-деятельностные игры, сюда же следует отнести различные виды психологического сопровождения) не способны снять границы, имеющие место в объективном процессе расширенного воспроизводства знания. К сожалению такова и общемировая тенденция.
Начало действительным изменениям может быть положено только в изменении системы подготовки педагогических кадров в направлении освоения будущими педагогами культуры работы с понятийным мышлением. Понятийное мышление — это мышление, при котором систематизация материала осуществляется с использованием не ситуативных, эмоциональных, образных и т.д., а категориальных обобщений. Категоризация — специфический вид обобщений, требующий, в первую очередь выделения лежащих в основании предмета или явления его внутренних, существенных характеристик. Объединение между собой явлений, событий, отдельных объектов, предметов, их группировка осуществляется посредством установления генетических, родо-видовых, причинно-следственных, прямых и обратных связей, а не посредством произвольных, субъективных ассоциаций [11]. Хотя понятийное мышление — это субъективная форма, но субъективность здесь отражает и выражает объективно действующие законы окружающего мира.
При этом в понятийном мышлении следует различать два необходимых, но выполняющих различные функции типа категориальных обобщений. Эту особенность в своё время не учли основоположники развивающего обучения. Работа с понятиями, если она вообще происходит, в лучшем случае учитывает только один из типов обобщения. Понятие прежде всего рассматривается как абстрактно-всеобщее. Так рассматривают понятие все позитивистские направления в философии, на этих основаниях построена вся современная наука и методология. И именно поэтому современная наука не способна на высокие темпы расширенного воспроизводства научного знания. Ибо сам способ или принцип синтеза нового знания в позитивизме посредством абстрактно-всеобщего принципиально ограничен. Максимально чего достигает такого рода синтез — это объединение признаков являющегося многообразия. В этом случае понятия — только номинальные определения и образы, внешне соотнесенные с объективным содержанием, и тем самым субъективны. Понятие становится формальным, регулятивным единством применения рассудка — канон, но не органон для знания — по Канту [10, с. 162– 163], то есть не способ получения нового знания, а лишь готовая форма для систематизации известного материала. Но —» …то, что известно (bekannt), ещё не есть поэтому познанное (erkannt); …» — отмечал Гегель [4, с. 24; 5, с. 22,]. Внешнее соотношение формы с познаваемым содержанием приводит к различию (к такой определённости), в котором понятие как абстракция отрывается от многообразия вещей, и не имеет содержания в себе самом, имеет только данное ему содержание. Поэтому одной из проблем сопутствующих подобному типу мышления выступает так называемый «вербализм» — словесное воспроизведение определений без понимания, без осознания внутренней связи с другими понятиями предметной области. Вполне пригодное для выполнения формально-логических операций, т.е. для полноценной работы с известным знанием, рассудочное мышление испытывает непреодолимые трудности там, где имеется форма противоречия. Поэтому освоение формальной логики не открывает в полной мере субъекту возможность действительного понимания внутренней логики предмета, а также не может быть бесконечным толчком (мотивом) к изучению предмета. Такой подход ограничен и не содержит принципа возобновления познающего (идущего от субъекта) действия, что является решающим в организации процесса познания именно в области дидактики.
В другом же типе обобщающих действий понятие выступает как конкретно-всеобщее [8, с. 320–339]. Понятие в диалектике отражает внутренние определения предмета, его сущность, его противоречивую основу как закон его движения и развития [4]. Обобщение посредством категорий связано с таким их качеством как внутренняя связь противоположных категорий, их логический переход, самодвижение смыслов. Здесь открываются бесконечные возможности для целенаправленной работы с понятиями, посредством осмысления и разрешения противоречий; выведение системы понятий предмета как единого целого. В процессе выведения субъект получает опыт разрешения объективных противоречий, опыт моделирования смыслов, опыт обретения так называемого «живого знания» [3, с. 56]. «Живого знания» в том смысле, что некоторая завершенность и определённость в нём присутствует лишь как момент, за которым с необходимостью следует самовозобновление познающего действия. Получается, что категориальный синтез снимает внутреннее противоречие труда, поскольку фиксированное знание становится подвижным, субъект получает опыт самостоятельного поиска и выведения смыслов или понятий, отражающих объективную реальность, что в перспективе снимает и проблему формирования мотива к обучению.
Выше было отмечено, что практически во всех педагогических системах проблема развития мышления не только не решается, но даже и не ставится. Есть подходы, направленные на развитие отдельных характеристик или типов мышления, например: развитие критического мышления, теория решения изобретательских задач, система развивающего обучения и некоторые другие. Они, конечно, заслуживают положительной оценки, особенно на фоне традиционных подходов, но, при этом, эти подходы основаны на использовании нескольких удачно найденных приёмов, т.е. остаются в пределах стихийности проявлений мышления. И, несмотря на многообразие подходов позиционирующих себя как инновационные, в современной дидактике имеется только одно направление, целенаправленно использующее при выработке методик в работе с содержанием диалектический подход, и уделяющее особое внимание освоению законов, по которым организуется продуктивная деятельность человека, т.е. труд. Подход этот отражён в теории учебного процесса, предложенной Анатолием Иосифовичем Гончаруком [3]. Надеемся, что обсуждение и освоение указанной теории дело уже ближайшего будущего.
Литература
Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т.2. Проблемы общей психологии.— М.: Педагогика, 1982.— 504 с.
Гальперин П.Я. Формирование умственных действий // Хрестоматия по общей психологии. Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В.Петухова,— М.: Издательство Московского университета 1981, с. 78–86.
Гончарук А.И. Концепция Школы XXI века.— Красноярск: изд-во КГУ, 2002.— 68 с.
Гегель Г.В.Ф. Наука Логики.— СПб: Наука, 1997.— 799 с.
Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа.— М.: Наука, 2000.— 495 с. 4.
Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении.— М.: Педагогическое общество России, 2000.— 480 с.
Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М: ИНТОР, 1996.— 544 с.
Ильенков Э.В. Философия и культура.— М:Политиздат, 1991.— 464 с.
Леонтьев А.Н. Мышление // Хрестоматия по общей психологии. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова,— М.: Издательство Московского университета, 1981. с. 60–69.
Кант И. Кант И. Соч. в 6-ти т. т.3. Критика чистого разума.— М., Мысль, 1964.— 799 с.
Ясюкова Л.А. Закономерности развития понятийного мышления и его роль в обучении.— СПб: Иматон, 2005.— 256 с.
2.3. Багоцкий С. В. Наследуется ли криминальное поведение?
Вопрос о наследовании социально значимых признаков (нравственных качеств, способностей, склонности к криминальному поведению и т.д.) вызывал острые дискуссии в научной, философской и педагогической среде. Интересовала эта проблема и Эвальда Васильевича Ильенкова (1924–1979), который придерживался точки зрения, согласно которой социально-значимые признаки не наследуются. Этой же точки зрения придерживался и выдающийся генетик Николай Петрович Дубинин (1907–1998).
По мнению этих исследователей социально-значимые признаки формируются в ходе общественной жизни и взаимодействия с другими людьми. Поэтому преступное поведение имеет исключительно социальные корни.
Противоположной точки зрения придерживались генетик Владимир Павлович Эфроимсон (1908–1989), юрист Иосиф Соломонович Ной (1923–1997) и философ Давид Израилевич Дубровский (род. 1929). Они считали, что социально-значимые признаки в значительной степени наследуются и преступное поведение имеет не только социальные, но и биологические корни.
Советское руководство подержало первую точку зрения, несмотря на то, что из неё автоматически следует неприятный вывод о существовании в Советском Союзе социальных корней преступности.
Сторонники обеих точек зрения приводили в свою пользу немало фактов, но спор так и остался незавершенным.
Но так ли уж несовместимы друг с другом обе точки зрения? Может быть, они представляют собой диалектическое противоречие, подобное тому, с которым столкнулся Карл Маркс, размышляя на тему о том, откуда берется прибыль капиталиста. Поиск путей разрешение таких противоречий приводит к решениям, поднимающим наше понимание проблемы на качественно более высокий уровень.
Для ответа на этот вопрос следует, наверное, вспомнить историю криминологии — научной дисциплины, изучающей преступность и преступников.
Проблема формирования личности преступника и его преступного поведения обсуждалась в криминологии достаточно давно. Классическая концепция, разработанная в 18 веке Чезаре Беккариа (1738–1794), исходила из того, что преступником может, в принципе, стать любой человек. Из чего был сделан логичный вывод о том, что при вынесении приговора суд должен оценивать не личность преступника, а его деяния. Что заработал, то и получай. Человек, не совершивший преступления, преступником не считается. Даже потенциальным. На этом положении держится все современное уголовное право.
Эту концепцию ярко иллюстрирует известный анекдот про старушку, пришедшую в милицию с жалобой на соседа, который угрожал её убить. «Когда убьет, тогда и приходите»,— сказали в милиции. С точки зрения закона работник милиции ответил совершенно правильно. Пока гражданин не совершил преступление, никаких претензий к нему закон предъявить не может.
Однако в 19 веке в общественном сознании стал укрепляться мысль о том, что существуют люди, которые в сравнении со среднестатистическими гражданами, могут с большей вероятностью совершить преступление. Таких людей видели среди обитателей городского дна, ярко изображенных в романе Эжена Сю (1804–1857) «Парижские тайны». При этом приобрели популярность представления о том, что преступное поведение имеет социальные предпосылки.
В середине 19 века французский врач-психиатр Бенедикт Морель (1809 1873) сформулировал представление о вырождении людей. Он считал, что Высший Разум создал Человека совершенным, но постепенно люди стали вырождаться. Одни быстрее, а другие медленнее. Результатом этого вырождения стало снижение умственных способностей, рост психических заболеваний, а также склонность к преступному поведению. Его идеи развил итальянский психиатр Чезаре Ломброзо (1835–1909). С его точки зрения склонность к преступному поведению является результатом биологических особенностей организма. Поэтому преступное поведение имеет не только социальные, но биологические предпосылки. Ломброзо даже выявил черты внешности, коррелирующие со склонностью к преступному поведению. Следует, однако, отметить, что ни в одной стране мира черты внешности, описанные Ломброзо, не рассматриваются в качестве улики, позволяющей обвинить человека в совершении преступления. И Слава Богу!
Несомненная заслуга Ч. Ломброзо заключается в том, что он по новому взглянул на предмет криминологии, сделав её главной задачей изучение не самих преступлений, а личности преступников.
В 1890 г. французский социолог Габриэль Тард (1843–1904) выдвинул концепцию приобщения к преступному поведению путем подражания и обучения. Эта концепция предвосхитила одну из наиболее глубоких криминологических теорий — теорию дифференцированной связи, выдвинутую в 1939 году американским криминологом Эдвином Сатерлендом (1883–1950).
Согласно теории дифференцированной связи, будущие преступники обучаются преступному поведению, вращаясь в преступной среде. При этом у них формируются как положительные морально-этические оценки своего поведения, так и непосредственные навыки, необходимые для свершения преступления. Сатерленд особенно подчеркивал, что обучение преступному поведению в принципе ничем не отличается от обучения любому другому поведению.
Теория дифференцированной связи поставила вопрос о том, почему одни люди, контактируя с преступной средой, интегрируются в нее и становятся преступниками, а другие — нет. Это замечание было совершенно справедливым и открывало пути для дальнейшего углубления и развития идей Сатерленда. Для этого нужно было проанализировать взаимоотношение людей с разными индивидуальными особенностями с преступной субкультурой. Предмет криминологии должен был вновь измениться: от изучения личности индивидуального преступника, к изучению механизмов функционирования преступной субкультуры и преступных сообществ.
И здесь становятся понятными разумные пути поиски взаимосвязи между генами и преступностью. Похоже на то, что определенные, в том числе и генетически обусловленные черты характера позволяют юноше (или девушке) чувствовать себя более комфортно или менее комфортно в обществе граждан, нарушающих закон. И, соответственно, более успешно или менее успешно обучаться преступному поведению. Становятся понятными и результаты Чезаре Ломброзо: люди с определенными чертами внешности легче становятся «своими» в криминальной среде.
Человек обучается социальному, в том числе и преступному поведению. Но он имеет возможность выбирать учителей. И именно на выбор учителей могут сказываться наследственно обусловленные особенности личности.
В современном обществе человек имеет возможность сам выбирать наиболее комфортную для себя социальную среду. Процесс выбора подростком околокриминальной среды хорошо описан в известном романе Эдуарда Вениаминовича Лимонова (род. 1943) «Подросток Савенко».
Воспитанники Детского дома в Загорске по понятным причинам не имели возможности самим выбирать учителей. Отсюда и результаты эксперимента, которым руководил Эвальд Васильевич Ильенков.
По-видимому, наряду с выбором компании есть и ещё один механизм, толкающий человека на преступную деятельность. Это — определенная роль, принятая на себя человеком в социальной микосреде, не имеющая внешних признаков криминальности. В отличии от описанного выше, подобный путь формирует одиночных, очень опасных преступников, подобных описанному Федором Михайловичем Достоевским (1821–1881) Смердякову.
Смердяков, которые окружающие считают дурачком, является на самом деле самым умным и самостоятельно мыслящим персонажем «Преступления и наказания». И, наверно, одним из самых умных героев в русской классической литературе вообще. Не Иван Карамазов развращает Смердякова, а Смердяков манипулирует Иваном Карамазовым. Но, увы, ум Смердякова служит злу.
Само по себе наличие тех или иных генов не означает, что человек обязательно станет преступником или законопослушным гражданином. Речь идет о большей или меньшей вероятности. Подростков, обладающих генами, толкающими в криминальную среду, следует рассматривать, как группу риска, но не как потенциальных преступников.
Исходя из вышеизложенного, разумная стратегия профилактики преступного поведения заключается в том, что бы понять, какие потребности человека с теми или иными психофизиологическими особенностями удовлетворяет пребывание в криминальной среде и научиться удовлетворять эти потребности иным, позитивным способом. Опыт Великого советского педагога Антона Семеновича Макаренко (1888–1939) показывает, что этот путь позволяет добиться впечатляющих результатов в перевоспитании несовершеннолетних правонарушителей.
Сильной альтернативой хулигану Мишке Квакину могут стать только Тимур и его команда. Но подробное обсуждение путей профилактики преступности выходит за рамки настоящей статьи.
Проблема имеет и другую сторону.
В современной литературе активно обсуждается вопрос о том, детерминировано ли поведение человеке биологическими или социальными факторами. Но принципиальной разницы между этими позициями нет: обе стороны рассматривают человека, как детерминированный автомат, не обладающий свободой воли.
Принципиально по иному смотрит на человека христианство. Безусловно осуждая грех, христианство очень терпимо относится к грешнику. Подобно Ч. Беккариа оно оценивает не личность, а поступок. Настоящий христианин никогда не скажет человеку: «Ты свинья!». Он скажет «Ты поступил по свински!». Грешник не обречен оставаться грешником. Он может раскаяться. Человек способен коренным образом измениться. Главарь банды фашиствующих молодчиков Савл превратился в апостола Павла, разбойник Кудеяр — в соловецкого монаха, а тихий благонравный мальчик Коля — в грозного публициста Николая Александровича Добролюбова (1836–1861), которого либеральные оппоненты сравнивали с очковой змеей. Это понимал Федор Михайлович Достоевский, который на старости лет задумал новый роман. В этом романе Алеша Карамазов станет революционером и будет казнен. Идею Достоевского реализовала Этель Лилиан Войнич (1864–1960) в романе «Овод».
По мере развития цивилизации общество становится все более и более разнообразным. И появляется все больше возможностей для выбора учителей, чьи уроки в большей степени гармонируют с индивидуальным генотипом. Поэтому мы можем сделать парадоксальный вывод о том, что с развитием общества роль наследственных факторов в формировании человеческого поведения должна возрастать.
Литература
Альтман М.С. Достоевский. По вехам имен. Саратов, Саратовский государственный университет, 1975. 280 с.
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М: ИНФРА-М, 2004. 164 с.
Войнич Э.Л. Овод. М: АСТ, 2019. 384 с.
Гайдар А.П. Тимур и его команда. М: ЭКСМО, 2018. 128 с.
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. М: ЭКСМО-пресс, 1998. 800 с.
Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведение. Ответственность. О природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения». М: Политиздат, 1982. 304 с.
Дубровский Д.И. Мозг и психика // Вопросы философии. 1968. № 8. С. 125–135.
Ильенков Э.В. Психика и мозг (ответ Д.И. Дубровскому) // Вопросы философии. 1968. № 11. С. 145–155.
Лимонов Э.В. Подросток Савенко. СПб: Амфора, 2002. 308 с.
Макаренко А.С. Педагогическая поэма. М: ЭКСМО, 2018. 560 с.
Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе формирования поведения. М: Педагогика, 1974. 328 с.
Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов: изд-во СГУ, 1975. 222 с.
Фокс В. Введение в криминологию. М: Прогресс, 1985. 312 с.
Шур Э. Наше преступное общество. М: Прогресс, 1997. 326 с.
Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. СПб: Талисман, 1995. 288 с.
2.4. Борецкий О. М. Мыслящая личность как идеал Э. В. Ильенкова
Как известно, эпоха Просвещения по контрасту с предыдущей эпохой провозгласила своей целью и моделью образования самостоятельную и независимую личность: просвещенный разум означал не что иное, как способность мыслить самостоятельно, без ориентации на авторитет. Говоря о воспитании способности «самостоятельно мыслить», Э.В. Ильенков берет эти два слова в кавычки и добавляет: «точнее — просто мыслить, ибо мыслить можно только самостоятельно.
Призывая перестать рассматривать «усвоение знаний» и «воспитание ума» как две разные задачи, Ильенков, по-сути, сделал творческое (самостоятельное) мышление синонимом знания. Мысль невероятно актуальная для современного человека, живущего в тотально информационном мире. Человека, зачастую просто имеющего информацию, но не знающего.
Учить мыслить, подчеркивал Ильенков во многих своих работах,— значит учить диалектике. А диалектика, в свою очередь, это мышление через противоположность, это способность усматривать тождество противоположностей. И поэтому, когда мы вслед за Гегелем определяем любовь как «своё иное», а смерть как «определенную неопределенность», мы схватываем саму диалектическую суть, природу этих явлений.
Ильенков никогда не отрицал связь мышления и языка, но он всегда подчеркивал «первичность» мышления. «Действительное мышление, пишет он, есть условие, без которого нет и не может быть свободного владения языком. Человек, не умеющий самостоятельно мыслить, языком не владеет, скорее язык владеет им». Не он использует язык, а язык использует его. И в этом случае мышление, впадающее в рабскую зависимость от языка, от словесных штампов, языковых стереотипов и конструкций, становится догматическим. В духе Ильенкова можно сказать, что не только «самостоятельное мышление», но и «критическое мышление» содержит тавтологию: действительное мышление по умолчанию является и самостоятельным и критическим.
Одна из немногих истин, к которой пришла философия ХХ века, состоит в том, что человек — это существо грезящее, воображающее. Не биологическое. Не социальное, а асоциальное, не языковое, а сознательное. Оказалось, что сознание (мышление) по своей природе никак не связано с языком. Язык существует как способ социализации индивидов. Само же мышление, по замечанию М. Фуко, это проблематизация того предела, до которого возможно мыслить иначе. Если раньше, в историко-философской традиции мышление интересовали законы, основания и сущности, то сегодня оно мыслит о пределах возможного. Мышление из субстанциального стало (точнее, должно стать) виртуальным, из понятийного — парадоксальным.
Ильенков определял мышление как способность продуктивного воображения. Разница между сознанием (мышлением) и разумом (интеллектом) заключается в том самом противоречии, в котором, по Гегелю и Ильенкову, и состоит критерий истины. Сознание может и должно себе противоречить (человек весь состоит из таких противоречий и парадоксов, включая главный экзистенциальный парадокс человека). В свою очередь, разум исключает любое противоречие, он «хомо-номичен», просчитывая все шансы и возможности. Именно поэтому его атрибут — вычисление. В то время как атрибутом мышления (сознания) является воображение. Человеческий мир как мир свободного, спонтанного сознания, это мир воображения, иллюзий и грёз. Иллюзорное сознание, способное к самоактуализации — есть Человек. И поэтому Художник как тип самоактуализирующегося иллюзорного сознания является в искусстве тем провокатором, который возвращает человеку человеческое, не позволяя умереть его антропологической способности к воображению, а значит, и мышлению. Думается, что интерес Ильенкова к эстетике и искусству во многом связан именно с эстетической природой мышления-воображения.
Примета нашего времени состоит в том, что сегодня у нас очень много людей религиозных и очень мало людей верующих. И точно также — много людей разумных и очень мало людей мыслящих. Разум очень быстро подменил мышление так же, как цивилизация подменила культуру. Прагматика очевидности вытеснила хаос грёз. Повседневность и «духовная буржуазность» (Н.Бердяев) победили метафизику. Метафизика стала бесполезной. Мышление как плавание в океане недисциплинированной фантазии стала угрозой надёжности реального счастья, что в своё время предвидел Кант, употребив термин «мизология» (нелюбовь к мышлению): сад радостей земных на мышлении не построишь, для этого нужен интеллект.
Не сложно понять, что от того, как мы понимаем мышление и интеллект и какое существенное различие видим между ними, зависит вся дальнейшая методика образования, которому Э.В. Ильенков всегда уделял очень много внимания. Что и кого мы хотим получить: интеллектуальную нацию или мыслящую личность? Можно ли соединить в нашей системе образования обе задачи: развитый интеллект, без которого сложно себе представить качество современной цивилизации, и творческое мышление, без которого не бывает никаких значительных прорывов, открытий и инноваций? Вопросы эти, как нам представляется, являются фундаментальными и основополагающими для системы образования на всех его уровнях.
2.5. Ермаков В. Г. Анализ моделей реализации педагогических идей Э. В. Ильенкова в современном образовании
Собственные педагогические идеи, а также условия и способы их реализации Э.В. Ильенков представил в своих работах ярко и выразительно. Так, в брошюре «Учитесь мыслить смолоду» описанию знаменитого эксперимента со слепоглухими детьми, в котором тонкости обучения, воспитания и развития подпитывались высокими моральными и гуманистическими устремлениями педагогов, он предпослал мнение некоторых теоретиков, в первую очередь американских, согласно которому число людей, способных к творческой работе, и число людей, обречённых быть «репродуктивами», соотносятся как 6 к 94 [1, с. 10]. Из этого сопоставления подходов к обучению сразу вытекает, что столь значительные расхождения в исходных педагогических установках и реальных достижениях системы образования определяются коренными различиями двух существовавших в ту пору социальных систем, в одной из которых доминировали именно те теории, которые позволяли оправдывать социальное неравенство между людьми и усиливали его. В современных условиях, когда система капиталистических отношений захватила практически всю планету и закрепилась с помощью механизмов экономической глобализации, реализовать педагогические идеи Э.В. Ильенкова намного труднее, но одновременно они становятся инструментом борьбы против усиления социальной стратификации по уровню образования.
Последствия названных изменений в мире иллюстрирует высказывание Г. Грефа на Петербургском международном экономическом форуме в 2012 г.: «Когда люди поймут основу своего «Я», самоидентифицируются, то управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда у них есть знания. (...) Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации?» [2]. Как видим, установка «учить всех всему», включённая Я.А. Коменским в заголовок его «Великой дидактики», остаётся идеалом уже не для всех людей, оказывающих серьёзное влияние на систему образования. В частности, лидеры бизнеса, ратуя за подъём элитарного образования, необходимого для технологического рывка, одновременно ищут оправдания для понижения уровня массового образования.
Наряду с ухудшением социально-культурной и политико-экономической среды применению гуманистических идей в образовании мешает растущая неоднородность информационного пространства культуры, требующая усложнения моделей управления образовательными процессами и соответствующего изменения парадигмальных представлений. В решении этих проблем, без которого нельзя повысить качество массового образования на всех его ступенях, творческое наследие Э.В. Ильенкова может и должно сыграть важную роль. О существенном вкладе его идей в разработку методов развития мышления учащегося средствами текущего контроля сказано, в частности, в работе [3]. Продолжая это исследование, обратимся к проблеме обучения счёту дошкольников, которая с методологической точки зрения является особенно трудной и показательной.
На высокий уровень сложности этой проблемы указал Л.С. Выготский. Исследуя развитие арифметических операций у детей дошкольного возраста, он отметил: «Почти всегда возникают чрезвычайно ответственные моменты в развитии ребёнка, всегда происходит столкновение его арифметики с другой формой арифметики, которой обучают его взрослые. Педагог и психолог должны знать, что усвоение ребёнком культурной арифметики является конфликтным» [4, с. 202]. При беглом взгляде на эту ситуацию можно подумать, что главным источником этого конфликта является та «естественная» арифметика, которую ребёнок случайным образом вырабатывает сам, не имея для этого достаточного опыта. Но Э.В. Ильенков, проведя логико-философский анализ старой методики обучения счёту, выявил, что за эту ситуацию в значительной мере несут ответственность взрослые. По его словам, «сравнительно малый процент способных к математическому мышлению мы получаем до сих пор вовсе не потому, что матушка-природа столь скупа на раздачу математических способностей, а (...) потому, что в сферу математического мышления мы зачастую вводим маленького человека вверх ногами, задом наперёд. Потому, что с первых же дней вбиваем ему в голову иной раз такие представления о математических понятиях, которые не помогают, а, как раз наоборот, мешают ему увидеть, правильно рассмотреть окружающий его мир под непривычным для него строго-математическим углом зрения» [5, с. 194].
В обоснование этого вывода Э.В. Ильенков привёл много конкретных примеров, характеризующих внутренние противоречия в прежних методах обучения. Однако они не изжиты и поныне, в чём легко убедиться на элементарном примере. Когда взрослые учат детей пересчитывать предметы, они как правило дотрагиваются до каждого элемента множества указательным пальцем и проговаривают: «Один, два, три» и т.д. Нестыковка заключается в том, что по наводке взрослого дети сосредотачивают внимание всё время только на одном предмете, а не на двух, трёх и т.д. Чтобы не вносить дополнительную путаницу при таком обучении счёту следовало бы использовать не количественные числительные, а порядковые «первый, второй, третий» и т.д. В ряде случаев данную проблему пытаются обойти, смещая основной акцент в обучении на усвоение цифр как неких линий. Тогда главной опорой становятся стихи, которые ничего не говорят детям о числе: «Шея, хвост и голова, / Словно лебедь цифра 2».
Разумеется, всё это не отдельные просчёты взрослых, а следствия трудностей объективного характера, оставшихся непреодолёнными. По словам Э.В. Ильенкова, «есть все основания полагать, что действия с числами, составляющие традиционную арифметику,— далеко не самые простые, а арифметика вовсе не составляет самого «первого этажа» математического мышления» [5, с. 204]. Далее он пишет, что простейшие количественные соотношения в истории были осознаны раньше, чем человек вообще изобрёл число и счёт, но в математических трактатах самая ранняя стадия развития математического мышления зафиксирована не была. Отсюда, по его мнению, следует, что «и логическая последовательность преподавания математики (= развития математической способности) должна начинать с действительного «начала». С правильной ориентировки человека в количественном плане реальной действительности, а не с числа, которое представляет собою лишь позднюю (а потому и более сложную) форму выражения количества, лишь частный случай количества» [5, с. 205].
Для начальной школы такой подход реализован в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, в которой авторы попытались соединить две главные грани обучения — психологическую (личностную) и предметную (математическую). С одной стороны, авторы сосредоточили внимание на той особенности содержания, которая «связана с развёртыванием учебного материала по принципу восхождения мысли от абстрактного к конкретному» [6, с. 69]. С другой стороны, формулируя основную задачу данного школьного учебного предмета, В.В. Давыдов, ссылаясь на мнение А.Н. Колмогорова, утверждал, что основы концепции действительного числа должны усваиваться детьми уже в начальной школе, т.е. «детям с самого начала должно быть раскрыто общее основание всех видов действительного числа. Таким основанием является математическое понятие величины» [6, с. 70]. Считая, что это понятие связано с отношением «равно», «больше», «меньше», Давыдов предложил организовать изучение общих свойств величины посредством практической работы по проверке этих отношений. Такая логическая реконструкция предыстории развития понятия числа имеет много тонких нюансов, поэтому данный шаг на ступеньку вниз по иерархической структуре понятий ещё не решает проблему полностью.
П.Я. Гальперин, разработавший программу пропедевтики начальных чисел натурального ряда и первых четырёх действий над ними, тоже отталкивался от мысли о том, что в повседневной жизни за числом стоит измерение, а так как «для измерения нужна мера — мера является важнейшим средством внесения собственно математического начала в мышление ребенка» [7, с. 23]. Поскольку мера — сложный объект, в представлении о ней Гальперин прежде всего выделил её качественные стороны. «Отрабатывая» их, экспериментаторы спрашивали детей: «Чем можно измерить «эту вещь» и чем нельзя (например, можно ли измерить воду веревочкой? А чем можно?)» (там же). От этих вопросов и до формирования у младших школьников представления о числе в программе П.Я. Гальперина пролегает длинный и долгий путь. Для удержания внимания и активности детей на этом пути экспериментаторы использовали проблемный метод обучения, а именно, пользовались несовпадением их ответов на поставленные вопросы, не подсказывали правильный ответ, а наводили на приём, который позволял детям самостоятельно найти правильное решение. Очевидно, этот метод обучения, применяемый в ответ на сложившиеся обстоятельства, и сам по себе обеспечивал значительный развивающий эффект. Он возникает от незначительной на первый взгляд перестановки локальных целей обучения: вместо традиционного предварительного мотивирования учащихся для усвоения ими следующего фрагмента учебной программы, организовано такое изучение отдельного вопроса, которое усиливает и поисковую активность, и самооценку, и мотивацию учащихся.
Широкому распространению такого подхода мешает общее стремление к упорядочению учебного процесса. Но так как обширную и рассчитанную на все случаи жизни программу пропедевтики понятия числа на дошкольную ступень образования перенести невозможно из-за скоротечности дошкольного возраста и малого жизненного опыта детей, то эта ступень оказывается очень хорошим местом для испытания резервов такого рода. Даже при попытках частичной реализации этих идей на дошкольной ступени обнаружились эффекты, позволяющие позитивно оценивать перспективы разрешения рассматриваемых методологических проблем.
Например, однажды после завершения авторского занятия во второй младшей группе детского сада дети попросили продолжить его. В качестве небольшого развлечения им было предложено сосчитать, сколько карандашей уложится в ряд на столе воспитателя. Назвали число 8. После некоторой паузы им был задан второй вопрос: сколько раз гимнастическая палка (детская) уложится вдоль подоконника (общего для двух окон). Оказалось, 5 раз. На вопрос, что длиннее — стол или подоконник, они ответили стол (!), объяснив ответ тем, что 8 больше 5. Провокация удалась. Когда стол был придвинут к подоконнику и ошибочность их ответа стала очевидной, им пришлось задуматься о причинах ошибки. К мысли о том, что для измерения были использованы разные мерки, они пришли сами. После этого Алёша спросил: «А как измерить высоту комнаты?» Он был поднят на плечи преподавателя, ему дали линейку, ею он достал до потолка. Получили, что высота комнаты складывается из роста педагога, Алёши и длины линейки. Затем дети решили измерить длину комнаты. Девяти мальчиков не хватило, понадобилось участие в измерении ещё одной девочки. Из рассказов родителей известно, что, придя домой, дети стали измерять параметры квартиры папами и мамами.
Этот микроэпизод и множество других таких же показывают, что ставку на сообразительность детей, на их поисковую активность, выведенную из скованного состояния, делать допустимо, а тогда некоторые подразделы пропедевтической программы можно существенно сократить. В статье [8, с. 44] приведены результаты небольшого эксперимента, связанного с попыткой оценить и использовать представления учеников второго класса начальной школы о позиционной (десятичной) форме записи числа, сложившиеся у них до начала систематического обучения. Выяснилось, что в зародышевом виде эти представления у большинства детей присутствуют, но они тут же разрушаются за пределами привычного материала и под давлением более трудных заданий. Для того чтобы подтолкнуть детей к их упорядочению, был проведён математический диктант, в котором часть заданий дети могли выполнять только с опорой на десятичную форму записи чисел, а другую часть могли выполнять ещё и с помощью накопленного ранее опыта оперирования с числами. Первая предназначались для того, чтобы стимулировать использование новой для них опоры, а вторая — для того, чтобы они могли проверять и корректировать свои догадки.
В продолжение этого эксперимента на следующем уроке была проведена короткая по времени контрольная работа с аналогичными заданиями. Характерно, что встречавшиеся в ответах ошибки касались в основном первых, более простых заданий, а при выполнении более сложных заключительных заданий ошибок было намного меньше. Это означает, что в процессе работы ученики корректировали свои представления о десятичной форме записи чисел. Впоследствии учительница отметила, что никто из этих учеников до конца обучения в начальной школе в этих вопросах не ошибался.
Такого рода «короткоживущие» дидактические средства несмотря на малый объём затрачиваемого учебного времени дают большой суммарный эффект и в этом отношении служат педагогическим аналогом катализаторов в химических реакциях. Потенциал модернизации управления образовательными процессами с их помощью огромен, но они не могут быть универсальными, так как их сила заключена в привязке к текущей учебной ситуации в конкретном классе.
В начальной школе эти возможности ещё можно проигнорировать, а на дошкольной ступени образования, в которую массивные универсальные педагогические технологии никак не вписываются, усилению личностной активности ребёнка как приоритетной педагогической задачи альтернативы, вообще говоря, нет. Быть может, это и к лучшему, так как в этом случае по необходимости педагоги должны прибегать к резервам личностно ориентированного обучения всерьёз. Величину, суть и способы использования этих резервов Э.В. Ильенков наглядно продемонстрировал на примере обучения слепоглухих детей в системе И.А. Соколянского и А.И. Мещерякова. Особенно впечатляет его описание «практической стадии первоначального очеловечения» таких детей. Принципиальный момент, на наш взгляд, здесь состоит в том, что процесс взаимодействия взрослого с ребёнком не поддаётся какой бы то ни было заблаговременной привязке ко времени или к запланированной программе, а значит, линейные модели управления тут неприменимы. Кроме того, от педагога, наряду с огромным терпением, требуется максимальная внимательность к первым робким и неуклюжим попыткам ребенка самостоятельно повторить движения взрослого. И если ослабление руки взрослого оказывается соразмерным росту активности ребёнка, то прогресс в его развитии как раз и даёт указанный Э.В. Ильенковым грандиозный эффект — ни много ни мало «первоначальное очеловечение»! Столь же ярким и показательным является описанная Ильенковым тонкая процедура кормления слепоглухого ребёнка при помощи соски, результатом которой для него становится не только утоление голода, но и освоение окружающего пространства.
Как отметил сам Э.В. Ильенков, ничего не мешает действовать точно так же и со здоровыми детьми. Из приведённых примеров вытекает, что для этого занятия с ними нужно нацеливать прежде всего на укрепление их личностных возможностей, на этой базе решение учебных задач существенно упростится. В частности, это подразумевает бережное отношение и к упомянутой выше «естественной» арифметике ребёнка, которую достаточно подправлять отдельными корректирующими импульсами. Тогда обучение на дошкольной ступени образования станет не систематическим — словно с чистого листа, что привычно взрослым, а систематизирующим, что ценнее для ребёнка, так как у него сохранится возможность продолжить свою умственную работу, начатую ранее. Ставка на активность ребёнка позволяет строить незамкнутую систему обучения, создавая в основном только реперные точки, нацеливающие его поиск в определённых направлениях. В этом случае можно говорить об импульсной теории развивающего обучения.
Авторские концепция, программа и методика развивающего обучения математике дошкольников были разработаны не по рецептам, но на мировоззренческом фундаменте педагогических идей Э.В. Ильенкова. Основные соображения, приведшие к её построению в 1995 г., представлены в работе [9]. В статье [10] показано, что на начальной стадии обучения знания, умения и навыки, в которых консолидировался бы опыт ребенка, не должны относиться к сфере чистой математики. Для концентрации и временного упорядочения неполного, эпизодического, фрагментарного опыта математической деятельности ребёнка используются такие нематематические проекты, как «Школа юного архитектора», «Школа юного кулинара» и т.п. Они также защищают ребёнка от торопливости педагогов, так как уводят контроль за учебным процессом в сторону от важнейших моментов формирования способностей ребёнка к математике. В статье [11] подтверждена высокая эффективность описанного подхода.
Сказанное позволяет утверждать, что педагогические идеи Э.В. Ильенкова при подходящих (нелинейных, гуманистически ориентированных) моделях их реализации актуальны и для современного образования, переживающего кризис.
Литература
Ильенков Э.В. Учитесь мыслить смолоду.— М.: Знание, 1977.— 64 с.
ПМЭФ-2012: Сессия Сбербанка России в Санкт-Петербурге.— Код доступа: https://www.youtube.com/watch?v=RABgXkL3GqE
Ермаков В.Г. Методы развития мышления учащихся средствами текущего контроля // Философия Э.В. Ильенкова и современная психология. Сб. научных трудов. / Под общей ред. д.ф.н. Г.В. Лобастова, д.ф.н. Мареевой, д.ф.н. Н.В. Гусевой.— Усть-Каменогорск, 2018.— С. 272–285.
Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3.— М.: Педагогика, 1983.
Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах.— М: Политиздат, 1968.— 319 с.
Давыдов В.В. Психологическая теория учебной деятельности и методов начального обучения, основанных на содержательном обобщении: Теоретическое обоснование к методическим рекомендациям к экспериментальному курсу русского языка и математики для начальных классов / Под редакцией В.В. Давыдова, В.В. Репкина.— Томск: Пеленг, 1992.— 114 с.
Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребёнка.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985.— 45 с.
Ермаков В.Г. Связь обучения и развития, проблемы её моделирования и философия незамкнутости // Педагогика и психология: проблемы развития мышления: материалы II Всероссийской науч.-практ. конф. с международным участием (г. Красноярск, 08 дек. 2016) / под общ. ред. Т.Н. Ищенко.— Красноярск: Сибирский университет науки и технологий, 2017.— С. 40–50.
Ермаков В.Г. О концептуальных аспектах математического воспитания дошкольников и младших школьников // Методические советы к программе «Детство».— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.— С. 178–199.
Ермаков В.Г. Социально-культурные и психолого-педагогические аспекты математического воспитания // Alma mater (Вестник высшей школы).— 2001.— № 2.— С. 34–40.
Ермаков В.Г. Педагогические инновации и развивающее образование // Аду- кацыя i выхаванне.— 2006.— № 1.— С. 54–61.
2.6. Иванов М. А. Концепция идеала Э. В. Ильенкова и её современный контекст
Исследование проблемы идеала Э.В.Ильенковым имеет большое значение. Э.В.Ильенков актуализировал эту проблему на теоретическом уровне. Показал сложную взаимосвязь идеала с ходом истории и наметил способы выведения идеала из исторического развития, поставил вопросы истинности и реализуемости идеала и ряд других.
Теория идеала Э.В.Ильенкова представляет собой важную ступень для современного исследования проблемы идеала. Полемизируя с Ильенковым и опираясь на его идеи, мы можем продвинуться в её решении.
Одной из центральных теоретических проблем идеала является вопрос о его природе или сущности. Ильенков характеризует идеал как образец, «определяющий способ и характер поведения человека или общественного класса», как всеобщую форму целеполагающей деятельности, как активную форму общественного сознания, организующую «массу индивидуальных сознаний и воли вокруг решения одной, исторически назревшей задачи, проблемы» [1, с. 210]. В этих определениях идеал характеризуется, по преимуществу, в функциональном аспекте. Идеал соотносится с универсальной целеполагающей функцией человека, подчеркивается его особая социальная значимость, его социально-исторических характер (речь идет, главным образом, о социальном идеале, т.е. определенном виде идеала).
Безусловно, идеал обладает всеобщей функциональностью в человеческой практике, но эта функциональность специфична. Наша целесообразная деятельность не обязательно имеет своей целью идеал, однако наша цель (образ цели), может соотноситься с идеальным образцом этой цели; причем это соотнесение способно быть в разной степени осознанным, а также и интуитивным. Наличие такого образца вторично, идеал выступает здесь как корректирующий образец, является средством, а не целью. Конечно, идеал может выступать и самоцелью, однако это не делает его в этой функции всеобщим.
Ильенков убедительно раскрывает проявление социальной значимости идеала в историческом развитии (идеалы Просвещения, идеалы Французской буржуазной революции, коммунистический общественный идеал) [2, с. 44–152]. Однако функционирование такого рода социальных идеалов как форм общественного сознания нуждается в спецификации и конкретизации. Ильенков отмечает, исходя из марксистских представлений, что люди в своей повседневной деятельности руководствуются прежде всего материальными интересами, а не идеалами (идеями): «Класс поднимается на борьбу не силой идеала, как бы заманчив тот ни был, а только силой реальной жизни» [1, с. 198–199]. Идеал становится действенной силой, когда он совпадает с объективной тенденцией исторического развития и осознается людьми:«…. т.е. когда идеал совпадает с назревшей в общественном организме массовой потребностью, с массовым материальным интересом класса. Только при условии такого совпадения идеал и вызывает в массах отклик и вдохновляет их на действие» [Там же].
Как видно, в социально-исторической сфере функционирование идеала обусловлено рядом факторов (материальными условиями, осознанием и адекватным представлением идеалов в их отношении с реальностью). Без них идеал не будет функционировать и, следовательно, не будет всеобщей формой деятельности. Это говорит о том, что функциональное определение идеала не всегда является адекватным и достаточным. Необходимо найти такое определение идеала, которое было бы инвариантным его конкретным проявлениям.
Трудности, вытекающие из функционального определения идеала, ставят вопрос о его сущностно-структурных характеристиках. Ильенков обозначает идеал как «образец», «норму», «идеальный образ» [1, с. 195– 196]. Безусловно, идеал является образцом, но не всякий образец является идеалом. Любой стандарт выступает образцом, но это не обязательно идеал. Идеалом является, как мы полагаем, совершенный, высший образец. Аналогичное можно сказать и о «норме». Определенная степень нормативности присутствует в идеале. Если нормативность понимать как общеобязательность, то такой нормативности требовать от идеала вряд ли корректно. Нельзя настаивать на том, чтобы все люди непременно жили и действовали по идеалу. Однако нормативность в форме желательности, мотивационности, определенной групповой общепризнанности в идеале присутствует. Идеал же по своей природе выходит за границы обычной нормы.
«Идеальный образ» как термин вполне подходит для сущностных характеристик идеала. Однако, вопрос заключается в том, как понимать этот термин. И здесь мы сталкиваемся с укорененной и типичной двусмысленностью в понимании термина «идеальное». Конечно, идеальное имеет множество смыслов, и Ильенков, как никто другой в советской философии, прояснил и раскрыл смыслы и значения этого термина [4, с. 6–62]. Мы рассмотрим этот термин лишь в аспекте проблемы идеала.
Идеальное, как известно, понимается, во-первых, как то, что противоположно материальному. Это философский аспект, или аспект, так называемого, «основного вопроса философии». Второй смысл идеального, связан с понятием идеала, идеальное относят к тому, что называется идеалами. Эти различия смысла идеального, зафиксировал еще Ф.Энгельс. Он писал, что материалист, может быть приверженцем идеалов, также как и идеалист, хотя их взгляды на первоосновы мира принципиально различны. [8, с. 289]. В этом примере явно видны два смысла понятия идеальное. В связи с этим, следует утверждать, что всякий идеал является формой идеального (в философском смысле), то есть идеал, как форма идеального противоположен материальному. Однако, не все, что относят к идеальному, есть идеал. Множество мыслей, представлений, чувственных образов не являются идеалами. Чтобы стать идеалом, идеальное должно приобрести определенные качества. Мы исходим из того, что идеал есть единство трех существенных принципов или любой идеал выступает в единстве трех аспектов (сторон, факторов): идеал выражает в себе высшее совершенство (объекта, идеи), идеал выступает высшей целью, и идеал является высшим образцом [6, с. 25–34]. Как высшее совершенство идеал есть то, выше (совершеннее) чего ничто быть не может. Это перфекционный аспект идеала. Как высшая цель идеал выступает объектом целеполагания, мотивационности, ценности. Это телеологический аспект идеала. Как высший образец идеал являет собой средство (точнее средство-цель), которым тестируется и корректируется реальность. Это парадигмальный аспект идеала. Только в единстве трех этих аспектов идеал может существовать и функционировать.
Отмеченные принципы идеала выступают методологическим инструментом его исследования, позволяют точнее его идентифицировать.
Недостаточная теоретическая определенность идеала приводит к «потере» идеала. Если свести идеал к идеальному в первом смысле (как противоположение материальному), то такое идеальное (образ, мысль и т.п.) будет выступать всеобщей формой целеполагающей деятельности (любой образ цели нематериален), что и является атрибутивным свойством идеального. Если акцент сделать на втором смысле идеального (идеальное как идеал), то всеобщность идеала сомнительна — не всякая цель является идеалом (как мы показали), идеал как цель в прямом смысле этого слова, не является всеобщим. Поэтому типичная ошибка, вытекающая из указанной двусмысленности идеального, состоит в отождествлении идеала и идеального.
Важной заслугой Ильенкова следует считать обоснование выведения идеала из реальной действительности. Такой подход, если мы имеем в виду историческую действительность (например, социальную), дает возможность говорить о живом, развивающемся идеале,— и критически относиться к «вечным» потусторонним идеалам (типа идеи-идеалы Платона, априорные идеалы или трансцендентные идеалы-ценности в неокантианстве). Конечно, в реальной действительности есть объекты разной степени динамики. В социальной сфере, в сфере современной техники и технологии очевидна динамика. Соответственно и идеалы, сформированные на основе таких объектов, будут меняться. Однако существуют объекты с относительно постоянными структурами (структурные свойства физических объектов, законы природы), и выведенные идеализации и идеалы на основе таких объектов могут представляться «постоянными». Да и социальные идеалы, идеалы человека, вне их исторической и предметной конкретизации, могут рассматриваться как вечные. Человечество всегда будет формировать социальный идеал или идеал человека. То есть в самой общей форме такие идеалы «вечны». Наконец, если идеал рассматривать как предельное совершенство, то достижение такого совершенства невозможно,— мы будем «вечно» приближаться к нему. Все это говорит о специфике оснований идеалов и эти основания могут быть разными — и по свойствам, их степеням и динамике, по особенностям функционирования, и, следовательно, способ выведение идеала лишь из исторической реальности не будет исчерпывающим.
Для Ильенкова выведение идеала из развивающейся реальности было важно еще и для того, чтобы определить истинность идеала и отличить его от ложных идеалов (идолов). «Правильно поняв действительность,— интерпретирует он Л.Фейербаха,— мы придем к истинному идеалу» [2, c. 159]. Такой подход он развивал, главным образом, на основе анализа социального развития и социальных идеалов. На наш взгляд данная методика определения истинности идеала верна лишь отчасти. Прежде всего, трудно найти согласие исследователей в определении основных тенденций развития социума. Для Ильенкова эти тенденции выражались в марксистском понимании хода истории. И, соответственно, идеал, формирующийся на основе этих тенденций, определялся как истинный. Однако на тенденции развития общества можно смотреть с позиции других теорий (постмодернизма, открытого общества, информационного общества и др). И тогда идеалы, выведенные на основе таких интерпретаций реальности, будут различными. В этом случае, вопрос об истинности идеала не будет однозначным.
Другая трудность выведения идеала из реального бытия и определения его «истинности» связана с исторической практикой формирования идеалов. Очень часто социальный идеал формировался не в соответствии, а вопреки действительному развитию истории. Идеальное государство Платона было построено как ответ на деградацию различных видов государственного устройства греческих полисов, идеал Канта о вечном мире (будущем человеческом сообществе без войн) строился в противоположность основанной на войнах человеческой истории, идеал гармоничного человек, формировался как антитеза «частичному» человеку, обусловленному всеобщим разделением труда. Эти практические соображения дополняются и тем, что идеал как вид ценности не может быть впрямую верифицирован на основе классической теории истины. Истинность идеала (или, точнее, его адекватность) проверяется не на основе соответствия знания и реальности, а в соотношении идеала с субъектом и его ценностными ориентациями.
Приведенные рассуждения релятивизируют понятие «истинный идеал». В этом есть определенный положительный смысл, поскольку вера в абсолютную истинность того или иного идеала может привести к социальной нетерпимости, фанатизму, ожесточенности при его реализации. Отсутствие такой веры снимает эти негативные факторы, однако ослабляет мотивационные возможности идеалов, их функциональный потенциал.
Отмеченные трудности не снимают вопрос о предпочтительности тех или иных идеалов.
Чтобы наметить критерии для такого предпочтения, мы исходим из двух основных способах выведения (образования) идеала: гносеологическом и аксиологическом [5]. Первый близок к позиции Ильенкова по способу формирования идеала, хотя и отличается по целям формирования. Идеал формируется на основе реальных свойств объекта, путем процедуры идеализации; при этом определенные свойства объекта доводятся до высшей степени (совершенства), максимализируются; свойства нежелательные или искажающие выделенные свойства, подлежат абстрагированию. На основе такой процедуры строятся обыкновенные научные идеализации, например, идеальный кристалл, абсолютно твердое тело и др. Конечно, сами по себе такие идеализации не являются идеалами. Идеалами (или квазиидеалами) они становятся, когда выступают целями реализации. Это своего рода реализационные идеалы. Вместе с тем они принимают и ценностную окраску как объекты устремлений. Без этой целеполагающей специфики такого рода идеализации выступают познавательным средством, выражают объект в чистом виде (без примесей, искажений). Наука широко использует такого рода инструменты познания. Важно подчеркнуть, что отмеченный механизм формирования идеалов достаточно жестко связан с объектом идеализации (его свойствами, структурой, функциями).
Другой способ идеализации и образования идеалов, который мы называем аксиологическим, исходит в большей степени не из реального объекта, а из субъекта идеализации, то есть человека, его воли, желания, ценностных предпочтений. То есть объект идеализации формируется достаточно свободно или даже произвольно. Аналог такого рода свободы можно увидеть, например, в практической философии Канта, в которой мораль, основанная на свободной воле человека, противопоставляется причинности по законам природы. В повседневной жизни идеализация второго типа проявляется, например, в любви: любовь как ценностная установка позволяет не замечать недостатки любимого человека и выделять и преувеличивать его достоинства и даже наделять объект любви свойствами, которых в нем нет. Такой вид идеализации и идеалов способен приводить к проблемам: в своих крайних формах он разрывает связь с реальностью, может рисовать воздушные замки и фантомы, которые способны заводить человека в тупик, создавать образы, не имеющие шансов для воплощения. С другой стороны, такого рода идеализация, дает возможность сформировать идеал, противостоящий негативным тенденциям реальности, идеал, который в определенной степени свободен от жесткого следования реальности. Или, следуя в определенной степени реальности, быть для человека способом подчинения реальности его интересам и целям, то есть действовать и творить, как писал Ильенков, по идеалу. Указанные основания и способы формирования идеала дают относительный критерий для выбора наиболее предпочтительного идеала в зависимости от целей человеческой деятельности (познавательной, социальной, воспитательной и др.). Ильенков, говоря об идеале человека, считал критерием его правильности — путь нравственного, физического и интеллектуального самоусовершенствования [2, с. 54]. C этим трудно не согласиться.
Одним из важнейших аспектов концепции идеала Ильенкова является проблема осуществимости идеала. Ильенков активно полемизирует с Кантом и Фихте [2, с. 77–84], которые обосновывали нереализуемость идеалов (нравственного, познавательно-теоретического, социального), или относили реализацию идеалов в отдаленное будущее. Подход Ильенкова вполне понятен. Он разделяется людьми неравнодушными, ориентированными на преобразование реальности, испытывающими резкое неприятие социальных и человеческих изъянов жизни.
Рассмотрение проблемы осуществимости идеала может быть как теоретическим, так и эмпирическим; учитывать прагматические соображения; оно также зависит от мировоззренческих, научных и личностных позиций исследователя.
С позиций эмпирического подхода, следует соотносить тот или иной идеал с реальностью и определять его реализуемость, истинность, адекватность тенденциям развивающейся действительности. Как правило, в практической жизни мы увидим идеалы, которые весьма далеки от своей реализации, а то и контрарны тенденциям развития. Возьмем, например, идеал всесторонней и гармонически развитой личности. Современная цивилизация в качестве своей ведущей тенденции требует от человека специализации и профессионализации. Человек может быть успешным, если сконцентрируется на чем — то одном, а это не способствует его всесторонности. Конечно, нельзя не замечать и тенденций, требующих от человека творческих подходов, общей культуры. Однако такая направленность далеко не ведущая для большинства людей [7, с. 75–81].
Является ли идеал всесторонней и гармоничной личности истинным? Если он противостоит тенденциям развития человеческой цивилизации, то вряд ли. Он, скорее, не истинен, а желателен, гуманистичен. И человек, чтобы не превратится в одностороннее существо, должен стремиться его реализовать и в личной, и в социальной сфере.
С прагматической точки зрения, признание неосуществимости идеала может привести к социальной и личностной деморализации.Хотя, конечно, человек способен занимать героическую позицию и стремиться осуществить неосуществимое, делать что должно, «штурмовать небо»; сказать себе: «Хоть я не устраню несовершенства мира, я сделаю все, чтобы мир был лучше». С другой стороны, вера в осуществимость идеала, как мы отмечали, может привести к социальной нетерпимости, даже фанатизму. На практике стремление осуществить рай на земле, часто оборачивалось адом, насилием, жестокостью [9, с. 274].
Если исходить из определения идеала (как высшего совершенства, высшей цели, высшего образца), то объект стакого рода признаками выходит за границы реальности, является трансцендентным, не существует и не осуществим в реальности. Но такого рода объекты с необходимостью создаются человеком в сфере мысли, в сфере идеального, в сфере сознания. В свое время Кант говорил о метафизической потребности человеческого разума выходить за границы опыта. Можно сказать, что аналогичной потребностью обладает человек, выходя не только в познавательной области, но и в сфере человеческого существования. Он создает идеалы, в которых реальность преобразуется в наилучшей форме. К счастью, эти формы (или идеалы) не только объекты веры, любования, восхищения. Они, как это особенно подчеркивал Ильенков, вдохновляют и направляют человека на изменение мира. «Действие, творчество по идеалу» вполне реально. Однако осуществимость идеалов относительна. Идеалы не существуют и не осуществимы в полной мере в объективной реальности, однако осуществимы и существуют в ней в определенной степени. Мы можем приближаться к их осуществлению в личной, социальной, общечеловеческой сферах. При этом мы должны помнить, что теория идеала, важный вклад в которую внес Э.В. Ильенков, крайне важна. Она необходима для того, чтобы нивелировать те риски, которые несут с собой идеалы, и вполне использовать те возможности, которые они открывают перед человеком.
Литература
Ильенков Э.В. Идеал «Философская энциклопедия». В 5 т. 1960–1970, Т. 2, 1962.
Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. Москва, 1968.
Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991.
Ильенков Э.В. Диалектика идеального.// «Логос», 1 (2009).
Иванов М.А. О гносеологической концепции идеала.— Философия в современном мире: диалог мировоззрений: Мат. VI Российского философского конгресса (Нижний Новгород, 27–30 июня 2012г.). В 3-х т. Т. II. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012 г.
Иванов М.А. О ценностной функциональности (роль и значение идеалов). / Актуальные проблемы социогуманитарного знания: сб. науч. тр. фак. социального инжиниринга МАИ. Вып. IX.— М.:Вузовская книга, 2010.
Иванов М.А. Идеал человека К.Маркса и цифровое общество / Философское образование. Вестник Межвузовского Центра по русской философии и культуре. №1(37). 2018, Режим доступа: https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1064 Дата обращения 23.03.19.
Маркс К., Энгельс Φ. Соч., 2-е изд. Т. 21.
Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 тт. Т.2, М.: Культурная инициатива; Феникс, 1992.— 528.
2.7. Ищенко Т. Н. Дидактические аспекты развития субъекта познания
Что значит мыслить? Каковы условия, способствующие развитию самостоятельности суждения? Чем объяснить, что образование в XXI веке утрачивает фундаментальность? В каком случае обучающийся становится субъектом познания, становится мыслящим? Почему образование и экономика, общество России совершают порочный круг: образование отстает от потребностей общества в решении проблем, в развитии производства, а отстающая экономика и проблемы общества не позволяют Школе развиваться на уровне XXI века? Где же выход?
Разрешение противоречия учебного процесса между богатейшим характером предметного содержания и способами его освоения субъектами образовательного процесса требует обращения к идеям классической философии, где развитие мышления рассмотрено во взаимосвязи с научными методами познания, принципом противоречия, где мышление представляет объективную форму деятельности человека. Если духовная потребность молодежи не находит своего приложения в образовательном процессе занять ум важными вещами, самостоятельными размышлениями с обучающимися и преподавателем, то молодые люди встают на ложный путь, растрачивая впустую энергию, обращая внимание на второстепенное, упуская живую нить развития. Но ум — не роскошь, а «гигиена духовного здоровья, столь же необходимого для жизни, как и здоровье физическое»,— как писал об этом Эвальд Ильенков, отмечая, что «ум» недаром в русском языке происходит от одного корня со словами «умение», «умелец»! Умный человек тот, кто умеет думать, размышлять, самостоятельно судить о вещах, людях, событиях, о фактах, но «судить с точки зрения высших норм и критериев человеческой духовной культуры»! Эту способность Иммануил Кант назвал — проявлять «силу суждения»! «Философия в союзе с психологией, основанной на эксперименте, доказала бесспорно, что ум — это не естественный дар, а результат социально-исторического развития человека, общественно-исторический дар, дар общества индивиду»,— заключает Ильенков [3, с. 43]. Известна и другая фраза: «Многознание уму не научает». Но что же научает уму? Что способствует развитию мыслящей способности человека?
Готовые вопросы, без пути к ним ведущего, передача знаний обучающимся от преподавателя в готовом виде без напряжения мысли обусловливают появление «безличностного» образовательного процесса, с одной стороны, и появление в результате этого «субъекта», неспособного самостоятельно мыслить, «субъекта», которому несвойственна самостоятельность суждения. Если задача педагога заключается в передаче знаний обучающимся, то задача ученика — запоминание предложенного материала, что конечно задействует память, но при этом мышление бездействует. В этих педагогических условиях процесс «усвоения знаний» не является процессом развития способности мыслить, поскольку тернистый путь, ведущий к открытию нового понятия, как результата мыслительной деятельности, обучающимися не постигается. А как справедливо заметил в «Феноменологии духа» Г.В. Гегель, если путь, ведущий к результату, остается в стороне, то это очень скверно, ибо результат без пути к нему есть труп, оставивший тенденцию позади себя.
Отличительный признак аналитического познания Гегель усматривал в том, что ему не свойственно опосредствование, поскольку оно непосредственный способ передачи понятия, соотношения понятия с объектом. Мыслитель выявляет механизм перехода от аналитического познания к синтетическому: необходимость перехода от формы непосредственности к опосредствованию, от абстрактного тождества к различию [1, с. 896–897]. Особенность опосредствованного знания в том, что оно получено в результате логических рассуждений на основе опорных знаний, накопленных в науке. Познание есть единство непосредственного и опосредствованного знания, чувственного и логического. Относительно образовательного процесса отметим, что когда превалирует непосредственное обучение, то обучающийся воспроизводит то, что транслирует педагог, действует по предложенному образцу, копируя его (репродуктивный метод обучения «делай как я»). Но тогда такие примитивные условия учебного процесса способствуют жалкому прозябанию обучающегося (обломовщина, по И.А. Гончарову, 1859). Опосредствованное обучение вызывает взрыв активности обучающегося в процессе познания («делай лучше меня» посредством понятий и образов как универсальных ключей познания). Опосредствованное обучение ведет к проявлению беспредельной познавательной энергии ученика, к его переходу из объекта в субъект, который способен совершать открытие нового знания, использовать материализованную самооценку (уровни материализации учебного процесса: понятийный уровень и предметно-вещественный на основе образов, по А.И. Гончаруку) [2]. Такое обучение устраняет отчуждение между педагогом и учащимся.
Рассматривая моменты синтетического познания, Гегель выделяет три его взаимосвязанные составляющие: дефиниция, членение и научное положение. Дефиниция сводит предмет к понятию, где моменты постижения понятия есть всеобщее (ближайший род), особенное (специфическое отличие как определённый вид) и единичное (сам предмет как непосредственное представление; род и вид положены воедино). Членение всеобщего на особенное есть необходимое условие движения (открытия) понятия, что представляет «основу и возможность синтетической науки, некоторой системы и систематического познания» [1, с. 905]. И если задача членения познавать, то «требуется путь, не сообразный с природой, а сообразный с познанием».
Если дефиниция еще не развитое понятие и опирается на некоторые определения чувственного наличного бытия или представления, то задача познания на стадии членения состоит в том, «чтобы, с одной стороны, упорядочить найденное в эмпирическом материале особенное, а с другой — посредством сравнения найти и его всеобщие определения», то есть необходимо найти многообразные основания членения на виды, что позволит исчерпывать определенность понятия. Этот механизм выявляет проблемы процесса познания, где игнорирование членения допускает огромное количество видов, что безразлично для определённости понятия и что, по мнению Гегеля, представляет «игру произвола».
Как свидетельствуют нами проведенные исследования, выявление основания деления представляет сложнейшую операцию познания и от того, каким образом осуществляется выявление признаков (оснований деления) зависит классификация и определенность понятия. Выявление существенных признаков понятия «мышление» совместно с обучающимися завершается конструированием его содержания («совокупности существенных признаков предмета, которая мыслится в данном понятии»), сравнением определения этого понятия из разных источников, разных авторов, что позволяет выяснить как было определено понятие (через ближайший род и видовые отличия, генетическое определение, через противоположность, через отношения и др.). Рассмотрим содержание понятия «мышление» и выявим основания деления его на виды, позволяющие установить объем понятия (совокупность предметов, которые мыслятся в понятии). Мышление есть процесс сознательного отражения действительности в таких объективных ее свойствах, связях и отношениях, которые включены и недоступны непосредственному чувственному восприятию объекта (А.Н. Леонтьев). Мышление — способность человека связывать образы, представления, понятия, определять возможности их изменения и применения, обосновывать выводы, регулирующие поведение, общение, дальнейшее движение самой мысли [14, с. 410].
По характеру решаемых задач (основание деления) выявляют теоретическое и практическое мышление. По наличию или отсутствию связей в отражении реального мира выделяют диалектическое и догматическое мышление. По степени новизны и оригинальности (по характеру результатов) — продуктивное мышление (творческое) и репродуктивное (воспроизведение). По степени волевого усилия: непроизвольное мышление (пассивное) и произвольное (активное) и другие основания [12]. Выявление оснований деления и характеристика видов мышления обусловливают установление в материале связей между содержанием и объемом понятий, выявление противоположностей и конструирование заданий на иной качественной основе. Выявив основания деления понятия на виды, необходимо далее раскрыть каждый вид на основе признака и дойти до термина (неделимого понятия), приведя конкретный пример. Такой подход позволяет разумно действовать с понятием, которое осознано, осмыслено и тогда познающий способен к обобщениям, изменению предмета. Деятельность с понятием по выявлению содержания и объема постигаемого материала позволяет разрабатывать сборники понятий, где раскрытие понятий по изучаемой дисциплине идет не в алфавитном порядке, как в справочной и энциклопедической литературе, а в порядке, отражающем структуру понятий, как единство содержания и объема понятия, то есть от родовых понятий (общих) к видовым (частным и единичным).
Выявление структуры (первый всеобщий признак окружающего мира) является важнейшим умением в работе с понятием. Платон утверждал: «Должен быть почитаем как Бог, тот, кто умеет определять и делить понятия»! Как-будто в продолжении этого суждения Сократ заключал: «Точное логическое определение понятий — главнейшее условие истинного знания».
Научное положение, как третья ступень синтетического познания, представляет, во-первых, переход особенности в единичность, где единичность есть содержание научного положения — «соотносящаяся с собой определенность». Если дефиниция содержит одну определенность, членение — определенность по отношению к другим определенностям, то в научном положении «предмет познан в его реальности, в условиях и формах его наличного бытия. Поэтому в научном положении, взятом вместе с дефиницией, представлена идея, которая есть единство понятия и реальности» [1, с. 911]. Научное положение должно быть доказано. Во-вторых, опосредствование позволяет осуществить построение связей между членами опосредствования.
«Синтетическое познание стремится к постижению того, что есть в понятиях, т.е. к схватыванию многообразия определений в их единстве» — заключает исследователь в своем труде «Наука логики» (1812–1816 гг.). Мышление, мыслящая способность человека определяет его бытие и, в тоже время, верно и обратное. «Каково понятие, таков и труд»,— заключал Гегель на основе проведенного исследования. Понимая под абсолютной идеей тождество теоретической и практической идей, Гегель замечает, наряду с противоречивостью, их односторонность, если они рассматриваются отдельно. Понятие, как цель нашего знания, и метод, как способ и как само это знание, «для которого понятие дано не только как предмет, но и как собственное субъективное действование, как орудие и средство познающей деятельности, отличное от нее» [1, с. 934–935]. Познающий субъект, владеющий понятием, обладает «всем существом объективного мира».
Познавательная деятельность будет способствовать глубинному постижению предмета при поиске ответов на проблемные вопросы-суждения, с одной стороны, и конструированию проблемных вопросов к постигаемому материалу, с другой. Приведем примеры проблемных вопросов-суждений по конструированию сборника понятий по теме «Мышление». Чем объяснить, что деление понятия следует начинать с нахождения основания деления, отражающего сущность предмета, его структуру? Чем объяснить, что члены деления по отношению друг к другу являются противоположностями? Каким образом сборник понятий отражает движение мысли? Вследствие чего основной критерий деления уже заложен (в явном или в неявном виде) в содержании понятия? Вопросы как потребность в мысли запускают развитие мыслительных способностей познающего. Человек, способный задавать вопросы по существу, получает ценный ресурс — способ открытия новых знаний, выдвижения гипотез, «оттачивая» тем самым свое критическое мышление, развивая диалектическое мышление, способность мыслить.
Если в учебном процессе осуществляется аналитическое познание — путь сообразный с природой, и игнорируется синтетическое познание — путь сообразный с логикой познания, то развитие мыслящей способности идет однобоко. Кроме того, сложившиеся условия в образовательном процессе не учитывают логику познания и природу самого обучающегося, которой свойственна любознательность интеллектуальной силы, т.е. интерес к проблемам, мыслительная состязательность, субъектная активность.
Каким образом в процессе познания проявляется познающий субъект? Раскрывая идею познания, Гегель приходит к умозаключению: «познающий субъект в своем понятии обладает всем существом объективного мира; его процесс состоит в полагании для себя конкретного содержания этого мира как тождественного с понятием и, наоборот, в полагании понятия — как тождественного с объективностью» [1, с. 885]. Но если познающий не владеет понятием, то и объективный мир ему не доступен — он не способен устанавливать связи интересующего его предмета с другими предметами. Владение лишь уровнем представлений чувственного характера не обеспечит понимания сути вещей. А по Ильенкову, мышление как деятельная способность по особого рода преобразованию объектов (не производя в них реальных изменений и не совершая реальных действий с ними) — идеальная деятельность мышления является условием функционирования социальных структур, воспроизводства социальных связей, сохранения и развития культуры. Эта мысль актуализирует проблемные вопросы, поставленные в начале этой статьи, вскрывает суть рассматриваемой проблемы.
Кедров Б.М., придавая огромное значение анализу и синтезу в научном познании, акцентирует внимание на том, что «синтез есть обратное восстановление исходного предмета из его частей. Если это удалось, значит, анализ был проведен правильно»; им выделены зародышевые и развитые формы анализа и синтеза [8, с. 29–35]. Э.В. Ильенков отмечал, что в процессе познания анализ и синтез совпадают в акте мышления, где «анализ совершается через синтез, через собственную противоположность» [3, с. 291]. Раскрывая принципы диалектической логики, М.М. Розенталь отмечал, что «Сознательное соединение противоположностей — таково одно из решающих требований познания» [13, с. 136]. Цель познания, по его мнению, состоит в том, чтобы обнаружить противоречия и проследить их от начала до конца. Обнаружение противоречий и запускает развитие познающего.
Эвальд Ильенков, рассматривая проблему противоречия в логике, обращает внимание на то, что «развивать понятие — значит развивать понимание отраженных в нем противоречий», «выясняя, каким образом эти противоречия реально разрешаются в движении прообраза вашего понятия, какие «опосредствующие звенья» замыкают полюса выявленного вами противоречия» [5, с. 142]. Исследуя теорию диалектики как логику, философ полагал, что она и есть теория познания, а «научное мировоззрение, в составе которого нет философии, логики и теории познания, такой же нонсенс, как и «чистая» философия, которая полагает, что она то и есть мировоззрение, взваливая на свои плечи задачу, решение которой под силу только всему комплексу наук» [4, с. 319]. Анализируя проблемы познания, Эвальд Ильенков отмечал: «Не обладая духовным здоровьем, в наши дни очень легко захлебнуться и утонуть в том стремительном потоке информации, которая ежедневно и ежечасно обрушивается на человека со всех сторон» [3, с. 21]. В понимание духовного здоровья, философ вкладывает потребность думать, потребность мыслить и понимать то, что происходит. Если полагать, что проблемы познания связаны с проблемами развития способности мыслить, способности суждения, проблемами творчества, то можно заключить, что процесс познания определяет развитие не только личности, а и общества.
Исследуя проблемы активности познания, Г.В. Лобастов рассматривает познание как форму деятельности субъекта, отражающую не предмет в его неподвижности, не абстрактно общие признаки, присущие одновременно всем предметам одного класса, а способы преобразования предметов в практике человека. В таком контексте познание является средством преобразования практики и позволяет рассматривать практику как реализованную теорию. Тогда в полной мере встает вопрос о дидактических средствах, позволяющих обучающемуся становиться субъектом познания.
Мощнейшее средство развития мыслящей способности обучающегося — противоречие, обнаружение которого запускает путь поиска истины. Способность выдерживать «напряжение противоречий», характерных постигаемому материалу, является показателем культуры ума не только обучающегося, а и преподавателя, его умения мыслить диалектически. Если учебный процесс организуется по репродуктивному варианту, т.е. не предполагает создание педагогических условий, влияющих на становление субъекта деятельности, на развитие субъективности, то эти условия скорее безнравственны. Продуктивный вариант требует организации процесса познания на ключевых принципах: противоречия, деятельностного опосредствования, обратной связи, системности и пр. Понимая диалектику как развитие мыслящей способности человека через выявление и разрешение противоречий, вытекающих из единства противоположностей, приходим к выводу, что наша Школа не задействует логику познания, саму природу обучающегося, а значит и потенциал диалектики как метода научного познания и как средства преобразования сознания. С одной стороны, метод имманентен постигаемому содержанию (по Л.С. Выготскому), а с другой — научный метод познания порожден этим содержанием. Полагая, вслед за Гегелем, что метод — это всеобщая форма движения познающего мышления, основанная на принципах разворачивания содержания, что обусловливает внутреннюю форму метода — логику, которая выражает, совпадает с формой движения этого содержания, Г.В. Лобастов осуществляет постановку задачи разработки и освоения этой логики, этого метода и одновременно путь ее разрешимости — превращение метода в теоретическую способность. При этом отмечает, что эта логика и метод возникают и развиваются как становление культурно-исторической деятельности человека [11, с. 150].
Исходя из отмеченного, современная дидактическая система претерпевает изменения в плане решения задач познания, присущими им средствами. Если в ходе процесса познания наблюдается разобщенность содержания и формы знания, несоответствие метода постигаемому содержанию, то это приводит к ограниченности отношений как к логической природе знания, так и развитию универсальной способности познающего субъекта — мышлению. Тогда в процессе познания мышление не выступает как опосредствованное и обобщенное познание человеком предметов и явлений объективной действительности в ее существенных свойствах, связях и отношениях. Но тогда и научное знание, теория остаются недоступны для познающего и преобразование действительности и самого обучающегося затруднено. Какой деятельностью в этих условиях занимается обучающийся? Если преобразующее действие направлено на преобразование сознания, общества, природы, то исходные средства этого преобразования с необходимостью должны быть задействованы в учебном процессе. Специфическим средством преобразования сознания и является идея (мысль, опережающая действие), общества — отношения, природы — орудия труда. Преобразование сознания как движение от субъективного понятия и субъективной цели к объективной истине предполагает вовлечение в процесс познания, в учебный процесс: ступеней обобщения (языки — науки — философия); межпредметных связей (на уровнях: науки — философия); развитие способности осуществлять анализ понятий и синтез понятий как единство противоположностей; единство формальной логики, диалектической логики и теории познания [2, с. 40]. Такой подход направлен на выявление познавательных средств, обеспечивающих преобразование сознания обучающегося. Полагая, что труд есть целесообразная, опосредствованная, преобразовательная деятельность человека, в этих условиях познающий, открывая понятие, задействует средства, имеющие отношение к теории познания, формальной и диалектической логике. Психолого-педагогический контекст этого умозаключения не только в организации образовательного процесса и передаче познавательных средств, а и в описании закономерностей, по которым этот процесс развивается. Дидактическая составляющая, на наш взгляд, заключается в выявлении дидактических закономерностей процесса познания и установлении отношений и связей между психологическим и философско-методологическим контекстами исследуемого процесса. А это уже выход за пределы педагогической деятельности, удерживающей только свои специфические особенности, поскольку преобразование как сознания, так и отношений взаимосвязано с развитием культуры и экономическими процессами, потому как природа образовательной деятельности, природа учебного процесса ими и обусловлены.
В своей работе «Диалектическая логика» Э.В. Ильенков, анализируя путь к созданию диалектической логики, отмечает процесс духовного созревания, отмеченный именами представителей немецкой классической философии конца XVIII — начала XIX века: Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Так, на основе анализа предшествующих теорий, Кант пришел к выводу, что «диалектика — необходимая форма интеллектуальной деятельности, характерная для мышления, занятого решением высших синтетических задач, построением теории … Кант, таким образом отнял, по выражению Гегеля у диалектики ее кажущуюся произвольность и показал абсолютную необходимость для теоретического мышления» [4, с. 78].
В условиях кризиса нравственности, духовности, экономического кризиса противоречия образовательного процесса невозможно разрешить сугубо педагогическими подходами и средствами. Требуется выход за границы сферы образования, поскольку проблемы образования связаны с общечеловеческими проблемами. Через призму философских идей, отмеченных выше, можно увидеть как пути развития образования на основе рефлексии мыслительных форм, научных методов познания, так и ограниченность педагогической деятельности в разрешении ключевых противоречий, свойственных учебному процессу, процессу познания. Где же выход? Создание дидактической системы, под которой понимается такая организация учебного процесса, при которой на основе научных методов познания, дидактических и психологических закономерностей осуществляется выявление и поиск разрешения противоречий в постигаемом материале, освоение логико-дидактических средств овладения им с целью преобразования предмета, состоящей из четырех компонентов: содержательный, когнитивно-операциональный, организационно-методический, оценочно-регулятивный.
Выявленные в статье философско-методологические основания, на наш взгляд, представляют фундамент содержательного и когнитивно-операционального компонентов дидактической системы. Рассмотрение дидактической системы позволит как преподавателю, так и профессионалу в своей области действовать разумно и на перспективу. Среди компонентов дидактической системы — содержательный компонент (предметно-содержательный) — требует не только отбора материала в соответствии с целями и задачами учебной дисциплины, его структурирования, но и выявления той методической формы, которая будет имманентна содержанию постигаемого, а следовательно, выявления ключевых противоречий, свойственных развитию рассматриваемой системы понятий, удерживая исторический и логический аспекты предметного знания. Отбор содержания материала осуществляется согласно теории познания и внутренней логики предмета.
Когнитивно-операциональный компонент направлен на работу с понятием: анализ и синтез понятия, т.е. раскрытие по содержанию и объему; формулирование суждений и умозаключений при выполнении заданий; выведение нового знания путем разрешения противоречий. Особое значение в реализации этого компонента дидактической системы — функциям интеллектуального труда, где первая функция — логическая или иначе теоретическая запускает в работу мыслительный процесс. Вторая функция — практическая (исполнительская) выполняет то, что намечено мышлением в заданиях, многообразных ситуациях. Управленческая функция представляет синтез теоретической и практической, осуществляя корректировку, контроль, оценивание полученных промежуточных и итоговых результатов. Однако, если обыденные представления не перерабатываются в форму понятия, то не образуется связи знания с понимаем [9, с. 403]. А понимание — первый качественный уровень обучения, предусматривающий осознание, осмысление и обобщение предметного материала, т.е. развитие мышления.
Организационно-методический компонент дидактической системы предусматривает оптимальный выбор форм организации в процессе познания и форм общения, в связи с этим этот компонент может иметь название как организационно-коммуникативный. Задействование форм труда, как и в экономике, обеспечит содержательные коммуникации и постижение глубины предмета. Формы труда: индивидуальный труд — простая кооперация — сложная кооперация обеспечат вовлечение познающего в сотрудничество с другими на основе выполненного индивидуально задания, сформированных суждений и умозаключений, сконструированных проблемных вопросов.
Оценочно-регулятивный компонент системы предусматривает определение критериальных признаков сформированности мышления, оценку и самооценку усвоенных знаний, умений, навыков. На этом этапе идет формирование внешнего и внутреннего побудительного мотивов познавательной деятельности. В этих условиях преподаватель — субъект педагогической деятельности, владеющий научными методами познания, психолого-дидактическими закономерностями и дидактическими средствами познания, способный реализовать дидактическую систему по развитию субъекта познания, субъекта деятельности. У обучающегося в этих условиях формируется внутренний мотив, обусловливающий мыслительную активность. Рассмотрение этого компонента выявляет логику отношений в учебном процессе, где на основе реализации дидактической системы происходит мыслительная состязательность, запускается механизм перехода от субъект-объектных отношений к субъект-субъектным.
Успешную реализацию предложенной дидактической системы на основе способа диалектического обучения определяют существенные признаки современного учебного занятия: переход от непосредственного обучения к опосредствованному. Отметка и оценка (определимое (покой) — сравнимое (движение)); поиск, формулирование, разрешение противоречий, проблемное обучение. Использование проблемных вопросов (ответ — вопрос — ответ); мыслительная состязательность, оправданная смена деятельности, поведение обучающихся (условия для самовыражения): нормальная дикция; выразительная мимика и жестикуляция; прямая осанка.
Средства познания, сосредоточенные в логике формальной и диалектической, представляют мощнейшие ключи к познанию мира и открытиям для обучающихся, наконец, открытия себя для них самих, своей мыслящей способности, самостоятельности суждения,— а это закрыто не только для обучающихся, а порой и для преподавателей. Невозможно научить, не овладев средствами познания (имманентными содержанию), если сам преподаватель ими не владеет. Какие проблемы еще должны возникнуть, чтобы диалектика стала стрежнем в процессе познания, «деятельной формой» (по Г.В. Лобастову). Ильенков Э.В. убедительно доказывает на основе исследований, что до тех пор, пока диалектику рассматривают как орудие доказательства заранее принятого тезиса, она так и останется чем-то «несущественным»,— вот тут-то и проявляется преподаватель-педант, о котором в его текстах изложен весьма критичный взгляд. Со способностью к суждению об единичном факте с высоты усвоенной общей культуры Э.В. Ильенков связывал понятие «ума», а с недостатком такой способности — «глупость». Необходимым для поиска путей разрешения проблем в области образования становится рассмотрение объективных закономерностей, раскрывающих деятельную природу человека. Игнорирование противоречий, проблем в образовательном процессе, чревато тем, что «под видом ума будет формироваться безумие, под видом личности — безликость» [10, с. 208].
Какова ключевая задача педагога в сложившихся обстоятельствах? «Философия как теория мышления, как эксплицитно выраженная всеобщая категориальная мыслительная форма, как теоретическое самосознание уже свернута в нем, в педагоге, и требует лишь адекватного предметного материала, чтобы, в совместной деятельности с учеником разворачивая себя, свернуться в универсальных способностях самого этого ученика. В какой мере педагогическая деятельность содержит в себе этот мыслящий момент, в такой она и осуществляет свою действительную задачу формирования личностной формы бытия человека» [11, с. 227]. Сильное суждение.
Дидактические средства познания, основанные на формальной и диалектической логике, проблемные вопросы, реализация дидактической системы, на наш взгляд, позволят изменить ситуацию, если Логика займет достойное место в учебном процессе, а классическая философия и ее освоение запустят процесс развития самой мысли, движение понятий от их возникновения. При этих условиях можем говорить о субъекте познания, субъекте деятельности, способном удерживать реальное и идеальное содержание деятельности, вовлеченном в процесс познания с помощью дидактических средств, способном проявить субъективность.
Литература
Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М.: Изд-во «Мысль», 1998.— 1072 с.
Гончарук А.И. Концепция школы XXI века (диалектика учебного процесса): монография. Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 2002.— 68 с.
Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991.— 464 с. Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории.— 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1984.— 320 с.
Ильенков Э.В. Проблема противоречия в логике// Диалектическое противоречие.— М.: Политиздат, 1979.— С. 122–143.
Ищенко Т.Н. Философско-методологические основания дидактики// Философия образования, 2013.— №4[49].— С. 83–93.
Ищенко Т.Н. Проблемный вопрос как интеллектуальное средство познания // Сибирский педагогический журнал.— 2010.— №1.— С. 92–101.
Кедров Б.М. Противоречивость познания и познание противоречия // Диалектическое противоречие.— М.: Политиздат, 1979.— С. 9–38.
Лобастов Г.В. Диалектика разумной формы и феноменология безумия. Москва: «Русская панорама», 2012.— 560 с.
Лобастов Г.В. Философия как деятельная форма сознания. М.: НП ИД «Русская панорама», 2018.— 262 с.
Лобастов Г.В. Идеальное. Образ. Знак.— М.: НП ИД «Русская панорама», 2017.— 232 с.
Психология. Познавательные процессы. Часть II. Мышление / Зорина В.Л. [и др.]. Учебное пособие для студентов и слушателей Института дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки специалистов. Красноярск: СибГТУ, 2004.— 100 с.
Розенталь М.М. Принципы диалектической логики. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960.— 478 с.
Современный философский словарь / Под общей ред. д. ф. н. профессора В.Е. Кемерова. 3-е изд., испр. и доп.— М.: Академический проект, 2004.— 864 с.
2.8. Матыцин А. А. Почему мифология не изжила себя?
В массовом, а подчас и научном сознании бытует несколько снисходительное отношение к мифологии. Считается, что это «форма общественного сознания; способ понимания природной и социальной действительности характерный для ранних этапов развития общества», утверждается, что «мифология как ступень общественного сознания исторически изжила себя». Указанные положения приведены из статьи «Мифология» в Новой философской энциклопедии, но содержатся не только в ней и распространены весьма широко.
Однако в настоящее время во множестве исследований (Р. Барт, П.Н. Барышников, К.А. Богданов, С.Ю. Неклюдов, В.П. Руднев, А.Л. Топорков, А.В. Чернышов и др.) подчеркивается существование и развитие мифологии в современных условиях. Причем обращается внимание как на те мифы, которые перешли в настоящее из прошлого в виде, например, религиозных представлений, так и на новые, формирующиеся и процветающие в политике, истории, повседневной жизни и т.д. При этом исследователи современной мифологии не только признают ее существование и развитие, но утверждают, что она играет значительную роль в современном обществе.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что нельзя говорить о мифологии как некоем пережитке «седой древности», что она широко распространена и в настоящее время, и причем не только в массовом сознании. Это порождает вопрос о причинах такого явления.
Анализ функций мифологии, выявляемых в научной литературе (С.А. Токарев, М.И. Шахнович, А.Ф. Лосев, Ф.Х. Кессиди, Е.М. Мелетинский, С.Ю. Нехлюдов, Л.А. Баркова), в числе которых можно выделить этиологическую, эстетическую, этическую, синкретическую показывает, что функции мифологии дублируются функциями иных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, философии. Это, с одной стороны, подтверждает правомерность вывода об историческом характере мифологии, но не решает проблему объяснения ее существования и развития на современном этапе развития общества.
Не позволяет решить проблему и обращение к особенностям так называемого мифологического мышления, проявления и пережитки которого рассматриваются как основания сохранения «древней» и развития «современной» мифологии. Во-первых, особенности мифологического мышления констатируются весьма противоречиво. Согласия в научном сообществе по поводу таковых не достигнуто и по настоящее время. Во-вторых, подобный подход зачастую приводит к объяснениям «по кругу»: особенности мифологического мышления выявляются посредством анализа мифологии, а потом на основании выявленных таким образом особенностей мышления делаются выводы о его склонности к мифологическому объяснению мира.
В этой связи представляется перспективным подход к пониманию мифологии, оснований ее возникновения и сохранения в современном обществе через проблематику бессознательного. И здесь отметим, что одним из первых, кто заговорил о бессознательном как истоке мифологии был К. Маркс, утверждавший, что мифология — «бессознательно-художественная переработка природы». Однако еще более любопытно отношение к мифологии психоанализа, заслугой которого является выявление бессознательного как особой сферы человеческой психики. В этой связи нельзя не отметить, что уже его основоположник З. Фрейд обратился к мифологии для иллюстрации психических процессов и явлений, получивших название «эдипов комплекс», «нарциссизм» и тем самым заложил основы для объяснения мифологии, исходя из бессознательного освоения окружающего мира. Эти идеи получили развитие в трудах К.Г. Юнга, который на основе, с одной стороны, клинического изучения бессознательных психических процессов своих пациентов и, с другой стороны, мифов различных культур сформулировал концепцию архетипов коллективного бессознательного. Концепция Юнга используется для объяснения современной мифологии и термин архетип получил широкое распространение и признание (С.С. Аверинцев, Дж. Кемпбелл, Е.-А. Беннет, Э. Самуэлс, Дж. Хилман и др.). Между тем, на наш взгляд, концепция архетипов имеет ряд недостатков: статичность, неопределенность архетипов, сложности их систематизации и классификации и др. Эти сложности привели к тому, что юнгианская психология воспринимается как обособленный от иных направлений психологии и достаточно специфический способ объяснения психических процессов.
Между тем, в рамках психоанализа было сформулировано (З. Фрейд, А. Фрейд) представление о так называемых механизмах психологической защиты — бессознательных психических процессах, направленных на минимизацию отрицательных переживаний. К числу таковых, в частности, относятся проекция, интроекция, расщепление, вытеснение, идеализация, отрицание, рационализация, морализация и ряд других. Указанные процессы первоначально проявили себя в их защитной функции, что и обусловило формирование соответствующего термина — «механизмы психологической защиты». Однако в настоящее время, несмотря на сохранение сложившейся терминологии, многие из этих процессов осмыслены как базовые способы адаптации человека к окружающему миру (Н. Мак-Вильямс). Кроме того, существование указанных процессов в настоящее время не вызывает сомнений, общепризнано научным сообществом и широкой общественностью, повсеместно применяется для объяснения бессознательных психологических процессов.
Таким образом, основываясь на сформировавшейся традиции осмысления мифологии как проявлении бессознательных психических процессов, полагаем, что в основе ее появления, существования и сохранения наряду с иными формами общественного сознания — философией, наукой, искусством, моралью — лежат определенные, специфические методы адаптации человека к действительности, отличные в силу их бессознательности от методов иных форм освоения мира.
Понимание специфики указанных бессознательных способов освоения действительности позволяет объяснить появление таких ранних форм религии как тотемизм, фетишизм, анимизм, магия, проследить их проявление в более развитых формах религии, а также в «древней» и «современной» мифологии. При этом понимание указанных процессов как базовых, лежащих в основе функционирования человеческой психики позволяет опровергнуть представление о том, что «мифология как ступень общественного сознания исторически изжила себя» и утвердить представление о том, что она с необходимостью присутствует и будет присутствовать на всех этапах истории, представляя собой основу духовной культуры человечества.
2.9. Москаленко К. А. Эмоции: генетика, среда, деятельность
Вопрос о сущности эмоций до сих пор вызывает острые дискуссии среди учёных. Представители одних направлений считают, что эмоции — это остатки прошлой, животной жизни человека, без них спокойно можно и даже нужно жить. Представители других ратуют за то, что животное — это и есть человеческая сущность. Есть мнение, что эмоции относятся к такой части чувственной сферы, без которой человек невозможен, а кто-то считает, что эмоции и чувства — это одно и то же. Попробуем разобраться. Генетика
Вот что пишет об эмоциях Дэниел Гоулман в популярной книге «Эмоциональный интеллект»: «Согласно законам генетики, мы получаем в наследство некий набор эмоциональных установок, определяющих наш темперамент. Однако связанные с эмоциями цепи сетчатой формации мозга чрезвычайно легко поддаются влиянию, а значит, темперамент вовсе не является чем-то предопределенным. В части 4 мы обсудим, как эмоциональный опыт, приобретенный нами в детские годы дома и в школе, формирует наши эмоциональные схемы, делая нас знающими — или неумелыми. Это означает, что детство и отрочество — своего рода «окна возможностей», необходимые для закрепления существенно важных эмоциональных особенностей, которые будут управлять нашей жизнью» [4].
А дальше он приводит примеры, где эмоции совершенно по-разному управляют человеком: кто-то отдаёт жизнь за другого, другой убивает, третий выбрасывает важную вещь в порыве страсти, а кто-то, когда видит ужас на лице женщины, смотрящей в воду, раньше осознания, что именно нужно делать в этой воде, прыгает вниз с моста. Ответ на вопрос, почему мужчина из последней истории поступил так, не будучи уверенным, что происходит в реке, ответ Гоулмана такой: «Что же заставило моего друга броситься в воду прежде, чем он осознал, зачем? Ответ прост: по всей вероятности, миндалевидное тело» [4]. Потому что последние исследования говорят, что крысы и без слуха слышат звуки, которых стоит бояться: «Леду опроверг общепринятое мнение относительно проводящих путей, по которым путешествуют эмоции, опубликовав результаты своих исследований поведения животных, испытывающих страх. В одном из решающих опытов с крысами он разрушил у них слуховую зону коры головного мозга, а затем подверг их воздействию звука определенного тона в сочетании с электрошоком. Крысы быстро усвоили, что звука надо бояться, хотя данный тональный сигнал не мог регистрироваться в их неокортексе. Звук шел по прямому маршруту: от уха — в таламус, а потом в миндалевидное тело, минуя все главные пути. Короче говоря, крысы заучили эмоциональную реакцию без участия какой-либо высшей зоны коры головного мозга: миндалевидное тело самостоятельно воспринимало, запоминало и производило «оркестровку» их страха» [4]. И вот что значит этот эксперимент для учёных: «Еще одно исследование показало, что в первые миллисекунды нашего восприятия чего-либо мы не только бессознательно понимаем, что это такое, но и решаем, нравится нам оно или нет. «Познавательное бессознательное» предоставляет возможность не только распознать то, что мы видим, но и составить свое мнение. Наши эмоции обладают умом, который придерживается собственных взглядов совершенно независимо от нашего рацио» [4].
Наши эмоции обладают умом, но из этого не вытекает, что умный человек имеет эмоции, а тем более — умеет ими управлять. Людей, которые не умеют выражать эмоции, нужно учить этому непростому делу, несмотря на присутствие ума, миндалевидного тела и других способностей или органов. Критика органической природы эмоций по Выготскому
В первой половине ХХ века Л.С. Выготский исследовал историю развития психологической науки, в том числе, систематизировал знания о развитии эмоций. Он познакомился с основными экспериментами, наблюдениями и другими видами исследований предшественников и современников, и в лекции «Эмоции и их развитие в детском возрасте» описал, как учёные, хотели они того или нет, критиковали идею органического происхождения эмоций. Он говорит, что исследования, показывающие, что эмоциональная жизнь выражается в процессах работы мозга, доказывают не биологическую природу эмоций, а то, что эмоциональная жизнь теснейшим образом связана с мышлением и всей психикой человека: «Когда охватываешь учение об эмоциях в полноте его исторического развития, то видишь, что, начиная с разных сторон, это историческое развитие шло в одном и том же направлении… Кеннон… показал, что действительный субстрат, действительные носители эмоциональных процессов — вовсе не внутренние органы вегетативной жизни… Он связал механизм эмоций с мозгом, а это смещение центра эмоциональной жизни от органов периферии к мозгу вводит эмоциональные реакции в общий анатомо-физиологический контекст всех анатомо-физиологических понятий, которые связывают их ближайшим образом с остальной психикой человека… Это делает важным и понятным то, что было открыто с психологической стороны другими экспериментаторами,— теснейшую связь и зависимость между развитием эмоций и развитием других сторон психической жизни человека» [2, с. 626].
Выготский говорит, что Фрейд упрекал одностороннюю органическую психологию в том, «что она изучает шелуху и оставляет неизученным самое психологическое ядро, иначе говоря, изучая работу органов, в которых выражается эмоция, она ничего не делает, чтобы изучить эмоцию как таковую».
«Но главная заслуга Фрейда в данной области,— говорит Выготский,— следующая: он показал, что эмоции не всегда были такими, какими являются сейчас, что они некогда, на ранних ступенях детского развития, были другими, чем у взрослого человека. Он доказал, что они не «государство в государстве» и не могут быть поняты иначе, чем в контексте всей динамики человеческой жизни. Только здесь эмоциональные процессы получают свое значение и свой смысл. Другое дело, что Фрейд остался натуралистом,...который подходил к динамическим изменениям эмоций лишь в известных натуралистических пределах.
Аналогичные достижения в учении об эмоциях получены в работах А. Адлера и его школы. Здесь с помощью наблюдений было показано, что эмоция по функциональному значению связана не только с той инстинктивной ситуацией, в которой она появляется, как это, в частности, происходит у животных, но что она является одним из моментов, образующих характер, что общие взгляды человека на жизнь, структура его характера, с одной стороны, находят отражение в определенном круге эмоциональной жизни, а с другой — определяются этими эмоциональными переживаниями» [2, с. 628]. Окружающая среда
С тем, что генетика не объясняет все возможные варианты развития событий, согласны, наверное, все ученые. Даже Гоулман, который считает, что нашими решениями управляет миндалевидное тело, пишет, что заложенное в генах легко поддаётся изменениям в раннем возрасте.
Регулярно появляются новые данные, подтверждающие то, что окружающая среда имеет огромное влияние на развитие человека. Лаборатория нейрокогнитологии и развития Колумбийского университета (Нью-Йорк), возглавляемая доктором Кимберли Ноубл, в 2005 и 2015 годах проводила исследования и получила такие результаты: дети из бедных семей имеют меньший словарный запас, не справляются с познавательными функциями, вроде запоминания лиц, карточек, демонстрируют худшие показатели в развитии мышления, самоконтроля.
«Более того, согласно данным,— говорится в статье The Guardian,— небольшой рост доходов семьи оказал гораздо большее влияние на мозг самых бедных детей, чем аналогичное увеличение среди более богатых детей. Данные Ноубл дают такую же картину: развитие мозга снижается, если доход семьи падает ниже определенного базового уровня. Больше всего пострадали дети из семей с доходом менее 25 000 долларов, площадь поверхности мозга таких детей на 6% меньше, чем у их сверстников из семей с доходом 150 000 долларов и более.
Несколько месяцев спустя другое крупное исследование, проведенное в соавторстве с Сетом Поллаком, детским психологом из Университета Висконсин-Мэдисон, обнаружило тесную связь между доходом семейства и объемом серого вещества в лобной доле, височной доле и гиппокампе.
Дети из семей за чертой бедности (24 250 долларов США на семью из четырех человек в 2015 году) имели на 8–10% меньше серого вещества в этих критических регионах. И даже дети, чьи семьи были немного в лучшем положении — доходы в полтора раза превышали федеральный уровень бедности — имели на 3–4% меньше серого вещества, чем норма развития. В исследовании Поллака многие из бедных родителей имели хорошее образование, что свидетельствовало о том, что «задержки в развитии» их детей являлись прямым следствием бедности» [8]. Но вопрос не так прост: есть данные и о том, что низкий уровень жизни на протяжении длительного периода приводит к адаптации организма к условиям и восстановлению его возможностей. Например, в России проводили исследование с 1989 по 2010 год и выяснили, что приспосабливаются организмы женщины и новорожденных: «Проанализированы данные наблюдения 3 000 рожениц и их детей, рождавшихся в июне на протяжении последних 20 лет. Обнаружено, что в конце прошлого столетия в условиях ухудшения качества жизни населения наблюдались снижение антропометрических показателей детей, коэффициента рождаемости, росло число женщин с потерей беременности, количество детей с задержкой внутриутробного развития. Несмотря на сохранение неблагоприятных экономических показателей, к началу настоящего столетия произошла адаптация населения к существующим условиям жизни, при этом улучшились показатели функциональной зрелости новорождённых, коэффициент рождаемости поднялся с 9% до 12,6%, случаи потери беременности уменьшились с 8 до 3%» [7].
Данные, полученные Ноубл и Поллаком, да и данные о приспособлении физиологических функций к условиям, показывают, что развитие организма зависит от условий, в которых находится человек. Даже если в конечном счете на организм влияет человеческое отношение к условиям и изменение этих условий.
Получается, гены и даже какой-то один орган вроде миндалевидного тела — не определяющие факторы в становлении человека. В воспитании, конечно, нужно учитывать красоту ребенка, как пишет Януш Корчак [6]. Это логично: мы не найдём подхода к каждому ребёнку, если не будем предельно внимательны к его индивидуальности, если не заметим, какого цвета у него глаза, какой формы нос. Правда, это такие тонкости, которые непременно должны быть в арсенале педагога, но которые могут быть гармонично вплетены в воспитание, только если выражают человеческое отношение. А человеческое отношение значит, что какими бы ни были цвет глаз, кожи, волос, длина ног или ширина костей, педагог будет делать своё дело — давать ребёнку все, что ему нужно для развития и счастья. Не говоря уже о том, что большинство физиологических показателей меняются на протяжении жизни и зависят от активного действия человека. Практика
Никто не считает, что если есть столешница — то это обязательно стол. Без столешницы стола не будет, но определяет стол не она. Стол не будет столом, если его использовать не по назначению. Отличает стол от других предметов то, что мы с ним делаем, как используем в своей практике, для чего он нам нужен. Понятие мышления сложнее, чем понятие стола, но и мозг, и даже отдельные его структуры — это не то, что определяет мышление. Если мозг использовать не по назначению — он будет скоплением клеток, какой-то жижей, но не тем, что думает.
Гоулман говорит, что сначала миндалевидное тело работает, посылает сигналы, и только после этого мы действуем. Но откуда миндалевидное тело получает информацию, стимул к своему действию и — что важнее — способы действия? Гоулман приводит такой пример: ночью его разбудил звук падающих вещей, он подумал, что обвалился потолок, поэтому вскочил с кровати. Это был звук упавших коробок, а не потолка, но миндалевидное тело «представило» себе падающий потолок и «включило» режим спасения человека. Теория решающего миндалевидного тела не отвечает на вопрос, почему это был звук именно падающего потолка, а не стены, шкафа или тех же коробок, которые, как оказалось, переставила жена Гоулмана. Психолог не знал о коробках, его практика ещё не передала миндалевидному телу, что вот эти коробки могут упасть, поэтому он и представил себе совершенно другое. И не каждый человек вскочил бы с кровати, несмотря на то, что миндалевидное тело у каждого человека крайне похоже по структуре на такое же тело другого человека. С другой стороны, на звуки, которые могут говорить об опасности, подобным образом реагируют все люди, потому что практика людей похожа. Мышление человека формируется всей практикой человечества и представление о падающем потолке могло возникнуть не обязательно от того, что с Гоулманом подобное когда-то случалось, но и потому, что он видел это в фильме, читал в книге, слышал от друга и именно это произвело на него впечатление. Да и как именно поступить в подобной ситуации — перевернуться, вскочить, увернуться (способ действия, реакция) — это всё тоже не запрограммировано нашим мозгом, телом. Маленького ребёнка приходится долго учить переворачиваться, сползать с дивана, а не падать головой вниз, группироваться в разных ситуациях и вообще всевозможным образом управлять своими мышцами, моторикой, телом вообще.
То, что влияет на мозг, что указывает миндалевидному телу, как именно поступать, находится в деятельности и в предметах, в которые человек — человечество — закладывает все возможные варианты действий с этим предметом. Предметная деятельность
«Всякой вещи присущ какой-то аффект, настолько побудительный, что он приобретает для ребенка характер «принудительного» аффекта, и поэтому ребенок в этом возрасте находится в мире вещей и предметов, как бы в силовом поле, где на него действуют все время вещи, притягивающие и отталкивающие. У него нет равнодушного или «бескорыстного» отношения к окружающим вещам. Как образно говорит Левин, лестница манит ребенка, чтобы он пошел по ней, дверь, чтобы он ее закрыл и открыл; колокольчик, чтобы он в него позвонил; коробочка, чтобы он ее закрыл и открыл; круглый шарик, чтобы он его покатил. Словом, каждая вещь заряжена для ребенка в этой ситуации такой аффективной притягивающей или отталкивающей силой, имеет аффективную валентность для ребенка и соответствующим образом провоцирует его на действование, т. е. направляет его» [3].
Описанное Выготским явление — это только начало познания мира. Дальше ребёнок учится действовать с предметом иначе — он может его помыслить в отрыве от непосредственной деятельности, может вообразить действие с предметом, может представить, как человек делает что-то отличное от того, что этот человек делает сейчас у ребёнка перед носом. Но это следующий этап, а первый (не по времени, а по логике — то есть такой первый, который возникает каждый раз при решении новой задачи вновь) этап — это движение по логике предмета. В.А. Босенко говорит, что, прежде чем мыслить и действовать согласно возникающим идеям, нужно «пройти» по форме человеческого предметного мира — путь, который прошло человечество в процессе изменения природы: «Чтобы научиться движению без предмета (идеальному, теоретическому, логическому), нужно прежде научиться «двигаться по предмету», вернее, по практическому изменению, преобразованию его соответственно общественным целям и потребностям человека» [1].
Человек создаёт предметный мир человеческим образом — с помощью орудий труда и совместно-разделённой деятельности преобразовывает природу. В предметах, в способах их создания и способах использования заключена история этого преобразования — история деятельности человечества. Предметным мир, понятый таким образом, побуждает к действиям, а действия — это и есть то, что формирует человека — его мышление и чувства: «Не природа, и не среда (в том числе и общественная), и не их воздействие формируют человека в его собственно человеческих (гуманистических) качествах. Строго говоря, для человека вообще не существует среды, ибо окружающий мир, природа вообще не даны человеку непосредственно как таковые в форме объекта, в форме созерцания, а даны изменяемыми в форме деятельности, практики. Только изменяемый практически мир, преобразуемая природа могут стать объективным содержанием знания, объективной истиной» [1]. Мышление и чувственность
Э.В. Ильенков говорит, что то же касается и развития чувственности человека: ««Формы созерцания», так же как и «формы мышления», ни в коем случае не наследуются физиологически, то есть вместе с анатомией органов мышления и восприятия. Они каждый раз воспроизводятся в индивидууме путем упражнения этих органов и «наследуются» особым путем — через формы тех предметов, которые созданы человеком для человека, через формы и организацию предметно-человеческого мира... Постоянное, с колыбели начинающееся общение индивидуума с предметами, созданными трудом предшествующих поколений, как раз и формирует человеческое восприятие, организует «формы созерцания». Когда они созданы, они действительно превращаются в физиологически закрепленные механизмы и действуют как «естественные», способности человека. Когда они сложились они и кажутся такими же «природными» особенностями человеческого существа, как и анатомические особенности его тела, как форма носа или цвет кожи» [5].
При таком понимании формирования человека нет разделения его на мыслящего и чувствующего, интеллектуального или эмоционального. Человек учится управлять эмоциональной сферой, а затем — и чувственной, так же, как и управлять своими мыслями. Но прежде чем учиться управлять, нужно чтобы эти эмоции и чувства, представления и мысли возникали. В этом и помогают действия по контуру предметов и по изменению предметного мира: «Как раз «предметы», созданные трудом художника, специально и развивают способность чувственно воспринимать мир по-человечески, то есть в формах культурного, человечески развитого созерцания» [5]. Разделение на умственное и чувственное в развитии человека происходит тогда, когда наиболее эффективно выделиться из природы можно только с помощью разделения труда. Сейчас же разделение в человеке разума и чувств мешает развитию человека, а современные производительные силы позволяют избавиться от этого разделения. Кроме того, человек с помощью развитого интеллекта использует такие силы природы и других людей (атомная энергия, биологическое оружие, автоматизированные системы управления), что для того, чтобы в нужное время и в нужном месте использовать свои знания и умения на благо человечества, нужна развитая чувственность.
Именно поэтому В.А. Босенко говорит: необходимо кардинальным образом менять систему образования и воспитания человека, нужно создавать на новом основании новые условия для того, чтобы у каждого школьника были «нормой заботы вселенского масштаба». Для развития и разума, и чувств, нужно обеспечивать людей возможностью перемены рода деятельности: «Последнее вообще должно стать способом жизнедеятельности каждого индивида» [1].
Только так и можно решить проблемы, поднятые Гоулманом в его книге «Эмоциональный интеллект»: проблемы убийств, агрессии, нелогичных импульсивных поступков, о которых люди в дальнейшем сожалеют. Если же мы примем его позицию, что существует «один процесс, осуществляемый рациональным умом» и «наряду с этим есть и другая система познания, мощная и импульсивная, хотя порой и нелогичная,— ум эмоциональный», то мы примем позицию дуализма и в конечном счете — капитуляции перед непостижимым: два ума пытаются ужиться в одном человеке, раздирают его, а значит и по-настоящему умным и действительном счастливым человек не может быть, ведь одному уму нужно постоянно уступать место другому.
Литература
Босенко В. Воспитать воспитателя. Заметки по философским вопросам педагогики и педагогическим проблемам философии / В. Босенко.— К.: Всеукраинский Союз рабочих, 2004.— 352 с.
Выготский Л.С. Психология развития человека. / Л.С. Выготский.— М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2003.— 1136 с., илл. (Серия «Библиотека всемирной психологии»).
Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. [Электронный ресурс] / Л.С. Выготский.— Электрон. дан.— Режим доступа: https://studme.org/160717/ psihologiya/rannee_detstvo
Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ [Электронный ресурс] / Д. Гоулман.— Электрон. дан.— Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление: ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2013.— Режим доступа: https://mybook.ru/author/deniel-goulman/ emocionalnyj-intellekt-pochemu-on-mozhet-znachit-b/read/?page=1
Ильенков Э.В. Об эстетической природе фантазии. [Электронный ресурс] / Э.В. Ильенков.— Электрон. дан.— Режим доступа: http://caute.ru/ilyenkov/ texts/iki/phantasia.html]
Корчак Я. Как любить ребёнка. [Электронный ресурс] / Януш Корчак.— Электрон. дан.— Режим доступа: https://mybook.ru/author/yanush-korchak/kak- lyubit-rebenka/read/?page=1
Щуров В.А., Сафонова А.В., Могеладзе Н.О. Децелерация роста детей как форма адаптации населения к ухудшению качества жизни / В.А. Щуров, А.В. Са- фонова, Н.О. Могеладзе.— Вестник Челябинского государственного университета. 2014. No 4 (333). Образование и здравоохранение. Вып. 3.— С. 110–113.
Mike Mariani. The neuroscience of inequality: does poverty show up in children's brains? The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/inequality/2017/ jul/13/neuroscience-inequality-does-poverty-show-up-in-childrens-brains. (Accessed 1. 09. 2019).
2.10. Румянцева Н. Л. О личности
Развал СССР требует исследования причин случившегося. Причин много, и одна из основных — отсутствие у гуманитарной науки теории человека, его формирования, которая бы объяснила происходящее. В рамках принятых в марксизме представлений такого объяснения нет, тогда как именно проблема человека развивающегося — основная проблема современного мира, и от её теоретического решения зависит в конечном итоге выбираемый человечеством путь развития.
И здесь мы можем обратить к Ильенкову — он строил такую теорию, обратившись к понятию «личности». Это понятие берёт на себя функцию обозначения высшего уровня, которого может достичь развивающийся человек и в то же время обозначения уникальности каждого человека.
Сама проблематика «личности», а не развитого человека, или высшего уровня его развития, или идеала, образца человека, пришла к нам из западной психологии: её интересовал этот феномен, называемый термином «person», который обозначал у некоторых авторов такую высшую точку развития, а у других — напротив, личину, маску, которую человек преодолевает в своём развитии. Русские герои — Алёнушки и Иванушки, или старцы и батюшки, герои Пушкина, Толстого, Достоевского, Лескова и т.д., вряд ли подпадали под это понятие. Ильенков, можно сказать, согласился искать идеал человека в этой понятийной системе, после отказа искать такой идеал в понятиях немецкой классической философии (Канта, Фихте), редукционность которой была отвергнута системным подходом Маркса. Однако Ильенков иначе, чем западные психологи, определял термин «личность».
Ильенков признаёт, «что «личность» — уникальное, невоспроизводимо индивидуальное образование, одним словом, нечто единичное» [1, с. 388]. Но чем определяется эта уникальность? Личность у Ильенкова «не внутри единичного тела, а как раз вне его, в системе реальных взаимоотношений данного единичного тела с другим таким же телом» [1, с. 393]. Это первое, главное отличие развиваемого им понятия от западных трактовок. И с этим нельзя не согласиться. Несогласие возникает, однако, когда Ильенков конкретизирует это общее абстрактное определение.
Ильенков доказывает, что «личностью… ребенок станет лишь там и тогда, когда сам начнет эту деятельность (одеваться, купаться, есть и пить — Н.Р.) совершать» [1, с. 397]. При таком критерии становления личности, она возникает в любом человеке любого современного общества, в обывателе, бандите и хулигане. И вряд ли оправдано в таком аспекте вводить понятие личности, точнее было бы поставить это как условие необходимое, но (далеко) не достаточное. Ведь личность отличается у Ильенкова же совсем другими качествами.
Какие же это качества?
Размышления А. Суворова, которые приводит Ильенков: «В каком пространстве существует личность? Где я? Не тут (касается ладонью головы) и не здесь (указывает на грудь)… А, понял: я — в сумме моих отношений с друзьями… и с врагами тоже. В совокупности моих отношений с другими людьми, вот где…»[1, с. 403], дают определённый дискурс освещения проблемы, не вызывающий сомнений. Сомнения возникают, когда Ильенков уточняет это размышление студента.
Первое уточнение — усмотрение «телесности» личности прежде всего «в совокупности (в «ансамбле») предметных, вещественно-осязаемых отношений данного индивида к другому индивиду (к другим индивидам), опосредствованных через созданные и создаваемые их трудом вещи, точнее, через действия с этими вещами (к числу которых относятся и слова естественного языка)»[1, с. 403] — уже ограничивает отношения «с друзьями…и с врагами тоже» вещами, созданными трудом человека (точнее, действиями с вещами). Эта мысль неоднократно проводится Ильенковым: определяя личность, находящуюся «в системе реальных взаимоотношений данного единичного тела с другим таким же телом через вещи, находящиеся в пространстве между ними и замыкающие их «как бы в одно тело», управляемое «как бы одной душой.”», он подчёркивает: «При этом непременно через вещи, и не в их естественно-природной определенности, а в той определенности, которая придана им коллективным трудом людей, т. е. имеет чисто социальную (и потому исторически изменяющуюся) природу»[1, с. 393].
Т.е. можем сказать, что общающаяся через смартфоны молодёжь — это как раз «пространство существования личности», хотя, по-видимому, и просто словесное общение здесь не исключено, т.к. «слова» отнесены тоже к таким вещам (хотя и в скобках), а словесное общение, разговор — к «действию с этими вещами», т.е. словами, что, хотя и неестественно для русского языка, но всё-таки можно воспринять.
Но дальше Ильенков как будто пренебрегает такой «вещью», как слова, т.к. говорит уже только о «вещественно-телесных действиях с этими вещами»: «личность поэтому и рождается, возникает (а не проявляется!) в пространстве реального взаимодействия по меньшей мере двух индивидов, связанных между собой через вещи и вещественно-телесные действия с этими вещами»[1, с. 403]. Но если и разговор уже было трудно себе представить как «действие со словами», то совсем невозможно представить его как «вещественно-телесные действия» со словами. Ясно, что такое вещественно-телесное взаимодействие испытывали, например, слепо-глухо-немые подопечные в общении со своими воспитателями в Загорском эксперименте, на базе чего и выстраивается концепция личности Ильенкова, но взаимодействие здоровых людей совсем не всегда, а развитых людей(в русской смысловой системе) и очень редко опирается на вещественно-телесное взаимодействие.
Дальнейшее уточнение понятия «личность» вызывает ещё больше вопросов: «Подлинная индивидуальность — личность — потому и проявляется… в умении делать то, что умеют делать все другие, но лучше всех, задавая всем новый эталон работы Она рождается всегда на переднем крае развития всеобщей культуры, в создании такого продукта, который становится достоянием всех…» [1, с. 412], что превращает её в «активного деятеля, интересного и важного для других, для всех», приносящего им радость: «Подлинная же, живая личность всегда приносит людям естественную радость. И прежде всего потому, что, создавая то, что нужно и интересно всем, она делает это талантливее, легче, свободнее и артистичнее, чем это сумел бы сделать кто-то другой, волею случая оказавшийся на ее месте». [1, с. 413]. Здесь несколько моментов можно отметить: 1.личность — в умении делать по-новому то, что становится достоянием всех; «живая личность всегда приносит людям естественную радость»; 2.не просто делать по-новому, но делать лучше всех; 3. личность рождается «на переднем крае развития всеобщей культуры.
4.1. Личность — в умении делать по-новому то, что становится достоянием всех; «живая личность всегда приносит людям естественную радость». Здесь мы видим личность как носителя новых технологий и вещей, всех радующих. По поводу того, куда ведут эти новые технологии, написано много книг (например[2]). И что, какие вещи радуют всех? Кто они, эти «все»? Во что превращают этих радостных «всех», особенно, детей, эти новые современные вещи? Экономика передовых в технологическом отношении стран, к середине ХХ века удовлетворившая насущные жизненные потребности человека, вошла в фазу производства и перепроизводства фиктивных благ (и это еще мягко сказано) превратив человека-творца в творческий придаток гигантской финансово-экономической мегамашины. В результате «в мире образовался и растет превратный сектор -… деятельность по обслуживанию собственно рыночных отношений … сектор, поглощающий еще больше, чем индустриальное производство природных и человеческих ресурсов и не производящий ничего, кроме гигантской паразитической и посреднической сферы и механизмов разрушения жизни».[3] Однако сектор с вполне творческой деятельностью его участников (иначе не продашь!) и вполне «радующий» большинство покупателей «общества потребления», которым стала и Россия, которые, как и Гертруда Стайн, «любят всё, что новее нового».
Это другая тема, но ясно, что этот тезис Ильенкова в современную эпоху постмодерна сомнителен.
4.2. Делать «лучше всех» то, что делают и другие. Это, можно сказать, определение талантов. И у Ильенкова «между «личностью» и «талантом» тоже правомерно поставить знак равенства, знак тождества» [1, с. 413], т.к. «лучше всех» делают именно таланты или даже гении. Но мы знаем много талантов и при этом совершенно недостойных, неразвитых нравственно людей. И напротив: герои произведений русской классики не какие-то таланты, но люди, поднявшиеся к высотам нравственности или ищущие пути совершенства, поднимающиеся к нему в мучительной внутренней работе. Здесь вопрос о будто бы несовместимости гения и злодея — напротив, гений и злодейство или, точнее, и безнравственность вполне совместимы. Можем тут вспомнить многих известных, талантливых деятелей искусства и науки. Например, режиссёра Пырьева и его наглость и цинизм в отношениях с актрисами. Да и многие известные, талантливые актёры, Гурченко, например, являют собой эгоистичное и самовлюблённое человеческое существо в реальной, не сценической жизни в отношениях с людьми, и потому остаются одинокими к старости. То же можно сказать и об учёных — их высокий статус в науке вовсе не означает достойного образа жизни, (например, Ландау). Но у Ильенкова они все — личности.
4.3. Что это за «передний край всеобщей культуры»? И есть ли вообще «всеобщая культура»? Здесь Ильенков как интернационалист как будто не замечает преобразования западной культуры в последние века («Закат Европы»), постмодерн её «переднего края». Можно говорить о всеобщности технологий, но культура, даже понимаемая так, как понимал её Ильенков («запас усвоенных тобой знаний, общих истин»), каждого народа несёт свои особенности, свои нормы, существенно отличные в коллективистском и индивидуалистическом обществе, которые ребёнок усваивает с детства.
Вот другое представление о личности, конкретизирующее приведённое выше размышление А.Суворова в русской культурной парадигме: «Давайте будем рядом в трудный час, давайте никогда не будем злиться. И если кто-то вдруг обидит нас, не станем воздавать ему сторицей. Давайте будем бережно хранить кристаллы чувств, что нашу душу греют, и близкими своими дорожить — ведь люди так стремительно стареют. Давайте чаще говорить с детьми, им очень важно знать — они любимы. И пусть давно уж выросли они, но, как и в детстве, до сих пор ранимы. Давайте внуков будем обожать. и получать невольно наслажденье. Ведь бабушкам положено прощать и вкусное готовить угощенье. Давайте будем чаще отдавать, делиться тем, чем жизнь нас одарила, давайте никогда не унывать, и не жалеть о том, что в жизни было. Давайте вспомним тех, кого уж нет, кто в нашем сердце остается вечно. И только эхо через толщу лет к ним долетит по переулкам млечным. Давайте будем радоваться жить, иметь работу — это очень важно. Пусть дети нами будут дорожить, а остальное, в принципе, не важно…» [4]. (Мы, как и Ильенков в диалоге с формальными логиками, считаем, что «против такой позиции права все же поэзия»)
Вывод: У Ильенкова личность определена через человеческое отношение, которое «всегда предполагает, с одной стороны, созданную человеком для человека вещь, а с другой стороны, другого человека, который относится по-человечески к этой вещи, а через нее — к другому человеку» [1, с. 395] — всего лишь! У него исключёно из рассмотрения главное свойство личности в современную эпоху, определяемое не способностью делать вещи, а способностью «делать себя», отдавать себя детям, внукам, друзьям, своему роду (стремился ли Ильенков сохранить свой род?), народу (на-роду), Родине (Род-ине) — тому уровню человеческой общности, который в тебе нуждается или которому что-либо угрожает. Такая самоотдача — это основное качество духовно развитого человека в русской парадигме, сохранившее русский народ и русскую цивилизацию, которое можно определить так: осознание и восчувствование себя частью целого, вызывающее поведение, способствующее сохранению этого целого, где целое — иерархично: от семьи, круга друзей и близких до этноса, нации, цивилизации, всего человечества[5, c.230]. Назовём ли мы такого русского человека, поднимающегося по ступеням этой иерархии, личностью? Или вообще не термином «личность» будем обозначать наш, русский идеал?
Литература
Ильенков Э.В. Философия и культура — М., Политиздат,1992. URL:http://www. bellabs.ru/Books/Person/Person-2.html (Дата обращения 07.07.2018)
Кутырев В.А. Бытие или ничто — С-Пб.: Алетейя, 2010 — 496с.
Бузгалин А.В. Постиндустриальное общество — тупиковая ветвь социального развития?// Вопросы философии, 2002, №5.
Давайте будем рядом в трудный час (Галина Щелкнская) URL: https://www. liveinternet.ru/users/4569196/post446501546 (Дата обращения 31.08.2019)
Румянцева Н.Л. Социальная эволюция человека. Системно-диалектический подход.— М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014 — 240с
2.11. Суханов В. Н. Проблема основания учебно-исследовательской деятельности в контексте педагогических идей Э. В. Ильенкова
В последнее время психологическая наука все активнее обращается к понятию деятельности. Педагогика тоже не отстает. Даже существует такой курс в колледжах: «Основы учебно-исследовательской деятельности». Но складывается впечатление, что длительные разговоры о деятельности только запутывают дело. Почему? Да просто потому, что в своих беседах и методических пособиях ученые обходят такую науку как философия. Потому и не могут понять, что есть деятельность в чистом виде, сама по себе, а соответственно не решив этот общий вопрос, исследователи всегда будут спотыкаться о частности. Движение философской мысли от Парменида до Гегеля и было поиском этой чистой формы. В «Науке логики» Гегеля эта форма обретает свое конкретное содержание, логика становится содержательной, поскольку максимально полно отражает реальную предметно-преобразующую деятельность человека — труд.
Разберем в контексте Логики Гегеля историческое зарождение деятельности. Эта точка — родовое начало человека, в которой предчеловек взламывает миллионами лет устоявшуюся схему животного поведения, определяемого инстинктами, и начинает творить новую схему согласования себя с объективной действительностью. Это согласование становящийся человек осуществляет в коллективной орудийно-предметной деятельности. В деятельности процессы обучения, воспитания, исследования (несомненно, присущие и животному миру) приобретают новое качество. Но чтобы его осознать, одного созерцательного взгляда на мир мало. Деятельность познается только деятельностью. Здесь, конечно, тавтология, но иного пути нет — любое познание деятельности не изнутри, не по ее законам будет ложным.
Поэтому, до того, как начинать анализ деятельности как таковой, всмотримся повнимательней в поведение животных пока еще созерцательным взглядом. При таком подходе животные нам очень даже близки. Находясь на позиции созерцания, мы не увидим единичности животного как его атрибутивной характеристики. Наоборот — мы можем позавидовать мастерству рыси, обучающей своих рысят охоте, восхититься прозорливости «педагогического таланта» волчицы, после года не признающей своего волчонка и тем самым приучающей волчат к самостоятельности, а случай как белый медвежонок тренировал прыжок на тюленя уже вошел в психолого-педагогическую классику. «П.Я. Гальперин приводит любопытный пример из записок одного полярного путешественника, который рассказывает, как молодой медвежонок, промахнувшись прыжком на тюленя, стал отрабатывать этот прыжок в отсутствии реальной цели, т.е. соизмерять силу толчка и величину расстояния» [1, с. 131].
Но, несмотря на весь наблюдаемый ум животных, если мы говорим об их «деятельности», то только в кавычках. Почему? Ведь животное способно удерживать своим поведением категории, которые Иммануил Кант считал априорно присущими субъекту — пространство и время. Именно они помогают хищнику догонять жертву. В охоте хищника «результат достигается через экстраполирующую деятельность. Здесь субъективный образ ситуации удерживает определенность пространственно-временных изменений и в силу этого выходит за пределы данного в восприятии, раздвигает это восприятие во времени и пространстве. Это раздвижение — есть субъективное удержание пространственно-временного образа действительности как условия осуществимости продуктивного действия». [1, с. 132].
В вышеприведенном отрывке слово «деятельность» могло быть применено без кавычек, поскольку животное здесь действует как субъект, само является хозяином над ситуацией и обретает момент свободы в виде продуктивности действия. Но свободы в собственной форме, свободы как таковой оно не обретает. Какой же новый, неведомый животным атрибут вносит деятельность в зарождающееся человеческое общество? Этот атрибут — взаимопомощь. И зерно этого атрибута — орудие труда, заключающее в себе и субъективный фактор, поскольку действует орудием именно субъект, и объективный, поскольку при помощи орудия преобразуется окружающая человека природа в соответствии с интересами человека.
Естественно на первых порах эти интересы мало чем отличаются от потребностей животных — они сплошь органические. Но благодаря орудию, изготовлению новых орудий человек формирует новые интересы, которые все более и более отличаются от вожделений своих прародителей. Вплоть до потребностей идеальных, духовных, неведомых животному миру.
Вычленение из орудийно-чувственной практики идеального в особую сферу было необходимым шагом развития человека, шагом познания себя, целей и смыслов своего бытия в окружающем мире. Естественно, первые мифы о происхождении человека существенно разнятся с научным пониманием действительности, но и первые религии, приписывающие природе человеческие качества (анимизм), и движение деятельности в чистой логической форме,— все из этой сферы.
Фиксация момента разделения реальной и идеальной деятельности очень важна в контексте понимания развития личности. Ведь именно эта точка и есть родовое начало исторического человека. Насколько истинным будет суждение, что этой же точкой знаменуется начало человека в процессе онтогенеза? Совпадают ли в этом моменте филогенез и онтогенез?
Насколько мы можем судить о годовалом ребенке, набравшем пустые названия окружающих предметов, что он начался как человек? Здесь ли начало личностной, собственной формы человека? В контексте этих вопросов вполне уместно вспомнить «Науку логики» Гегеля. По Гегелю логическое начало и есть «отсутствие определений», где «чистое бытие и чистое ничто есть… одно и то же» [2, с. 69]. Но, тем не менее, это начало. Начало само по себе, еще не положенное. «Ничто еще не положено в бытии, хотя бытие есть по своему существу ничто, и наоборот» [2, с. 88].
Но в контексте развития личности и эта мысль Гегеля требует пояснения. Чтобы положить себя как личность ребенок должен полностью войти в лоно всеобщего, абсолютно перейти «от отдельного конечного бытия к бытию, как таковому, взятому в его совершенно абстрактной всеобщности» [Там же, с. 75]. То есть пустые названия слов — это еще не есть начало человека в онтогенезе. Здесь малыш еще накрепко связан со своим «отдельным конечным бытием». «В том и состоит дефиниция конечных вещей, что в них понятие и бытие различны, понятие и реальность, душа и тело отделимы друг от друга, и потому преходящи и смертны» [2, с. 75–76].
Личность как «вещь» бесконечная должна начинаться с «совершенно абстрактной всеобщности». А это будет возможно только тогда, когда малышу будет предоставлена возможность создать свою «языковую» вселенную. И чем более непосредственней она будет, тем больше в ней потенции к личностному развертыванию. Обойти язык в формировании личности невозможно.
Получается с самого раннего детства, с младых ногтей, ребенка нужно учить не только читать, но и писать книги! Написать рассказ (рисунок) о собственной совести, о ее сестре — голой правде (воспроизводятся реальные события воспитания внучки Г.В. Лобастова — Ани) [3, c. 160–161] и т. д. и т.п. И причем без всякой предварительной предзаданности сюжета!
Но чем опасна предзаданность сюжета, которая, кстати сказать, активно используется детскими психологами РГГУ [4]. Что, разве не развивают ум, воображение приключения снеговика по временам года? Разве ребенок не «учится диалектике» (как утверждают психологи), когда снеговик переходит из зимы в весну, и далее, в лето и осень?
Воображение здесь может быть и развивается, но не в логическом его понимании. Ввести себя в образ человек способен только сам. Вспомните советский фильм «Большая перемена», где «взрослый хулиган» Ганжа в сочинении «На кого я хочу быть похожим» написал, что хочет быть похожим только на самого себя. Молодой и талантливый учитель поставил ему единицу.
Много ли у нас сейчас таких «хулиганов» в школе? Любое стремление выделиться, «выпендриться» — это всегда — «быть похожим». В фильме показано, откуда корни такого необычного хулиганства Ганжи — вечерняя школа находится при химическом заводе, на котором Ганжу уважают за его рабочие руки. Разворотом плеч и уверенной улыбкой «хулиган» словно бы утверждает — все знания, которые способна дать мне школа, в потенции находятся здесь, в моих руках. И абсолютно прав, потому и не сетует за единицу Нестору Петровичу, а сам, скорее, становится учителем учителю. И не только он — весь замечательный 9 «А».
Конечно, фильм смотрится как сказка. А сказка не есть жизнь. Тем более наша, современная, где все стало товаром. И душа, и сердце, и знание, и рабочие руки. Но ведь и ребенок Василису Прекрасную и Змея Горыныча в жизни не видал. И на Кон-Тики не путешествовал. И 80 лье под водой не проходил с Жюль Верном. Но однако ж малыш там был. Сам.
Потому так и важна сказка в раннем детском возрасте,— ребенок столь увлечен сюжетом, что обретает самость через иллюзию. На краткий миг сказочного повествования малыш примеривает на себя доспехи богатыря и сражается с Кащеем, Змеем и бабой Ягой. Иллюзия? Да. Но она дает возможность написать ребенку «свою сказку», сотворить свой идеальный мир, высказать свое Слово.
Но что разве нет у ребенка самости при умной совместно-разделенной деятельности при освоении конечных вещей реального мира? Что разве ребенок не сам забивает гвозди, когда мудрый воспитатель «вовремя убрал руку» (Ильенков)? Тогда чем отличается «самость» забивания гвоздей от «самости» творчества в поле идеального? Всеобщностью охвата. «Всеобщее есть истина чувственной достоверности, а язык выражает только это истинное» [5, с. 53].
Здесь как раз и «пробуксовка» педагогики, пытающейся строить свою работу на материалистических началах, но не познав диалектики. Несмотря на то, что всеобщая орудийно-чувственная деятельность является первичной в деле формирования человеческого духа, культуры, вычленить, зафиксировать эту всеобщность может только язык. Поэтому если ребенку не создать условия для высказывания всеобщего чувственных вещей, он никогда не сможет сделать шаг от причинности к самообусловленности в своем развитии. Не сможет стать субстанцией, творящей самое себя.
Но все ли педагоги понимают это? Задача понимания превращения ребенка в субстанцию — не из легких. Здесь действительно нужна серьезнейшая философская подготовка, поскольку требуется удержать в одной точке марксистское понимание свободного труда, кантовскую априорность категорий пространства и времени и гегелевское снятие бытия в сущности. Такое «удержание» и выводит на философию Фихте как ключ педагогики [1].
В качестве помощи учителю попробуем развернуть в пространство учебно-исследовательской деятельности точку тождества позиций Маркса, Канта, Гегеля. А заодно уясним и себе существенные детали, без которых невозможно действительное взаимодействие с ребенком. Начнем с Маркса.
В «Тезисах о Фейербахе» Маркс дает следующее определение сущности человека: «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» [6, c. 265]. Здесь Маркс противопоставляет свое понимание сущности человека фейербаховскому пониманию. У Фейербаха «человеческая сущность может рассматриваться только как «род», как внутренняя, немая всеобщность, связующая множество индивидов только природными узами» [6, c. 266]. Но в чем причина такой позиции Фейербаха? Маркс объясняет, что Фейербах, несмотря на то, что он «хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов, … саму человеческую деятельность берет не как предметную деятельность» [6, c. 264], а соответственно и вынужден «абстрагироваться от хода истории, рассматривать рели гиозное чувство [Gemüt] обособленно и предположить абстрактного — изолированного — человеческого индивида» [6, c. 266]. Такова позиция созерцательного материализма. И здесь, понятно, ни о какой сущности в ее гегелевском понимании речи быть не может. Здесь только созерцание непосредственного бытия. А потому и рефлексия как основной принцип действия в сущности лишь внешняя, формальная. И, соответственно, сущность человека «по Фейербаху» лишь «род», «немая всеобщность».
Не то у Маркса. Маркс предлагает осуществить рефлексию созерцаемого бытия в деятельности. И при этом учится у идеалистов, в первую очередь, у Гегеля, поскольку Гегель гениально угадывает (Ленин) в движении категорий «Науки логики» движение исторической практики человека. Именно в реальном преобразовании бытия в процессе предметно-чувственной деятельности Маркс и видит выявление и проявление человеческой сущности. Именно в контексте такого рода «рефлексии» Маркс и дает определение человеческой сущности — «совокупность всех общественных отношений».
Но любой тезис требует раскрытия. Что, в принципе, Маркс и осуществляет в «Капитале» и не только в нем. Уже в своих ранних работах, в первую очередь в «Философско-экономических рукописях 1844 года», Маркс раскрывает сущность человека, являющуюся в наличном бытии капитализма. У Маркса тотальность общественных отношений, представленных в индивиде, не есть «немая всеобщность». Всеобщность Маркса говорит языком основной гегелевской категории — категории противоречия. Индивид Маркса — не абстрактная «половинка» Фейербаха, вне которой находится его сущность в виде религиозной сущности. Маркс удерживает противоречие тезиса как тождество различенного: с одной стороны человеческое я с его материальными и духовными запросами, c другой стороны — ансамбль всех общественных отношений. В контексте такого разделения единого Маркс и осуществляет свою теоретическую деятельность.
По сути, это и есть основное противоречие марксизма, в разрешении которого и движется развивающая Маркса и Энгельса мысль. В контексте развития общественных отношений в сторону своей абсолютной тотальности противоречие приобретает вид,— с одной стороны, c точки зрения последовательного материализма, в мире нет ничего, кроме движущейся материи, c другой стороны, идеалом марксизма является личность — свободная индивидуальность, не ограниченная никакими заранее заданными штампами. Или по-другому: с одной стороны — человеческое Я, с другой стороны — вся объективная действительность. Помятуя Логику Гегеля, можно задаться вопросом — что же является средним членом, связкой между Я (единичным) и объективной действительностью (всеобщим)? Очевидно, таким особенным включающим в себя и Я, и действительность, является деятельность. Но логическая фигура Е — О — В лишь простейшая фигура умозаключения. Что и соответствует началу движения исторического человека. Единичное здесь лишь «в-себе». Посредством деятельности оно определяет себя как род, потому и роль единичного во второй фигуре умозаключения занимает всеобщее: В — Е — О. Теперь уже всеобщее, род определяемый единичностью — умозаключает деятельность. В итоге — третья фигура умозаключения: О — В — Е. Деятельность становится индивидуальной деятельностью, но поскольку она всецело определена всеобщим, индивид отождествляется с человеческим родом и уже в состоянии удержать противоречие себя как индивида и себя как представителя рода. Именно здесь единичное становится субъектом. Но это есть субъект «в себе». Субъектом «для себя» он становится, когда единичность, положенная как всеобщность, раскроет эту всеобщность, то есть обнаружит в «для-себя-бытии» понимания своей сущности объективность.
В реальной практике объективность появляется раньше, вовсе не в итоге развития логических фигур умозаключения, как у Гегеля. Реальная практика не может обойтись без объективной действительности и ее деятельного преобразования в соответствии с человеческими потребностями. Но деятельность и понимание деятельности — вещи хоть и родственные, но, тем не менее, различные. Объективность не рождается из умозаключений, но понять объективную действительность можно лишь на достаточно высоком уровне теоретического развития человека. В истории человеческой культуры — это уровень Сократа. Именно Сократ первым в истории философии оказался способен отождествить свое Я с всеобщностью рода. Я Сократа есть, и его как бы нет. Cократ не лукавит, когда говорит — «Я знаю, что ничего не знаю». Афинский мыслитель «абсолютно пустой» не потому, что не мыслит. Он вовсе не индусский лама, смотрящий на свой пупок и твердящий: «Ом-м-м». Нет! Сократ уже мысленно проделал весь путь развития логических фигур умозаключения Гегеля. Начав с того, что в деятельности он ищет всеобщую этическую норму полиса, философ в своем диалоге положив абстрактное определение всеобщего, определяет, словно овод, это всеобщее вопросами по уточнению тех или иных особенностей всеобщего и в итоге уже особенности, определяются всеобщим, но не абстрактным всеобщим, а конкретным, обогащенным точечными вопросами Сократа. К чему же приходит Сократ? Философ не дает положительного ответа на вопросы, что есть знание, благо, прекрасное сами по себе. Он лишь в своем бесконечном поиске заставляет усомниться собеседников в абстрактном понимании всеобщего, наполняет единичность свою и собеседников всеобщим, как бы растворяясь в нем. Фактически суд над Сократом — это суд взбунтовавшегося абстрактного всеобщего над индивидуальностью афинского «овода», положенной как человеческий род.
Сократ словно бы учит нас, что таким, «абсолютно пустым» и надо входить в понимание объективного мира. В форме воска, абсолютной пластичности, как впоследствии определит понимающую способность, форму форм Аристотель.
Но «пустота» Сократа и форма форм Аристотеля — не «tabula rasa» Джона Локка. Это единичность, удерживающая собой всеобщее. И лишь в этом пространстве следует искать истину объективного. Первым в Новое время это понял Кант. И не случайно современные исследователи говорят, что «Маркс есть перевернутый Кант» [7, c. 9]. Здесь все абсолютно точно — истина по Канту в явлении, определяемом категориями рассудка в трансцендентальном единстве самосознания. Истина по Марксу — в обретении человеком своей собственной формы, в умном действовании с реальной «вещью». Кант ищет внутри человеческого Я, Маркс — в объективной действительности, обогащенный пониманием понятия, которое невозможно без Канта.
В непосредственной близости от Маркса ведет исследование и Гегель. Если нахождение объективного мира в познании внутри единого образа самосознания у Канта только предполагается в виде категорий рассудка, то Гегель, осуществляя в «Науке логики» развитие логических категорий от непосредственного бытия до абсолютной идеи, выходит на позицию, по поводу которой Ленин в своем конспекте замечает: «В этом самом идеалистическом произведении Гегеля всего меньше идеализма, всего больше материализма. «Противоречиво», но факт!» [8, c. 215]. Действительно, ну где здесь идеализм? «Понятие есть не только душа, но и свободное понятие, которое есть для себя и потому обладает личностью,— есть практическое, в себе и для себя определенное, объективное понятие, которое как лицо есть непроницаемая, неделимая (atome) cубъективность, но которое точно так же есть не исключающая единичность, а всеобщность и познание для себя и в своем ином имеет предметом свою собственную объективность» [9, с. 288]. Как тут снова не вспомнить «Тезисы о Фейербахе», полностью воспринять которые из марксистов своего времени смог только Ленин. «Деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой» [6, c. 264].
Но насколько мы сами в эпоху глобального кризиса капитализма, когда мир находится на краю пропасти, способны понять Маркса? Не в конструировании наукообразных фраз, не в абы каком «действовании», а в гегелевско-марксистском отождествлении понятия и реальности? Насколько мы сами способны умно прочитать «Науку логики»?
Тот, кто конспектировал «Науку логики» хотя бы один раз, даже если и буксовал в местах, где Гегель «особо темен» (Ленин), наверняка обратил внимание, что практически на протяжении всех трех томов Гегель ведет заочный диалог с Кантом. Но Гегель-то Канта знал «вдоль и поперек»! А насколько Канта знаем мы, чтобы и ругать Кенигсбергского мыслителя, вместе с Гегелем, за его нежничанье с миром, в котором Кант не допускает противоречий, и хвалить одно из главных «изобретений» «Критики чистого разума» — трансцендентальное единство апперцепции. Получается и Канта нужно знать не поверхностно. Но только ли Канта? А что разве Гегель не аппелирует к Пармениду, Платону, Аристотелю, Ансельму, Cпинозе? Выходит для того, чтобы действительно прочитать «Науку логики», нужно вникнуть во всю подводящую к Гегелю цепочку философской мысли.
И здесь, понятно, никакая школа тебе не помощник. Здесь ты и есть тот самый воспитатель (снова «Тезисы о Фейербахе»!), который должен быть воспитан. И здесь, конечно, противоречие, в которое всегда упирается самовоспитание. В формировании себя как личности нужно знать логику развития субъективности, ту самую логику, которую тебе еще только предстоит освоить. Ведь даже прочитав «Науку логики», умным ты еще не стал. Гегель только помогает найти человеку свое начало, лишь направляет поиск к точке, где Я начинаюсь как Я. Но с чего начинать размышления о начале себя?
В первую очередь, зная, что Логика Гегеля — это логика движения деятельности, было бы совсем нелишне снова вспомнить — где в движении реальной исторической практики человека точка, c которой Гегель предлагает начинать науку в своем главном труде? Где точка начала филогенеза? По Гегелю — там, где деятельность абсолютно ничтожна, где бытие тождественно ничто. Но по Марксу деятельность — это орудийно-предметная деятельность, то есть нужно найти такую точку в развитии исторического человека, где орудия тотально нет, и одновременно оно есть. Но возможно ли такое абсолютно пустое орудие — «орудие-невидимка»? В реальном мире таких орудий нет, поскольку все тела природы протяженны. Вот и получается, что началом человеческой истории является момент, когда первый человек научился создавать «пустые» орудия — слова, обозначающие предметы деятельности. Поэтому и ребенок, в процессе онтогенеза набирает сначала просто названия предметов, без всякого смысла. И это вовсе не противоречит Гегелю — другое дело — куда двигаться дальше? Как развить смысл из пустых названий предметов? Совершенствовать словесную сферу? Или предметную? Или их взаимодействие? Ведь действуя с реальным предметом под названием «ложка» (стул, cтол, мама, папа) ребенок постигает и смысл известных предметов, и качественно себя определяет. Но даже обретение меры действия с предметами, еще не дает малышу его личностного начала. Личность начинается с момента осознания себя как свободного существа, как человека, творящего себя в деятельности с предметами человеческой культуры. А для этого нужно осуществить рефлексию сотворенного тобой.
В своем движении самоопределения малыш должен снять причинность. То есть научиться быть зависимым только от самого себя. Мудрый родитель, и не читая Гегеля, может оказаться крайне внимательным к бесконечным «почему» своего ребенка, как и наоборот, профессиональный философ случается остается глух к любознательности маленького человечка, желающего знать, «почему трава зеленая». Но, тем не менее, Гегеля нужно знать, именно в целях дисциплины самого педагога, поскольку переход от причинности к безусловности — это ключевой момент движения личности. Ведь если здесь быть несобранным, невнимательным, не знающим логики движения малыша, то может статься, что все последующее наполнение знаниями души ребенка окажется сплошной профанацией, пародией на развитие личности.
Естественный ход личностного развития — это выход на позицию субстанции — в точку, где отождествляются бытие и сущность человека. Здесь же и начало личности — обретение абсолютного отношения, то есть такого состояния, когда в действии с любой вещью ребенок видит отношение к себе. Из непосредственности этого отношения вырастает понятие. Гегель такое начало называет «сверхчувственным, внутренним созерцанием» [9, с. 292]. Далее он поясняет. «Непосредственность чувственного созерцания многообразна и единична. Но познание есть понятийное мышление; поэтому его начало также имеется только в стихии мышления; оно нечто простое и всеобщее» [Там же]. В своем начальном внутреннем созерцании ребенок освобождается от единичности предметов — он созерцает в своем начале вовсе не их, хотя уже и имеет в этом начале возможность их понимания. Так что же созерцает малыш в точке рождения личности?
Точка начала филогенеза и точка рождения личности в процессе онтогенеза не совпадают. Исторический человек, как отмечалось выше, начинается с разделения реального и идеального моментов деятельности. Личность начинается со свободного созерцания бытия. Предбытие личности — это генезис понятия по Гегелю.
Личность начинается с деятельного вхождения в бытие. Вплоть до состояния рефлексии, и далее, до всестороннего выявления сущности и фиксации противоречия, разрешение которого полагает основание личности.
Но как перейти от бытия к рефлексии? Этот вопрос наиболее труден для понимания, поскольку, способ вхождения в бытие родителям и профессиональным педагогам как бы известен,— осваивай предметы человеческой культуры — ложку, стул, одежду, игрушки, молоток, гвозди, пластилин, бумагу, кисточку для рисования, краски,— можно список продолжать и продолжать,— но уже в вышеприведенных предметах есть различие по функциям, причем, как несущественное, так и кардинальное. Например, ложка, стул, одежда несут в себе специфику удовлетворения первейших потребностей; пластилин, кисточка, краски призваны развить фантазию ребенка; молоток и гвозди — дают возможность соединить развитое воображение с первичными навыками действия с материальными предметами и сотворить самостоятельно (в совместно-разделенной деятельности со взрослым) тот самый предмет первой необходимости, к примеру, табуретку, который малыш раньше просто потреблял. Так, где же здесь выход в рефлексию? Если малыш испек пироги вместе с бабушкой, а потом еще и блины пожарил — можем ли мы говорить, что рефлексия уже состоялась? Вкусные блины — хороший мальчик, вышел на основание личности, подгорели пирожки — еще не дорос, «слаб в коленках», трудись и достигнешь своего начала, дабы выйти на путь, c которого не свернуть… Ведь труд же создал человека, значит и надо научить ребенка действовать с наибольшим количеством предметов человеческой культуры, а местами и самому творить их. Воспитывать детей надо, а не размышлять, тем более о рефлексии…
Но если без иронии, разве сотворение вещи собственными руками не есть рефлексия? Ведь Простец Николая Кузанского тоже ложки cтругал в противовес философам-книжникам [10, c. 391–392]. Но можно и возразить — у Простеца до рукотворного творчества в его воображении уже была «ложкость». И он знал, откуда она приходит. Ребенок творит, что видит. Простец — видит Бога и творит. У Простеца в творчестве тождество понятия и реальности. У малыша — тождество представления и чувственной реальности, но не той, которая у Гегеля выведена из понятия, а лишь предлежащей, данной в ощущении, в категориях Гегеля тоже имеющей место быть, но именно там, где малыш и делает первые шаги в познании себя — в наличном бытии.
«Табуретность» малыша пока не есть «ложкость» Простеца. Герой диалогов Кузанского словно бы предвосхищает слова Гегеля: «Так как знание хочет познать истинное, познать, что такое бытие в себе и для себя, то оно не ограничивается непосредственным и его определениями, а проникает через него, исходя из предположения, что за этим бытием есть еще что-то иное, нежели само бытие, и что этот задний план составляет истину бытия». [11, с. 7]. Неосознанно малыш тоже проникает сквозь бытие, словно бы предчувствуя, что истина вещи не в ее непосредственности, и задает бесконечные «почему». Но даже если досконально отвечать ребенку на все «почему», то к понятию бога все равно его не приведешь. Бога как совокупности всех отрицаний, а не бога, как совокупности всех реальностей. «Если … брать реальность в ее определенности, то ввиду того что она содержит как нечто сущностное момент отрицательности, совокупность всех реальностей становится также совокупностью всех отрицаний, совокупностью всех противоречий» [2, c. 96–97].
Ребенку необходимо увидеть мир в целом. А для этого нужно совершить тотальное отрицание своей деятельности. Но как, в чем? Разломать все игрушки? Растоптать все пирожки? Сжечь все табуретки?
Все равно какая-нибудь игрушка останется неразломанной, а табуретка несожженной. А ребенку для сотворения своего начала нужно совершить тотальное отрицание.
Если внимательно читать Канта, то можно обнаружить, что и Кенигсбергский мыслитель идет по пути малыша. Ведь как сначала Кант предлагает увидеть пространство читателю «Критики чистого разума»? «Отбрасывайте постепенно от вашего эмпирического понятия тела все, что есть в нем эмпирического: цвет, твердость или мягкость, вес, непроница емость; тогда все же останется пространство, которое тело (теперь уже совершенно исчезнувшее) занимало и которое вы не можете отбросить» [12, с. 44]. Пространство здесь у Канта нечто пассивное, создаваемое деятельностью исследователя — некая пустота как результат деятельности. Но существует ли эта пустота в действительности? И в дальнейшем изложении Кант снимает это первичное изречение — пространство для него уже категория, чистое созерцание, условие опыта, единственная возможность опыта, не содержащая в себе ничего. Та самая категория, которую Гегель впоследствии определит как ничто. Ничто, которое может существовать лишь в переходе в бытие. Ничто как активное формообразующее начало. Кант подготавливает почву для такого гегелевского понимания — пространства в вещах самих по себе нет — эта категория проявляет себя лишь в деятельности исследователя, но при этом она уже первична, в отличие от первоначальной посылки. Ничто (пространство) переходя в бытие (деятельность созерцания) порождает наличное бытие явления.
Литература
Лобастов Г.В. Философско-психологические проблемы педагогики.— Менделеево, ФГУП «ВНИИФТРИ», 2014. 317 с.
Гегель Г.В.Ф. Наука логики.— СПб.: «Наука», 2002. 799 с.
Лобастов Г.В. В пространстве противоречий воспитания // Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (17)/2018. М.: МИЭТ, 2018. C. 48–161.
Шиян О.А. Диалектические структуры в репрезентации процессов развития у старших дошкольников // Материалы XVI Международных чтений памяти Л.С. Выготского: В 2 ч. Ч. 1.— М.: Левъ. С. 157–160.
Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа.— СПб.: Изд-во «Наука», 2002. 443 с.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 42.— М.: Политиздат, 1974. 514 с.
Лобастов Г.В. Предисловие // Философия Канта в критике современного разума. Сборник статей. М.: Русская панорама, 2010. 432 c.
Ленин В.И. Философские тетради.— М.: Политиздат, 1965. 752 с.
Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х т. Т.3.— М.: «Мысль», 1972. 371 с.
Кузанский Н. Сочинения в 2-х томах. Т.1.— М.: «Мысль», 1979. 488 с.
Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х т. Т.2.— М.: «Мысль», 1971. 248 с.
Кант И. Критика чистого разума.— М.: Эксмо, 2007. 458 с.
2.12. Федоров Н. Ю. Конкретный человек в интеграции гуманитарных наук
Диалектические категории —важнейший объект философских исследований Э. Ильенкова. Важное место в его работах занимают «абстрактное» и «конкретное» и вместе с ними — «единство» и «многообразие», «общее» и «единичное». Положения Г. Гегеля и К. Маркса—Ф. Энгельса Э. Ильенков развивает в понимании мышления и логики, человека и общества.
Трактовка диалектических категорий, проведенная Э. Ильенковым, позволяет продолжить путь развития обществознания в виде интеграции гуманитарных наук на основе сущности и многообразия человека. Автор настоящей статьи предлагает ввести в научный оборот категорию «конкретный человек» и представить ее в виде основания интеграции.
В статье рассмотрены три линии движения категорий, пересекающиеся между собой:
• дифференцированные абстракции, возникшие в процессе познания и практики, и их интеграция в конкретное, как это исследовал Э. Ильенков;
• дифференцированные человеческие качества и общественные отношения в виде отдельных — абстрактных — качеств и отношений и их интеграция в конкретном человеке и деятельных общественных отношениях;
• дифференцированные гуманитарные науки в виде отдельных — абстрактных — наук и их интеграция в конкретных гуманитарных науках о конкретном человеке и обществе.
Следуя марксовой трактовке конкретного как единства многообразного, Э. Ильенков раскрывает его в диалектической связи с категориями «единое» и «многое». «Конкретное, конкретность,— пишет он,— это прежде всего синоним объективной взаимосвязи всех необходимых сторон реального предмета, данного человеку в созерцании и представлении, их внутренне необходимой взаимообусловленности. Под «единством» тем самым понимается сложная совокупность различных форм существования предмета, неповторимое сочетание которых характерно только для данного, и не для какого-нибудь иного предмета». Человек осознает объективную конкретность как «единство многоразличных определений» — то есть как систему абстракций. Абстрактное, будучи противоположным конкретному, предстает в виде категории, обозначающей одностороннее знание [1, с. 3,4].
Абстракция образуется из чувственного сознания как человеческая форма отражения предмета, который включен «в процесс производства материальной жизни человеческого рода, функционирует в нем и составляет его объективное условие... Акт производства абстракций сознания первоначально непосредственно вплетен в процесс активно-практической деятельности с вещами внешнего мира. Человек вначале отвлекает от чувственно данных вещей именно такое «общее» в них, которое непосредственно важно с точки зрения непосредственных человеческих потребностей» [1]. И это общее становится абстракцией, выделенной из всего богатства чувственно представленных — чувственно конкретных — компонентов предмета. Конкретное же концентрирует в себе множество таких абстракций, раскрывая и показывая единый предмет в его качественном и количественном многообразии.
Сам человек, сама личность,— продолжает Э. Ильенков, следуя философским положениям К. Маркса и Ф. Энгельса,— воплощает в себе то или иное «общее», присущее множеству людей. «…Развиваясь внутри и посредством общества, индивид впервые приобретет те качества, которые относятся к его собственно человеческой природе, относятся к его «человеческой сущности”». Но единичная личность — в том виде, как она сложилась «в классово-антагонистическом разделении труда, превращает каждого индивида в крайне одностороннего человека, в «частичного» человека. Оно развивает в нем одни человеческие способности за счет того, что устраняет возможность развития других... Конкретная полнота человеческого развития осуществляется здесь именно за счет полноты (имеется ввиду: ущемления полноты — Н.Ф.) личностного, индивидуального развития, за счет того, что каждый индивид, взятый порознь, оказывается ущербным, односторонним, абстрактным человеком». Индивидуальный человек не содержит в себе конкретной полноты своей собственной «всеобщей сущности», а выражает ее «лишь более или менее односторонне, тем более односторонне, чем меньше общественной культуры он усвоил» [1].
Человек предстает здесь в виде своих отдельных однородных качеств, только как «предмет», ограниченный однородной группой каких-либо важных для данного случая фрагментов. Представленное отдельно друг от друга каждое из этих качеств проявляет человека абстрактно, и только чувственное восприятие некоторого множества таких проявлений позволяет увидеть человека в виде более или менее полной чувственной конкретности. Он абстрактен как личность, если из всех его качеств важна только его специфическая способность к труду, трудовые действия (функции) и трудовые отношения. Абстрактна любая его группа, ибо она вырастает из абстрактного качества, например, профессиональная группа, и абстрактна его организация, ибо она только производственная или только политическая, сосредоточенная только на профессионально-производственных или только на политических делах, действиях. В принципе абстрактным остается и все общество, ибо оно подчинено только политическим, только потребительским или только каким-либо другим целям, задачам — абстрактным, подавляющим собой все остальные возможные цели и процессы.
На таком предметном уровне человек выступает средством, а не целью и не основным элементом отношений, которые складываются между людьми. Его качества и отношения технологичны (как участника трудового процесса), биологичны (как органического существа), экономичны (как владельца товара и денег), информационны (как носителя информации) и т.п., они однозначно обусловлены каким-либо предметным содержанием. Это отношения не между людьми, а между «предметами», в которых человек подчинен объективным связям и условиям, и сам благодаря своим качествам остается лишь условием движения вещей, денег, информации и пр., его субъективность второстепенна и только включена в это движение, но не доминирует над ним.
Общественная практика, построенная на таком отчуждении человеческих качеств и отношений от живых людей — на отделении людей и вещей друг от друга и их противопоставлении,— такая практика порождает такое же познание, его каждый фрагмент отделен от другого и противоположен ему. Каков человек и общество, таковы и гуманитарии. Экономисты видят в людях производителей, собственников и потребителей товаров, денег и капитала, демографы — мужчин и женщин, поколение за поколением которых порождает население в его молодости и старости, в браках и разводах, в рождении, жизни и смерти. Психологи раскрывают внутренний мир личностей и групп людей в их внешнем поведении и взаимодействии с техникой и природой, раскрывают психологию людей в организациях и в рамках социальных институтов либо в стихийных формах человеческой жизни, психологию общностей и т.п. Юристы формализуют все это в правовых нормах обязанностей, правах и ответственности людей друг перед другом и перед государством. Специалисты по организации и управлению видят взаимодействие людей в принятии и исполнении решений, в движении управленческой информации, ее хранении, переработке и применении и т.п. Культурологи сосредотачивают свое внимание на духовных явлениях и процессах, освоив и реализуясь в которых, люди создают вещи и услуги, нормы и ценности, знания и информацию.
В итоге каждая гуманитарная наука видит человека и общественные формы его жизни лишь в своем аспекте, в виде отдельно взятой стороны, абстрактно. Сам человек и его общество в глазах каждой науки остается все той же абстракцией — ущербной, односторонней — только экономической, только демографической, и даже в культурологии — только культурной в ее определенной форме и пр. Человек и общество изучаются отдельными, порой весьма жестко отделенными друг от друга гуманитарными дисциплинами. Поэтому они представляют собой абстрактные дисциплинарные исследования.
Пожалуй, только историки и социологи рассматривают жизнь множества особенных людей относительно конкретно, в неизбежной взаимосвязи разноплановых самостоятельных абстрактных сторон, в разносторонне насыщенном времени и пространстве, где представлены личные и групповые, институциональные и организованные, стихийные и другие явления и события.
Вместе с тем, одной из важнейших современных тенденций развития знания является интеграция естественных, гуманитарных и технических наук [2] и вместе с ней — возникновение и расширение взаимосвязей гуманитарных наук в исследовании тех или иных общественных предметов. Специалисты различных профессий формируют многостороннее понимание каждого из них. Так, в решение задач развития и управления городом и жилищем к градостроителям и служащим аппарата управления подключились не только экономисты, но и социологи, психологи, экологи, дизайнеры и другие специалисты. Туризм исследуют экономисты и культурологи, психологи и логистики и др. Трудно найти гуманитарную науку, не изучающую труд. Группы отдельных специалистов формируют все более полное понимание так же и других общественных предметов — государства и армии, образования и здоровья, преступности и миграции и т.д., и т.п.
Каждая из наук, принимая в свое лоно предмет, изучаемый так же и другими науками, обогащает объекты и методы своих исследований, но тем не менее сохраняет собственное теоретико-методологическое содержание и методы и самостоятельно ведет исследование общих предметов. Человек же предстает здесь уже не просто как «предмет», а как «социопредмет», предметно-социальное явление, содержание которого заключается в связи и взаимообусловленности множества качеств, действий и отношений — деятельных отношений. Социальное содержание каждой личности и группы, организации и общности предстает, например, не только в профессиональной форме, но так же и демографической (профессионально-демографической — молодые программисты), образовательной (молодые программисты с высшим образованием), занятой в передовых отраслях промышленности (молодые программисты с высшим образованием — работники электронной промышленности) и т.д., и т.п. Нетрудно видеть, что моральные качества человека как родового деятеля неотрывно связаны с психологическими, образовательные — с возрастными, гражданские — с правовыми, как и с другими качествами, и т.д. Можно было бы построить многомерную матрицу взаимосвязи таких качеств, где каждое из них связано с множеством других, сохраняя, однако, собственное содержание и обогащая его за счет связи с другими качествами.
На таком предметно-социальном, или социопредметном, уровне каждое из качеств выступает достаточно самостоятельно и связано с другими в ограниченной степени для выполнения локальных действий и отношений. Это биосоциальные, социотехнические и т.п. системы, где отношения «человек — техника» и вообще «человек — вещь», «человек — природная среда», «человек — биологический организм» являются ведущими по отношению к связям «предмет-предмет», доминируя и над отношениями «человек-человек». Человек в своих качествах и отношениях перестает быть абстракцией, но вместе с тем подчиненность предметному началу еще не делает его конкретным.
«Конкретность» человеческого существования,— пишет Э.Ильенков,— конкретная «сущность человека» заключается «в совокупном процессе общественной жизни и в законах ее развития», это «общественные отношения человека к человеку и человека к природе. Всеобщая (общественно-конкретная) система взаимодействия людей и вещей и выступает по отношению к отдельному индивиду как его собственная, вне и независимо от него сложившаяся, человеческая действительность… Приобщаясь путем индивидуального образования к этой к своей собственной «конкретно-человеческой» сущности, индивид и становится человеком. Тем самым он индивидуально воспроизводит в себе эту сущность… и становится ее единичным воплощением, ее реальным конкретным осуществлением… В какой мере, однако, он ее сможет воплотить,— зависит… от характера всеобщего взаимодействия людей в обществе, от общественной формы разделения труда…» [1].
В основе роста конкретности человека и его деятельности лежит практическое сокращение роли классового разделения труда в устройстве общества, его постепенное, видимо, волнообразное преодоление в той антагонистической форме, в какой оно сложилось в прошедших веках. Возникшее информационное общество строится на общедоступности знания как всеобщего социально-экономического эквивалента и вместе с ним — на всеобщности культуры и ее отражения в информации. Не ликвидируя, но преобразуя качество и сокращая количество эксплуатации человека человеком и отчуждение, оно создает основания для постепенного, надо предполагать, столь же волнообразного сокращения абстрактности человека и общества, мышления и логики познания.
С растущей взаимосвязью исследований различного профессионального профиля происходит интеграция гуманитарных наук: образуя те или иные группы, они интегрируются в одну общую теорию, многосторонне исследуя тот или иной предмет на основании общих междисциплинарных, межпрофессиональных теоретико-методологических понятий и методов. Так, проблемам семьи и проблемам этносов посвящают свои работы философы и педагоги, историки и демографы и другие специалисты, сформировавшие феминистику — науку о семье, а в этнологию включившие психологические, социологические, экономические, политические и многие другие понятия, благодаря чему она стала комплексной наукой об этносах. Музеи выступают объектом специализированной дисциплины — музеологии [см., например, 3], признанной междисциплинарной наукой; ее основа — культурология — пересекается в своих понятиях и методах с историей и социологией, педагогикой (где выросла музейная педагогика) и информатикой (обеспечивающей развитие, например, виртуальных музеев). Из политического, юридического, географического, социологического и этнологического видения государственных границ складывается наука погранология [4]. К организационно-управленческим теориям науки об организациях подключились экономические, социологические, психологические и другие теории, сложившись в единую организационную науку [5]. В этих науках происходит взаимопроникновение различных отраслей гуманитарного знания. Каждое сложившееся знание сочетает предметы и методы образовавших его наук, и благодаря такому сочетанию возникает множество новых предметов и средств их исследования.
Углубляющаяся интеграция наук получила название трансдисциплинарности: резко пересекаются границы отдельных дисциплин, познавательные схемы переносятся из одной науки в другую, каждая аккумулирует в себе методы другой и в обогащенном виде передает их третьим [см.: 6]. Эта принципиальная стратегия исследования, без которой предмет в полной мере не может быть представлен. В ней образуется некое единство знания за пределами каждой из отдельных наук, каждой из отдельных дисциплин.
Интеграция гуманитарных наук соответствует логике конкретности человека и общества, сущности и многообразия человеческих качеств в его деятельных отношениях. «"Конкретность» означает… всеобщую объективную взаимосвязь, взаимообусловленность массы единичных явлений, «единство в многообразии"…» [1]. Интеграция предполагает единое содержание целей и методов исследования специалистов различного профессионального профиля, совместимость разнообразного специализированного понятийного аппарата изучения человека и личности, групп и институтов, организаций и общностей, самого общества как множества социальных качеств людей и деятельных отношений между ними в социальном пространстве и времени. В интегрированных гуманитарных науках складывается понимание конкретного человека — не предметного и не социопредметного, а социального деятеля, существо которого заключается в следующем.
Человек есть его, прежде всего, социальное качество — определенность создателя культуры и общества, субъектность, которая отделяет человека от природы и вместе с тем наследует у нее всеобщий закономерный и объективный характер общественной жизни [7]. Социальный уровень, опирающийся на свои предметные носители — автономные человеческие абстракции, является ведущим по отношению к предметному и социопредметному уровням, в том числе биологическому и биосоциальному. Именно эту позицию отстаивает Э.Ильенков.
Единство качественной социальной определенности человека раскрывается через бесконечное множество частных столь же социальных качеств. В каждом из них концентрируются все другие качества человека, его сущностные силы. Включенные друг в друга, они представляют собой основания для целенаправленных и осмысленных действий, столь же многообразных, как и качества, и объединенных в единство конкретной человеческой деятельности. В действиях складываются отношения между людьми, столь же разнообразные и взаимосвязанные между собой, как и качества, единство которых образует столь же конкретное общество в той или иной форме — общность, организация, институт и др. Социальные качества выступают и источником, и вместе с тем результатом деятельных отношений между людьми. В каждом действии определенного вида — трудовом, художественном, политическом, семейном и пр.,— человек вкладывает всю совокупность своих сил, своих качеств, и насколько они причастны культуре, настолько богаты или бедны его деятельные отношения, настолько человек конкретен. В конкретности заключается сущность человека во всей полноте ее проявлений, и эта конкретность ложится в основу интеграции гуманитарных наук. В категории «конкретный человек» выражено единство и вместе с тем бесконечное многообразие социальных качеств и отношений, присущих человеку как родовому деятелю в многогранности его культуры и общественной жизни.
Интеграция гуманитарных наук ведет к конкретному пониманию человека и его общества во всех возможных проявлениях. Конкретный человек — это реальное общественное основание и вместе с тем конечный предмет трансдисциплинарного исследования, который заключается в единстве бесконечных и многообразных социальных качеств и деятельных отношений. Именно трансдисциплинарные исследования позволяют осмыслить единство и многообразие человеческой жизни в деятельных отношениях «человек — человек» посредством качеств, которыми он обладает, посредством вещей, информации, денег, институтов и всего того, что он сам создает и осваивает. Именно в этих исследованиях складывается единая гуманитарная наука, основанная на конкретности человека и личности, группы и организации, общностей и общества как такового. Трансдисциплинарность дает возможность изучать любой общественный предмет как единое целое, как единство его абстрактных частей, как конкретный предмет, за каждым из которых стоят люди — конкретные субъекты, создающие и использующие этот предмет в тех или иных объективных условиях. Предмет трансдисциплинарных исследований является человекоразмерным, он включен в стратегию внутреннего единства культуры, как и сам человек, как и сами гуманитарные науки.
Литература
Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении — Интернет ресурс https://www.litmir.me/bd/?b=120961, Дата обращения 15.04.2019
Московченко А.Д. Философия автотрофной цивилизации / Проблемы интеграции естественных, гуманитарных и технических наук: учебное пособие.— Томск: Издательство Томского гос. университета систем управления и радиоэлектроники, 2017.— 286 с.
Томилов Н.А. Музеология как отрасль знаний: избранные лекции для студентов высших учебных заведений / Н. А. Томилов; отв. ред. В.Г.Рыженко.— Омск: Издат. дом «Наука», 2012.— 100 с.
Молчановский В.Ф. Погранология как научная дисциплина.— М., 1995.
Мильнер Б.3. Теория организации: Учебник.— 2-е изд., перераб. и доп.— М:.ИНФРА-М, 2000.— 480с.
Трансдисциплинарность в философии и науке: подходы, проблемы, перспективы // под ред В.Бажанова, РВ.Штольца.— И.: Навигатор, 2015 — 563 с.
Батищев Г.С. Деятельностная сущность человека как философский принцип // Проблема человека в современной философии — М.: Издательство «Наука», 1969 — С. 73–188
2.13. Миловзорова М. Н., Щёголев Е. Н. Предпосылки формирования системного мышления молодёжи
Значительный пласт в научном наследии Э.В. Ильенкова составляют работы, посвященные формированию системного мышления молодежи [1,2]. Актуальность данной темы возрастает в условиях глобализации, которая на современном этапе представляет собой гибридную войну как необходимое средство обеспечения высокого уровня потребления для наднациональных элит и элит государств-носителей системы ценностей Запада (the West) за счет эксплуатации ресурсов традиционных и названных ими «неразвитыми» стран (the Rest). В этих условиях особые требования должны предъявляться, во-первых, к качественным параметрам системы образования и, во-вторых, к качеству информационного «питания» детей и молодёжи. В настоящее время эти два важнейших фактора представляют собой Сциллу и Харибду, между которыми человеку необходимо умудриться пройти для того, чтобы сохранить способность к системному мышлению. Системное мышление — такое мышление, при котором все смысловые единицы, которыми оперирует психика человека, взаимосвязаны друг с другом и взаимообусловлены. В краткосрочной перспективе существует необходимость государственного регулирования медиапространства, проявления политической воли, способной формировать адекватное полноценной здоровой (нравственной и физической) жизни граждан информационное поле, в котором появятся предпосылки для возникновения и развития системного мышления у нынешних и будущих граждан. Однако в долгосрочной перспективе ведущую роль в охране детей и молодёжи от вредоносного информационного «питания» играет институт семьи, поэтому защита института семьи является приоритетной стратегической задачей любого государства, претендующего на суверенитет и бескризисное развитие.
Основная проблема формирования «креативного класса» заключается, вероятно, в том, что сегодня цифра всё интенсивнее вытесняет живое слово, ограничивая возможности развития творческого потенциала человека, в результате чего происходит качественная трансформация интеллекта человека. В результате мы можем наблюдать массовые проявления клипового мышления (mosaic thinking, по Э.Тоффлеру), отрицающего системное мышление как таковое. В клиповых формах когнитивной сферы отражение свойств объектов происходит без связей между ними. Обладателей клипового мышления характеризует неспособность сохранять концентрацию внимания на длительное время, работать с семиотическими сложными структурами, следовательно, критический анализ у них практически отсутствует, существенные трудности они испытывают тогда, когда необходимо делать обобщения, формировать выводы, умозаключения, а также запоминать большие фрагменты информации. Память у них работает в краткосрочном режиме. Среди неутешительных последствий клипового мышления всё чаще констатируется медицинский диагноз — «цифровое слабоумие» (digital dementia).
Г. Маркузе верно диагностировал массовую «атрофию способности мышления схватывать противоречия и отыскивать альтернативы» [3, с. 103]. И такая дисфункция интеллекта результатом имеет рабство, поскольку всякое освобождение неотделимо от осознания рабского положения, а информационное воздействие как раз препятствует такому осознанию [3, с. 9]. А немногочисленные «элитные» кадры, пригодные к выполнению прорывной инновационной деятельности, сегодня отбирают, в частности, методом церебрального сортинга. Однако этот селекционный (можно даже сказать, евгенический) путь не способен решить существенную проблему кадрового голода и стратегическую задачу формирования «креативного класса». Здесь необходима система всеобщего доступного качественного образования, без деления на «элитное» и «массовое». Именно такая система образования, в исторической ретроспективе созданная в СССР, и была предпосылкой освоения космоса и многих других фундаментальных научных открытий и радикальных инноваций.
Литература
Ильенков Э.В. Учитесь мыслить смолоду. М.: Знание,1977. 64 с.
Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить! Заоч. семинар руководителей школ. М., 1964. 16 с.
Маркузе Г. Одномерный человек. Пер.с англ. М.: REFL-book, 1994. 368 с.
2.14. Мужчиль М. Д. Музыкальное образование как формирование пространства личности
Проблема пространства личности — одна из центральных в творчестве Э.В. Ильенкова. Методологическим основанием ее решения для него становятся проходящая через всю историю философии идея целостности, единства бытия и идея процессуальности духа, его творческого становления, выдвинутая Гегелем.
Согласно Э.В. Ильенкову, последовательно и бескомпромиссно отстаивающего диалектические позиции, пространство личности парадоксальным и совершенно непонятным для человека, не обладающего диалектическим мышлением, образом лежит вне пределов органического тела человека. Ученый убежден, что проблему личности никоим образом нельзя решить, сводя ее к проблеме исследования морфофизиологии мозга и нервной системы. Знание особенностей мозга человека никак не поможет раскрыть тайны его личности. «Ведь личность и мозг,— пишет Э.В. Ильенков,— это принципиально различные по своей «сущности» «вещи», хотя непосредственно, в их фактическом существовании, они связаны друг с другом столь же неразрывно, сколь неразрывно слиты в некое единство образ «Сикстинской мадонны» и те краски, которыми он написан на холсте Рафаэлем, троллейбус и те материалы, из которых он сделан на заводе» [1, с. 392].
Предоставляя изучение мозга физиологам, Э.В. Ильенков предлагает обратиться к исследованию «совсем иной системы фактов, совсем иной конкретности, иного единства в многообразии, нежели то единство, которое обозначается словом «мозг»» [1, с. 392].
Пространство личности, согласно Э.В. Ильенкову, существует внутри тела совсем другого порядка — внутри общественно-природной реальности, того целого, которому принадлежит индивид, частью, моментом которого он является. Пространство личности — это те социальные связи, в которые включен человек, то место в структуре целого, которое он занимает. При этом пространство личности — не статичная, заданная от природы характеристика, не отдельное от того, что называют внутренним миром человека — его души, чувств, мыслей и т.д., место, с которым он соотнесен внешним образом. Это характеристика процессуальная, принадлежащая человеку, находящемуся в процессе деятельностного становления. Лишь в процессе деятельности, осуществляемой совместно с другими людьми, человек может осмыслить и явить миру высоту поступка, глубину мысли, тонкость чувств, величие и масштаб деяния, стать вровень с бытием как целым и даже опережать его, открывая перед ним новые горизонты.
Именно о формировании такой — высокой, глубокой, тонкой, масштабной личности мечтал Э.В. Ильенков. Такой личностью был он сам. И при этом он отмечал, что это — не мечты о чем-то запредельном, осуществимом лишь для немногих, одаренных от природы индивидов.
Творчество, самосозидание, беспредельность становления — родовая характеристика человека. Для того, чтобы стать личностью, масштаб которой соотносим с масштабом целого, вовсе не нужно знать и уметь все то, что знает и умеет человечество в целом и каждый отдельный человек на Земле. Для того, чтобы взойти к вершинам человеческих завоеваний, вполне достаточно хорошо освоить всего лишь одну предметную область. Это становится возможным в силу целостности человеческого бытия, каждый момент которого вырастает из единых корней и является специфической проекцией целого, отражением его сущностных связей. Каждая отдельная предметная область может стать тем магическим кристаллом, через который виден целый мир. Как пишет Э.В. Ильенков: «Конечно же все делать лучше всех нельзя. Да и не нужно. Достаточно делать это на том — пусть и небольшом — участке общего (в смысле коллективно осуществляемого, совместного, социального) дела, который сам человек себе по зрелом размышлении выбрал, будучи подготовлен к ответственнейшему акту свободного выбора всесторонним образованием» [1, с. 414].
Каков же потенциал музыкально-образовательной деятельности для личностного становления человека? Идеи Э.В. Ильенкова для данной сферы имеют чрезвычайную важность, являясь методологическим ориентиром для ее адекватного осмысления и решения самых сердцевинных вопросов образования — становления человека как творца, субъекта, личности.
Исходя из понимания человека как творящейся, формирующейся реальности, а музыки — как фиксируемого в специфическом материале процесса его становления, следует признать, что целью музыкального обучения и воспитания должно стать вхождение индивида в человеческий мир, «обживание» его, создание новых «территорий» человеческого бытия — пространства общественных связей, реальных отношений человека к миру и людям, составляющих стержень его существования. Останется ли он на нижних этажах человеческого мира, взойдет ли к его духовным вершинам, осуществит ли прорыв к новым, неизведанным уровням человеческого бытия — вопросы первостепенной важности при осмыслении и организации музыкально-педагогического процесса.
Необходимо отдавать себе отчет в том, что ввести учащихся в мир музыкального искусства и ввести их в мир человека, смыслов его существования, представленный музыкальными звуками — это две совершенно различные задачи, и лишь во втором случае задача формулируется адекватным человеческой сущности образом.
Лишь во втором случае эстетическое воспитание станет осуществлением роста внутренней Вселенной вступающего в жизнь индивида, обретением им позиции глубинной, сущностной укорененности в мире. Освоение человеческого мира в процессе музыкальной деятельности предполагает, что богатство, глубина, тонкость и дифференцированность чувств, доступных человечеству в целом, должны стать богатством чувств по отношению к себе, людям, миру становящегося человека, составить реальное содержание его собственной жизни. Освоение означает также, что музыкальная деятельность в первую очередь должна стать контекстом постановки и решения жизненно важных для индивида проблем — проблем смысла существования, места человека в мире, ценностей, на основании которых осуществляется выбор жизненного пути и т.д.
Поскольку духовно-содержательные аспекты музыки, способы организации музыкального материала — касается ли это ладовых, гармонических, фактурных особенностей, особенностей формы и т.д., способы организации музыкальной деятельности — есть отражение различных способов существования человеческой реальности, то необходимо в процессе обучения не просто фиксировать налично, эмпирически данное — определять характер произведения, вычленять различные элементы музыкальной ткани, различные способы их связи между собой, группировать музыкальные явления по внешним, формальным признакам,— а обнаруживать их корни, их всеобщую порождающую основу, каковой является процесс общественной жизнедеятельности человека. То есть коренная проблема процесса обучения — формирование способности обучающегося в конкретном, особенном явлении видеть всеобщее содержание. Таким образом, обращение к имеющимся в наличии результатам музыкальной деятельности должно стать распредмечиванием содержаний человеческий жизни, оживлением и воссозданием тех общественных контекстов, которые породили тот или иной способ звукового воплощения.
Тогда музыка станет для человека зеркалом самого себя, своей истории и своего настоящего. Свой собственный образ будет вырисовываться тем полней и ярче, чем в более целостном и конкретном виде будет представлена картина выражающей себя в музыкальных звуках человеческой действительности.
Нельзя не согласиться с В.Медушевским, утверждающим: «Совершенный музыкант — это человек, который свободно читает историю человеческого духа по книге интонаций, воспринимает каждый стиль, жанр, каждое произведение, каждую клеточку произведения в контексте всей культуры, постигая одновременно и неповторимое своеобразие данного явления и его место в истории» [2, с. 55].
Смысложизненный стержень должен пронизывать и все изучаемые музыкантами предметы и темы, даже, казалось бы, связанные с сугубо технологическими вопросами строения музыкальной ткани. По поводу обращения, например к теме «Фактура» В.Медушевский пишет: «Студент вправе рассчитывать на то, что после добросовестного изучения этой темы ему станет более внятен язык фактурно-интонационных конфликтов и согласий, что откроется ему полифоничность души человека, сплетение противоречивых чувств и борение желаний с волей и что в результате его собственная игра или композиторская манера станут выразительнее, ярче, образнее» [2, с. 56].
Подобным образом осуществляемая музыкальная деятельность станет подлинно творческим процессом формирования человека, его духовного мира. Понимание же музыкально-образовательной деятельности как процесса формирования сугубо специальных, не связанных с личностными смыслами учащихся способностей, лежит в основе утраты интереса к высочайшим проявлениям человеческого духа и становится препятствием на пути освоения мира, воплощенного в музыкальных звуках.
Как справедливо замечают Перепелица А.Д. и Цепколенко К.С., музыкальная педагогика пришла к узкому гипертрофированному развитию специальных способностей в ущерб личностному развитию и потерпела фиаско [3, с. 298]. «Дело не в том,— пишут они,— чтобы научить ребенка повторять ту или иную мелодию, а в том, чтобы музыка стала языком его воображения. Музыка это не составляющая из музыкальных представлений, звуковысотности, тембра и ритма, а целый мир видимый, слышимый, ощущаемый — преобразованный в звуки… Ни одна способность не развивается вне деятельности, но занятия какой-либо деятельностью невозможны вне личностного смысла. И ребенок скорее всего не может повторить какой-либо мотив не потому, что у него не развита та или иная специальная музыкальная способность, а просто потому, что он в этом не видит смысла для себя. Как только те или иные звуки станут для него значимыми, то есть окажутся связанными с миром его воображения, он будет стремиться к их воспроизведению» [3, с. 229].
Лишь в музыкальной деятельности, наполненной личностными смыслами, возможно формирование подлинно человеческого музыкального слуха, умение распознавать не только высоту и порядок музыкальных тонов, но и воспринимать музыку «глазами души (Б. Пастернак), чутко отзываться на подлинно человеческие культурные достижения в разноречивом и пестром музыкальном потоке.
В случае, если речь идет о массовом музыкальном обучении и воспитании, наиболее перспективным путем развития музыкальных способностей следует признать воссоздание хотя бы на модельном уровне жизненных контекстов, породивших то или иное музыкальное явление, в собственной деятельности учащихся. Музыкальное произведение необходимо представить не просто как эстетический феномен, подлежащий изучению, но как звуковой документ человеческого бытия, наполненный личностными и общественными смыслами.
Такое моделирование дает возможность пройти, повторить путь музыкального становления человечества в максимально возможной его конкретности и содержательности и пережить, прочувствовать мир таким образом, каким его переживали и чувствовали творцы исторического процесса. Моделирование общественной ситуации, музыкальным выражением которой стало конкретное произведение, позволит избежать произвола в его трактовке. Воссоздание контекста целого, конкретных моментов его существования, запечатленных в музыкальных звуках, дает возможность индивиду формировать подлинно универсальную чувственность, выражать в своем переживании всеобщие закономерности становления человека.
Кроме того, в процессе осуществления собственной деятельности, имеющей то же содержание, что лежит и в основе классических произведений, учащиеся должны будут ставить перед собой задачи большой общественной важности — крупных социальных преобразований, разрешения серьезных нравственных коллизий и т.д. То есть им самим придется разрешать проблемы, которые на разных этапах развития стояли перед человечеством. Тогда их эстетическая сфера будет формироваться как форма собственного переживания, отражения мира, причем в тех вариантах, которые соответствуют способам отражения, присущим подлинным субъектам, творцам, обладающим глубоким и масштабным личностным пространством, каковым являются создатели музыкальной классики.
Если же задачи формирования музыкального отражения, соответствующего субъектному уровню существования человека, перед учащимися не будут специально ставиться, то, скорее всего, глубины классической музыки останутся им чуждыми. Чуждыми не в силу того, что они не получили сведений об интонационном развитии, музыкальной драматургии, жанрах классической музыки, а в силу того, что ее содержание не стало содержанием их собственной жизнедеятельности, а ее смыслы закрытыми для них. Более притягательным для них станет мир мелких чувств и мелких проблем, представленный легкой, развлекательной музыкой, являющейся адекватным отражением мира духовно бедным и неразвитым индивидом. Ведь легкая музыка — это не просто область действия определенных жанров, форм, способов аранжировки, исполнительских манер и т.д., это выражение способа мироотношения человека, пребывающего на нижних этажах человеческой культуры.
Литература
Ильенков Э.В. Философия и культура.— М.: Политиздат, 1991.— 464 с.
Медушевский В. Углублять концепцию музыкальную образования //Советская музыка.— 1981.— № 9.— С.52–59.
Перепелица А.Д., Цепколенко К.С. Новый взгляд на проблему музыкального восприятия// Формирование эстетического отношения к искусству. В 6-ти т.т. т.1 / Ред. кол. И.А. Зязюн М.: АПН СССР, 1991.— С. 297–303.
Раздел III. Философия Э. В. Ильенкова в контексте мировоззренческих позиций
3.1. Гавриленков А. Ф. Э. В. Ильеноков как философ марксист (на примере анализа книги «Ленинская диалектика и метафизика позитивизма»)
По выражению В.М. Межуева Э.В. Ильенков «...последний...оригинальный мыслитель в истории марксистской философии на русской почве» [12, с. 150]. Э.В.Ильенков относился к числу тех советских марксистов, кто стремился донести теорию марксизма до современного ему советского общества, показать место и роль марксизма в жизни советского человека, соединить теорию марксизма с практикой социалистического строительства. В этом смысле Э.В.Ильенков являл собой образец представителя творческого марксизма [1, с. 20].
В центре его философских работ проблемы теории познания — логика и диалектика. Через объяснение последней автор приближал идеи диалектического материализма к современному обществу. Он пытался показать насколько идеи марксизма важны, современны и своевременны для советского общества. Философ выступает как последовательный марксист, человек стремившийся донести идеи марксизма до широкой советской общественности. Э.В. Ильенков является ярким представителем и популяризатором марксизма советской эпохи:»...популяризация и пропаганда современного научного мировоззрения, т. е. материализма, ставшего благодаря трудам Маркса, Энгельса и Ленина диалектическим и историческим,— прямой долг каждого марксиста, каждого коммуниста, а отнюдь не только философа» [2].
Партийно-государственная верхушка советского общества достаточно упрощенно понимала идеи Маркса и Ленина, марксизм как учение трактовался вульгарно. Наиболее ярко это получило отражение в советский период, когда во главе государства находился И.В. Сталин. Возможно ли назвать этот период временем строительства в СССР социализма? Можно ли назвать те идеи, которые воплощались в указанный период, творческой переработкой марксизма в ленинском его понимании?
Теория марксизма явно расходилась с практикой социалистического строительства. Это происходило не только в середине 20-х годов XX века, но и тем более в 60–70-е годы XX века. Сама марксистская теория стала меняться, когда происходило перерождение «марксистского историзма в социологизм» [11].
Э.В. Ильенков отмечал факт отхода от марксизма и стремился «вернуть» советское общество в нормам ленинского понимания реальности. Тем более, что подобная позиция была востребована в советском обществе и в практике социалистического строительства после развенчания культа личности И.В. Сталина на XX съезде КПСС в 1956 году.
Именно с подобными явлениями вел борьбу Э.В. Ильенков. В этом смысле Э. В. Ильенков — ортодоксальный марксист, сохранивший приверженность к букве и духу марксизма и пытавшийся донести до современников важность логики и диалектики марксизма.
Э. В. Ильенков обращается к творчеству В.И. Ленина, взгляды и представления которого о теории Маркса, а также о месте и роли марксизма в жизни общества считались эталонными для российских марксистов. Это наиболее заметно, когда философ анализирует позицию махизма.
Среди работ В.И.Ленина Э.В.Ильенковым в своей книге «Ленинская диалектика и метафизика позитивизма» были использованы — книга «Материализм и эмпириокритицизм», статьи «Марксизм и ревизионизм», «К вопросу о диалектике», «Удержат ли большевики государственную власть?», «А. Рей. «Современная философия», письма к А.М. Горькому и А.И. Любимову.
В.И. Ленин видел в позитивизме угрозу диалектическому материализму, поэтому не переставал обращаться под разным углом зрения к характеристике первого. В одних случаях это было необходимо тогда, когда возникал вопрос о философском понимании спора марксизма и позитивизма [4, 5, 6, 7, 10]. В другом случае вопрос о позитивизме возникал под политическим углом зрения, в условиях революции[8,9].
Одной из ключевых, знаковых, работ в марксизме начала XX века была работа В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», которая должна была положить конец спорам марксистов и эмпириокритицистов-позитивистов [4]. Казалось бы спор не выходил за философские рамки. Но спор этот был более глубокого характера. В.И. Ленин видел в позитивизме начала XX века не что иное как субъективный идеализм. Э.В. Ильенков подробно описывает спор В.И. Ленина и А. Богданова на страницах книги «Ленинская диалектика и метафизика позитивизма». Размышляя о споре большевика Ленина с большевиком Богдановым, он показывает противостояние марксизма-материализма и позитивизма, который воспринимается им самим (Ильенковым — А.Г.), вслед за В.И. Лениным, как субъективный идеализм. При этом заметим, что Ильенков опирается на идеи Г.В. Плеханова, которые совпадали в этом вопросе с идеями В.И. Ленина: «Он (Г.В. Плеханов — А.Г.) показывал читателю, что махизм вообще и его российская разновидность в частности, представленная, прежде всего, А. Богдановым и А. Луначарским, есть не что иное, как подновленная, терминологически переряженная архаическая философия, бывшая новинкой в начале XVIII века,— система взглядов епископа Джорджа Беркли и «скептика-вольнодумца» Давида Юма, этих классических представителей субъективного идеализма» [2].
Здесь же Ильенков выступает истинным последователем диалектического материализма. В вопросе постижения истины он остается последовательным марксистом, подробно разбирающим позиции махистов и марксистов по вопросу о методах познания объективной реальности [2, 3].
Философ досконально разбирает позицию махистов, использует различные позиции для утверждения диалектического материализма. Диалектизм Ильенкова свидетельствует о том, что он творчески подходил к защите марксизма в споре с махизмом, выступая при этом с позиции ортодоксального марксиста. Он умело использует и позицию В.И. Ленина, и, там, где возникает необходимость, позицию Г.В. Плеханова. Среди работ Г.В. Плеханова Э.В. Ильенков использовал работу «Против эмпириомонизма и богоискательства».
Одновременно Э.В. Ильенков показывает несостоятельность марксистской позиции Плеханова в борьбе с махизмом: «Современное естествознание», «логика мышления современных естествоиспытателей» — вот где был основной «плацдарм» русских позитивистов в их войне против материалистической диалектики. И пока они цеплялись за этот плацдарм, никакая «философская» аргументация на них не действовала. И как раз этого не поняли ни Плеханов, ни его ученики. Точнее, они не поняли важности этого обстоятельства, ибо самый факт не заметить было нельзя,— махисты сами во всех своих сочинениях шумно рекламировали свою философию как «философию современного естествознания», как философское обобщение его успехов и достижений» [2]. Здесь следует признать, что Ильенков неоднократно на страницах книги обращается к критике позиции Г.В. Плеханова [2].
Тем не менее, Э.В. Ильенков четко разграничивает позиции Г.В. Плеханова и остальных, упомянутых в книге социал-демократов. Философ основательно подошел к характеристике спора В.И. Ленина и А. Богданова. И здесь он в полной мере раскрылся как философ-марксист. Это можно проследить по тем работам К. Маркса и Ф. Энгельса, которые использовал Э.В. Ильенков в своей книге и на которые опирался, разъясняя позиции тех социал-демократов, которые отошли от марксизма. Среди них, такие программные для характеристики диалектического материализма произведения как «Экономическо-философские рукописи 1844 года», «Немецкая идеология», «Диалектика природы», «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» и другие.
Защищая идеи марксизма, Э.В. Ильенков использовал также работы российских социал-демократов (большевиков и меньшевиков) Я. Бермана («Диалектика в свете современной теории познания»), работы А. Богданова («Вера и наука», «Очерки всеобщей организационной науки»), авторов сборника «Очерки по философии марксизма: Философский сборник» (Я. Берман, П. Юшкевич, В. Базаров (Руднев), А. Богданов, И. Гельфонд, С. Суворов, А. Луначарский — А.Г.). Философ стремился показать несостоятельность и ошибочность позиции, принятой перечисленной выше группой социал-демократов.
Э.В. Ильенков выстраивает, таким образом, линию защиты марксизма, идей В.И. Ленина от получившего развитие в начале XX века позитивизма.
Подводя итог, вышеизложенному, отметим, что Э.В.Ильенков, при характеристике работы В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», выступил одновременно как творческий и ортодоксальный марксист, умело сочетавший букву и смысл марксизма с умением донести его основные идеи до современного ему советского общества, до социалистического строительства. В этом, как представляется автору, и проявлялась, в контексте вышеизложенного, оригинальность идей Э.В. Ильенкова. При этом сохранял свою приверженность диалектизму.
Литература
Бузгалин А. Из царства необходимости в царство свободы: творческий марксизм Э.В. Ильенкова и вызовы социализму в условиях «постиндустриального общества» // Э. Ильенков и социализм. Сборник научных статей по материалам Ильенковских Чтений — 2001. Под редакцией проф. С.Н. Мареева. М., 2002. С. 20–52.
Ильенков Э.В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма: (Размышления над книгой В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»).— М.: Политиздат, 1980.— 175 с.
Ильенков Э.В. Философия и культура.— М.: Политиздат, 1992.
Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм // Полное собрание сочинений. Издание пятое. Т. 17.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. С. 15–26.
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полное собрание сочинений. Издание пятое. Т. 18.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. С. 7–384.
Ленин В.И. К вопросу о диалектике // Полное собрание сочинений. Издание пятое. Т. 29.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1969. С. 316–322.
Ленин В.И. А.Рей. «Современная философия» // Полное собрание сочинений. Издание пятое. Т. 29.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1969. С. 475–525.
Ленин В.И. Удержат ли большевики власть? // Полное собрание сочинений. Издание пятое. Т. 34.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1981. С. 287–339.
Ленин В.И. Письма 1905- ноябрь 1910 // Полное собрание сочинений. Издание пятое. Т. 47.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1964. С. 141–145, 148, 155–156, 156–157, 194–202, 203–204.
Ленин В.И. Письма ноябрь 1910-июль 1914. // Полное собрание сочинений. Издание пятое. Т. 48.— М.: Государственное издательство политической литературы, 1964. С. 160–163.
Мареев С. Историзм и социологизм в общественной науке // Э. Ильенков и социализм. Сборник научных статей по материалам Ильенковских Чтений — 2001. Под редакцией проф. С.Н. Мареева. М., 2002. С. 7–19.
Межуев В.М. Маркс против марксизма. Статьи на непопулярную тему.— М.: Культурная революция, 2007.— 176 с.
3.2. Иллеш Е. Э. Собрание сочинений Э. В. Ильенкова[1]
В издательстве Канон+ при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 17–03–00160а) вышли первые два тома собрания сочинений Э.В. Ильенкова, третий том готовится к печати, четвертый будет сдан до конца 2019 год. Всего запланировано десять томов. Для заинтересованной аудитории сборника сообщим некоторые подробности.
Издание осуществляется под грифом Института философии РАН, института, в котором Эвальд Васильевич работал почти четверть века. Научная и человеческая атмосфера в Институте менялась в зависимости от исторических обстоятельств. В конце семидесятых годов прошлого века, в годы, которые теперь именуются годами застоя, руководство Института постаралось создать для Ильенкова невыносимую и унизительную обстановку. Известно, что его плановые работы не принимались к печати, сомнению подвергались самые важные для него научные работы и исследования. Так что наличие грифа Института философии на каждом томе собрания сочинений можно считать символическим возвращением Ильенкова в родной для него институт, с которым связаны не только годы травли и неприятия, но и времена отважной научной молодости.
Общее предисловие к изданию написано В.А. Лекторским, долгие годы работавшим с Эвальдом Васильевичем. Сведения о научной биографии, хронология жизни и творчества будут представлены в некоторых томах, автор — Е.Э. Иллеш. Научный редактор собрания — А.Д. Майданский.
В Собрание сочинений будут включены все издававшиеся при жизни и посмертно труды Ильенкова, а также не издававшиеся статьи, отзывы и письма, обнаруженные в домашнем архиве, в архивах Академии наук и МГУ.
По поводу известных книг и статей Ильенкова следует сказать, что в Собрании сочинений они будут не просто механически переизданы, но тщательно сверены с оригиналами и снабжены обстоятельным научным комментарием. Где это было возможно, убрана грубая редакторская правка, восстановлен авторский текст.
Современный книжный рынок имеет свои странности, среди которых отсутствие обычной нумерации томов на обложке и корешке тома. Издатели считают, что последние тома собраний продаются хуже, чем первые, поэтому лучше держать покупателя в неведении. Чтобы облегчить участь последнего, каждый том издания будет снабжен собственным названием, например: том первый — «Абстрактное и конкретное», том второй — «Категории», том третий — «Идеал», том четвертый — «Диалектическая логика», том пятый — «Диалектика идеального» и т.д. Есть еще и полиграфическая подсказка: на корешках томов заштрихованные ромбики заменяют цифровое обозначение номера.
В последние тома Собрания войдут не издававшиеся прежде работы молодого Ильенкова, а также письма и наброски, в том числе и те, которые были опубликованы исследовательской группой при работе над тремя книгами научной биографии Эвальда Васильевича.
Имеющий склонность к поэтическим преувеличениям, Александр Васильевич Суворов назвал выход первого тома «первой ступенькой к бессмертию». Скромнее и вернее будет назвать работу над Собранием сочинений восстановлением исторической и научной справедливости.
К сказанному можно добавить, что в Институте осенью 2019 года открывается музей истории отечественной философии, где Э.В. Ильенкову будет отведено достойное место.
3.3. Левко А. И. Э. В. Ильенков и реалии западноевропейской социальной философии и методология науки второй половины XX столетия
Для того чтобы адекватно оценить роль Э.В. Ильенкова в судьбе марксистско-ленинской советской и постсоветской социальной философии, социологии, культурологии и методологии науки необходимо хотя бы в какой-то мере воспроизвести ситуацию в мировой философии второй половины ХХ столетия. Именно это время жизни философа явилось временем методологического кризиса марксистско-ленинской философии и постепенного нарастания внутриполитического кризиса СССР и всей социалистической системы, основанной на этом учении. Начиная с Х1Х-ого столетия, в качестве важнейшей предпосылки консолидации и развития общества объявляется методология науки, благодаря которой она превращается в непосредственную производительную силу. Своеобразной кульминацией в развитии такого философско-методологического подхода явился марксизм-ленинизм, как основа научного коммунизма. Методология науки в данном случае как бы замещает и в известной мере вытесняет саму культуру, интегрирующую человека в общество с помощью его социализации и являющуюся своеобразным посредником между человеческой деятельностью и природными закономерностями. Диалектический метод, разработанный в мировой истории философии и в первую очередь в философии Гегеля, объявляется здесь не только основой познания, благодаря переходу от всеобщего к особенному и частному, но и основным методом природного и исторического развития. Из метода анализа форм знания самих по себе — безотносительно к реальности и объективным закономерностям ее развития — он стал методом наиболее полного и содержательного исследования этого развития, орудием не только теоретического познания, но и революционного преобразования действительности. Он получил название диалектического и исторического материализма, и стал основой философского и научного познания, методология которого. была провозглашена на всем социалистическом пространстве единственно верной и способной адекватно понять характер отношений между теорией и методом, а также роль практики в познании. Если теория представляет собой результат процесса познания, то методология объявляется здесь способом достижения и построения этого знания. Такая логика, по мнению, например, известного венгерского неомарксиста того времени Георга Лукача, противоречила основным положениям самого марксизма, изложенным К. Марксом в «Тезисах о Фейербахе» (1845). Она, во-первых, вела к абсолютизации логики индивидуального мышления и недооценке коммуникационного мышления или социальной логики и социальной традиции, а во-вторых, к исключению субъекта из процесса общественного развития. В противоположность наукообразной версии диалектики, представленной Энгельсом, Лукач разрабатывает свою собственную концепцию диалектики, апеллируя к гегелевской традиции единства субъекта и объекта. Примерно на этого же время приходится и расцвет методологии экзистенциализма и феноменологии в западноевропейской философии, с позиции которой растет и стремление гуманизации не только философии и науки, но и всего общества техногенной цивилизации сторонниками неокантианства и неомарксизма фрактфуртской школы. Все это вылилось в ожесточенную дискуссию относительной самой природы социальной реальности, в которой отчетливо проявились две доминирующие теоретические линии: индивидуалистская (феменологическая, экзистенциалистская, валюнтаристская (веберовская) конвенционалистская и позитивистская (дюргеймовская, структуралистская, функционалистская, бихивиаристская и др.) Согласно стремительно распространяющейся индивидуалистской позиции при анализе социальной реальности она начала трактоваться как результат целенаправленного или осмысленного человеческого поведения. Природа социальной реальности и до сих пор преимущественно раскрывается через личность и формы ее взаимодействия с внешней средой, что значительно усиливает позиции либеральной демократии и ослабляет социально-ориентированные подходы к государственному строительству. Однако, что представляет собой сама личность и откуда берутся смыслы ее жизни, с помощью которых она созидает саму себя и обеспечивает человекомерность общественного развития? Возникший вопрос является своеобразным вызовом своего времени и требовал незамедлительного на него ответа. И этот ответ был дан Э.В.Ильенковым в таких его работах как «Философия и культура», «Диалектическая логика», «С чего начинается личность?» Иное дело, что в этом ответе он вышел не только за рамки реалий советского пространства и времени, но и методологической культуры в целом. В философских исследованиях он, в частности, отмечал, что в соответствии с существующей европейской философской традицией, в основе которой лежит античная и христианская антропология, социально-культурная реальность есть своеобразная производная от физической и духовной реальности, адаптационной деятельности человека по отношению к ней. В соответствии с этой философской традицией человек предстает как «мера всех вещей», творец социально-культурной реальности, опосредованной экономической, политической и идеологической ситуацией в той или иной стране или мировом сообществе в целом. В действительности же, отмечал Э.В.Ильенков, сам человек и идеализации, которых он придерживается, являются продуктом социально-культурного развития. Диалектика этого развития не позволяет рассматривать общество и личность в отрыве от ценностей и норм того социального времени и пространства, той эпохи, в которой они живут. Слово, жесты, краски, как и используемое в материальном производстве вещество и энергия, а так, же создаваемые на их основе тексты, пантомимы, картины, машины, технологии и т.п. предстают не просто как факты практического выражения человеческой мысли или идеального проекта, а как результат социально-культурного развития самого общества. В этой связи возникает непростая проблема отношения к фактам как артефактам, то есть феноменам, которые существуют объективно и вместе с тем интерпретируются в духе ценностного взаимодействия между людьми. Само же это взаимодействие не исчерпывается ни адаптационно-творческим приспособлением к среде обитания, ни религиозным или другим поиском человека самого себя. Поэтому ни либерализация экономики и экономический рост, ни экономический базис общества сами по себе, а культура и культурное развитие, продуктами которого они являются, решают в социальном развитии все или почти все. В связи с этим сам по себе напрашивался вывод о том, что никакая методология науки, кроме диалектики, не может быть исчерпывающим посредником между человеком и природой. Ведь любой предмет культуры изначально является соединением духовного и материального, сплавом мысли (причем мысли, замысла не только того, кто этот предмет изначально впервые создает, но и того, кто хочет им пользоваться, для чего собственно и нужно, прочитать, понять, изначально является соединением расшифровать этот смысл) и физической конструкции предмета. Для того, чтобы расшифровать или раскодировать эти идеи отдельно взятый индивид должен быть включенным в эту реальность или социализироваться в ней, то есть наряду со своей врожденной физиолого-психологической природой заново обрести новую социально-культурную природу или способность пользоваться искусственно созданными человеком символами, их значениями и смыслами. Значения и смыслы, которые мы вкладываем в различные философские тексты, в том числе и в оценку философского наследия Э.В. Ильенкова, могут быть и всегда были, совершенно различными. Кто-то из этого наследия, идентифицируя себя с ним, выстраивал свою собственную логику философского исследования, а кто-то неустанно критиковал названные выше подходы и принципы их анализа, доказывая их несостоятельность. И этому удивляться не приходится. В рамках классической рациональности гуманитарное познание до сих пор сводится к постижению объективных фактов, рассматриваемых по выражению Э. Дюркгейма как вещь или по аналогии с материально-вещественной конструкцией, постигаемой на основе научного метода, ориентированного на постижение сущности того или иного явления.
3.4. Лимонченко В. В. Классика в неклассическое время: заметки о философии Эвальда Ильенкова
Поэтам свойственно находить такие формулировки, которые имеют характер нюансированного содержания и нерасторжимой цельности формы — классикой в неклассическое время назвала поэзию Осипа Мандельштама Ольга Седакова, при этом ссылаясь на Мераба Мамардашвили [7], однако изменяет его слова так, что они обретают выразительную точность афоризма и это дает возможность применять их для осмысления различных феноменов культуры. На первый, не очень обеспокоенный глубинной существенностью, взгляд выдвижение кого бы то ни было в разряд классики имеет ценностно-восхваляющий характер и отсюда споры о том, кто может считаться классиком, а кто нет. И многих возмутит сопоставление философии Эвальда Ильенкова с классикой. Хотя элементарное продумывание критериев классичности переводит этот вопрос из области ценности и почитания в пространство интеллектуального анализа. Амбивалентность классичности отметил Томас Стерн Элиот: «На языке классически-романтической полемики назвать произведение искусства ‘классическим’ значит или превознести его до небес, или, наоборот, смешать с грязью — смотря, к какой партии ты принадлежишь» [9, с. 241]. При том, что мысль М. К. Мамардашвили нельзя назвать партийно-зашоренной, однако логика движения его идей подводит к установлению некоторой ограниченности и неполноты, условности построений классики, которые необходимо преодолеть, хотя его мысль достаточно изощрена, чтобы устранять классику как отживший свое способ мысли. Тем не менее, в конце ХХ — начале ХХI века отношение к классике как безжизненному академизму практикуется многими — в таком случае эти многие с удовлетворением согласятся, что Ильенков — это отжившая свое классика. Ни восхваление, ни уничижение не входят в мои задачи, которые предопределены желанием смыслового рассмотрения.
Понятия, соотнесенные с понятием с «классика», имеют широкое распространение, более того — не раз предпринимался понятийно-смысловой анализ идейно-содержательного пространства, возникающего вокруг понятия «классика», для массового сознания наиболее тесно связанного с искусством, хотя оно употребляется в гораздо более широком контексте. В этом плане особенную значимость имеет статья 1972 года М. К. Мамардашвили, Э. Ю. Соловьёва, В. С. Швырёва «Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии» [6] и книга М. К. Мамардашвили «Классический и неклассический идеалы рациональности» (1984) [4]. Общепринятой бесспорностью стала классификация этапов развития научного знания — различение науки классической, неклассической и постнеклассической считается самоочевидным.
Следуя исторической последовательности, при осмыслении феномена классики видится обоснованным обратиться к статье 1850 года «Что такое классика?» литературоведа и критика Сент-Бёва, указанные им показатели классики вошли в идейный комплекс массового сознания: «это древний автор, которому давно уже платят дань восхищения и который является в своей области авторитетом, <…> писатель, с которым считаются» [8, с. 310–311]. Дальнейшая экспликация классики имеет выражено апологетический характер: «писатель, который обогатил дух человеческий, который и в самом деле внес нечто ценное в его сокровищницу» [8, с. 313], со ссылкой на Гете классическим называется здоровое, энергичное и свежее, а романтическим — больное [8, с. 317].
Отмеченные Сен-Бевом критерии древности, здоровья и авторитетности слишком зыбки, чтобы быть понятийными скрепами для установления классичности — наш опыт жизни в мире обыденной событийности свидетельствует против религиозно-церковного принципа «не истина от авторитета, но авторитет от истины». В обыденной событийности действует принцип «я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак», чувство самосохранения побуждает нас следовать принципам корпоративной толерантности. Указывая на несвободы советского времени, иронически-язвительно упоминают обязательные ссылки на материалы съездов партии, при этом не замечают, что, расцвечивая кошмары советского времени, также совершают политико-идеологический ритуал, выработанный на платформе либерализма и декоммунизации. Превратная изменчивость авторитета подчеркнута уже схоластом ХV века Аланом Лилльским: «У авторитета нос из воска, и его можно повернуть в любом смысле, а поэтому следует подкрепить его разумными доводами». Устойчивый авторитет характерен либо для фундаментальной теории, либо для периодов относительной стабильности, становящихся все более краткими — это формирует подозрительно-уничижительное отношение к авторитетам, канонам и классике. Интересное замечание принадлежит Сент-Беву: «Скажу больше: не рекомендуется слишком быстро, одним махом, оказываться в классиках перед современниками; тогда, того и гляди, не останешься классиком для потомков» [8, с. 320] — установка на властную авторитетность выдает утилитарный и сиюминутный интерес, за которым скрывается пренебрежение посмертной славой. Наиболее изысканной формой авторитетности предстает социальная ангажированность, избежать которой практически невозможно.
В ХХ столетии постановка вопроса о классичности становится еще более зыбкой, а отношение к классике обретает характер если не уничижительной бесцеремонности, то выразительной ироничности. Элиот вводит различение классика универсального, как Вергилий, и автора, который классичен по отношению к своему периоду [9, с. 242]. В смысловом комплексе классичности мы склонны подчеркивать то измерение, которое более точно следовало бы называть типическим, хотя именованием его классическим смысла не извращает: «В широком смысле классическое в искусстве — это все те практики, которые по прошествии определенной исторической дистанции воспринимаются как максимально адекватный художественный эквивалент своего времени, которые наиболее полно выразили дух своей эпохи, мироощущение современников» [1, с. 222]. В таком случае философский обыватель наших дней с радостью согласится, что творчество Ильенкова классически представляет обязательное доминирование марксизма в советское время, но время изменилось и классическим стал иной способ мышления. Сопоставляя идеи Ильенкова с классикой, я не акцентирую этот смысл, хотя это измерение классичности нельзя отвергнуть, принимает его и Элиот, но формулирует более изящно и точно: «<…> совершенна та классика, в которой угадывается дух всего народа и которая не может иначе проявиться в языке, как выразив этот дух полно и целостно» [9, с. 257]. Связывает Элиот такую классику со зрелостью, считая, что наиболее определенно и полно выражает смысл понятия классики слово «зрелость» [9, с. 262]. Элиот сближает понимание зрелости с совершенством, но в определенной мере «уходит от ответственности» — утверждает, что зрелость угадывается интуитивно, хотя можно слово «интуиция» взять в его соответствии со смыслами, указанными в его грамматическом строении, а не как синоним бессознательной неопределенности: зрелость опознается не нахождением «вне» предмета опознания, а при вхождении внутрь, что делает возможным судить о зрелости лишь тому, кто «живет» в предмете. Самарин, отмечая специфику отношения Хомякова к церкви, выявляет ее таким словесным оборотом: мы ходим в церковь, Хомяков же жил там. Элиот живет в поэзии и эксплицирует классичность в поэзии, находя ее образцовой в Вергилии, но качества, которые отличают классика на его взгляд, стоит отметить.
Итак, первое, что соответствует классике,— это «зрелость ума: она требует истории и осознания истории. Историчность же сознания у поэта может пробудиться полностью лишь в том случае, если в его сознании наряду с прошлым его родного народа живет еще и прошлое другой цивилизации — это нужно для того, чтобы видеть свое место в истории. Представление об истории хотя бы одного высокоразвитого народа другой цивилизации необходимо, как и знание истории народа, достаточно нам близкого, чтобы мы могли воспринять его влияние и усвоить его культуру. <…> Именно развитие одной литературы или цивилизации во взаимодействии с другой придает Вергилиевой этике своеобразную значительность» [9, с. 250–251]. От Вергилия он переходит к утверждению о значимости для европейской цивилизации латыни — поскольку поэзия и есть первичная жизнь языка, его как поэта интересует сам язык и классической литературой для него предстает литература латинская.
Переходя в пространство философии, легко замечается особенное положение гегелевской философии, представляющей собой средоточие немецкой философии, которую гораздо более привычно называть нам немецкой классической философией — в западноевропейской традиции это именование не принято, к ней прилагается характеристика «идеалистическая», но если идти по критериям зрелости, указанным Элиотом — зрелость ума, проявляющаяся в способности взаимодействовать с другими мирами мысли (сразу перевожу критерии в пространство философской культуры), то философия Гегеля как раз и придает немецкой философии классичность. И снисходительное отношение к гегелевской мысли, характерное для современности, можно прочитывать как свидетельство «неклассичности» ситуации нашей жизни. За этой снисходительностью стоит утрата воли к разуму, Мамардашвили говорит о «вытеснении интеллектуальности» [6, с. 62], современная ситуация не требует «вышколенности» мысли и «преуспевают, как правило, люди, обладающие архаичной психической конституцией. На самых верхних её этажах сплошь и рядом оказываются лица, добившиеся успеха именно в силу неспособности понимать некоторые (и прежде всего нравственно-психологические) проблемы, в силу отсутствия у них нормальной впечатлительности и воображения, морально удостоверенных желаний и того, что можно назвать логической, концептуальной памятью» [6, с. 64].
Бесстрашно-последовательное признание доминанты разума, характерное для мыслительных установок Ильенкова, не вписывается в привычные для нас обстоятельства — это пространство Ольга Седакова и называет «неклассическое время», отмечая в качестве определяющих характеристик не крайнее беззаконие, варварскую жестокость и всеобщее одурение — новизна его «в самой мысли о человеке», отменяющей классическую систему этики [7]. «Классика в этом окружении невидима и ненавистна» [7]. О. Седакова говорит о «новом человеке», воспитанном «при помощи всех лагерей, расстрелов и других мер воздействия (в частности, принудительным невежеством относительно классики и отрицательным отбором населения, когда явная одаренность была почти государственным преступлением)» [7], однако отмена классической системы этики характерна не только для постсоветского пространства — достаточно обратиться к искусству конца ХХ-начала ХХI века, чтобы увидеть это. Критико-негативистское отношение к своей родине в определенной мере честно — поскольку предстает аналитикой собственных оснований, хотя и в этом случае сохраняется опасность попасть в ситуацию, «в которой, не мысля точно, мы оказываемся жертвой чего-то другого, что играет за нашей спиной» [5]. Говоря о Ницше, Мамардашвили отмечает трагизм его мышления: «он нечетко выбирал словесные описания в своих работах — его описания нужно каждый раз поправлять, оговаривать, уточнять,— в свою очередь играл какую-то роль в идеологическом спектакле (выделено мной — В.Л.). Играть в нем роль не входило в намерения Ницше, но в то же время он мыслил не совершенно свободно, где-то страсть к форме его увлекала, к проповеди, к яркой фразе, и мысли Ницше играли роль в идеологических движениях» [5]. Эти слова могут быть отнесены и к таким большим художникам мысли и слова, как он сам и Ольга Седакова — роль в идеологическом спектакле поджидает каждого из нас и устранить ситуацию «неподлинного поведения» может лишь точное и свободное мышление, про нехватку которого постоянно твердит Мамардашвили, но именно такое точное и свободное мышление и было целью философских устремлений Ильенкова. Для него менее всего характерно «неподлинное поведение», которое отмечает Мамардашвили в качестве характернейшей черты современной эпохи — в ситуации, когда поиск истины перестает быть личностным актом да и вообще отменяется, свою жизнь Ильенков выстраивает по меркам классической культуры — в напряженном усилии нахождения соразмерности человека и мира. И если классическое время дает мысли основание для обоснования систематической целостности, завершенности и монистичности, покоящихся на глубоком чувстве естественной упорядоченности мироустройства, наличии в нём гармоний и порядков, доступных рациональному постижению, то Ильенкову для жизни выпало неуютное нежилое пространство, которое он обживает по меркам классики — в «повелительном причастии будущего», когда современность предстает устремленной к чаемому совершенству. Если устремленность классики к будущему Мамардашвили именует иронически прогрессисткой интеллигентской идеологией, когда: «весь ход истории выглядит как расписанный маршрут, по которому движется рота, одерживающая непрерывные победы, как движение мирового духа от меньшей свободы к большей, от меньшего осознания свободы к большему ее осознанию, т. е. последовательно и планомерно» [5], то Седакова установку Мандельштама на «то, что еще должно быть в будущем как-то возделано, обработано», его желание жить «в повелительном причастии будущего, в залоге страдательном — в долженствующем быть» [7] как раз и считает мужеством классики в неклассическое время.
Подчеркиваю еще раз: говоря о классичности, не следует видеть в этом ценностное суждение или образцовость, речь о представлении конкретно-особенного в логике всеобщего, благодаря чему конкретно-индивидуальное не «провисает» в своей эфемерной уникальности, но обретает основание для «спасения», т.е. целостной полноты и возможностей экспликации. То, что для энергетики мысли Ильенкова определяющую роль играет Гегель, увидеть легко — достаточно войти вовнутрь его мысли. То, что смысловой контекст понятия классичности выразительно свидетельствует о совершенстве, отрицать не приходится — словечко «класс!», работающее как междометие, относится именно к высказыванию совершенства. Но не следует упускать тот смысловой контекст, который указывает на классичность как дисциплину ума, вышколенность его, отточенность способности различать, и в этом нет равных философии Гегеля. Именно философия Гегеля предстает как пространство класса, в котором происходит возгонка ума от первоначального здравого смысла — ума, нетвердо стоящего на своих ногах и потому цепляющегося за факты и примеры, к спекулятивному разуму, обретшему способность видеть через преодоление своей привязанности к приватной точке места и времени, чем и обретается свобода и точность мышления. Говоря о классичности мысли, следует иметь в виду не достигнутое совершенство и образцовость, но установку на движение к истинным формам бытия — осмысление которых представлено в исследованиях Ильенкова идеала и идеальной формы вообще. «В исследовании последней он имеет несомненную заслугу в мировой философской мысли, и надо понять, сколь глубоко его анализ идеального связан с внутренним содержанием человеческого бытия. Идеальное внутренне определяет личностное развитие и его бытие, несмотря на то обстоятельство, что оно не есть нечто субстанциальное, а всего лишь форма воспроизведения в сознании реальной действительности. Эта идеальная форма, однако, определяется субстанциальным содержанием человеческой действительности, удерживает в себе истину и представляет ее, эту истину, в самосознании личности. Представляет в ее прочном существовании — в отличие от изменчивых форм наличного бытия, где без опоры на идеальные формы фальшь становится неотличимой от истины» [3]. В целом, доминирование в философских установках Ильенкова гегелевских истоков ни подтверждать ссылками, ни обосновывать развернутыми экспликациями нет особой нужды — это утверждение обладает самоочевидностью первичного тезиса, но в качестве четко фиксированного указания последовательная верность Ильенкова гегелевской мысли засвидетельствована пониманием и ролью мышления, значимость и значительность которого постоянно он отстаивает и подчеркивает. Здравый смысл упрямо сопротивляется признанию мышления субстанциальным основанием человеческой действительности и наивно пытается воссоздать полноту рядоположением различных способностей человека, среди которых мышление — лишь одна из них, но удержать это рядоположение не рассыпающимся в необъятную множественность и не урезанным до уродливой частичности и есть дело мышления, что совершает в нем идеальная форма, как точно отмечено — «без опоры на идеальные формы фальшь становится неотличимой от истины» [3], и поэтому — настоящая «школа должна учить мыслить». Современный мир перестал ориентироваться на мышление, свидетельствуя этим свое безразличие к истине, совсем не обязательной для выживания приватного частичного индивида. Итак, классичность философия обретает при прохождении школы гегелевской мысли: ильенковское «Гегеля читать надо» [2, с. 145] следует понимать как исходное основание точного и свободного мышления, что и является необходимым и достаточным основанием становления человеческого в человеке.
Литература
Кривцун О.А. Искусство классическое и искусство неклассическое. Вестник культурологии. Искусство. Искусствоведение. 2018. №1. С. 218–229.
Лобастов Г.В. На пути к Ильенкову. Эвальд Васильевич Ильенков в воспоминаниях. М., РГГУ, 2004. С. 136–164.
Лобастов Г.В. Э.В. Ильенков: философия и педагогика. Вопросы философии. 2015.№3.С.83–92. URL: http://vphil.ru/index2.php?option=com_content&task=vie w&id=1123&pop=1&page=0&Itemid=52
Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеал рациональности. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2010. 288 с.
Мамардашвили М. К. Очерк современной европейской философии. URL: http:// e-libra.su/read/381781-ocherk-sovremennoy-evropeyskoy-filosofii.html
Мамардашвили М.К., Соловьёв Э.Ю., Швырев В.С. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии. Философия в современном мире. Философия и наука. М.: Наука, 1972. С. 28–94.
Прощальные стихи Мандельштама. «Классика в неклассическое время» — беседа Ольги Седаковой. URL: http://www.pravmir.ru/proshhalnyie-stihi- mandelshtama-klassika-v-neklassicheskoe-vremya/#ixzz303z3MbCF
Сент-Бёв Ш. Что такое классик? Литературные портреты. Критические очерки. М.: Худ. лит., 1970. С. 310–325.
Элиот Томас Стернз. Что такое классик? Назначение поэзии. Статьи о литературе. Киев: AirLand, 1996. С. 241–260.
3.5. Нигметова А. Т., Кушербаева А. Б. Историческое место философских представлений Э. В. Ильенкова
В своих работах Э.В. Ильенков, исходя из глубокого понимания исторической роли в вопросах мышления творчества немецкого философа Г.Ф.Гегеля, которого он глубоко понимал и восхищался, подчеркивает, что конкретный историзм метода «восхождения» начинается с анализа исторического факта, который выражается в мышлений как «понятие». Именно, реальный исторический факт дает нам очень ценное научное наследие того, что диалектика или мышление всегда несет в себе, с необходимостью, глубокое исследование природы мышления и «понятия». А исследование мышления и «понятия», в свою очередь, может быть только исторической диалектикой, диалектикой мышления как человеческой истории. Поэтому, учитель учит нас тому, что для понимания природы мышления, и для понимания феномена мышления, а также и феномена культуры мышления необходима, хотя бы минимальная реальная история развития человеческой мысли и мышления. И, только тогда, мы вообще, имеем возможность говорить о диалектике. Только через «восхождение» как исторического «снятия», а не простой критики прошлой мысли и истории, и возможна культура мышления. Поэтому, мышление всегда выступает как диалектическое единство «исторического» и «логического».
Хотелось бы затронуть еще одну историческую тему, которая касается, вызвавшего широкий резонанс в советской философии, а точнее дискуссию о природе понятия «идеального», которую поднял, в свое время Э.В. Ильенков. Свою философскую линию Ильенков начинает с убеждения того, что предметом философии должно являться мышление. Именно, такое предназначение философии, считает он, и необходима для человека. Только, в таком предназначении, уверен Ильенков философия станет для нас реальной опорой в нашей мыслительной способности, и что очень важно в понимании природы мышления, культуры мышления. концепции Ильенкова — это порождение предметно-практической деятельности, а мышление с необходимостью соответствует объективной сути этой деятельности. Только через целесообразную человеческую предметно-практическую деятельность образуются «идеальные» структуры, без которой невозможно наше мышление.
Казахстанская школа диалектической логики восстановила историческое значение классической традиции в истории диалектики, связанной, прежде всего, с именами Платона, Канта, Гегеля, Фихте, Шеллинга, Маркса.
Наша казахстанская школа диалектической логики в творческом и научном сотрудничестве с выдающимся мыслителем Э.В Ильенковым создала убедительную картину аутентичного, конкретного и «живого марксизма», в противоположность выхолощенному и препарированному как сталинскими «диаматчиками», так и антимарксистами.
В Советском Союзе сложились группы единомышленников не только в стране, но и за рубежом. Так в Москве, Алма-Ате, Киеве, Ростове-на-Дону, Свердловске и других научных центрах страны, сложились многочисленные группы и школы сторонников, приверженцев диалектики и исторического подхода к марксизму.
Историческая ценность учения диалектической логики основана на глубоком теоретическом и научном анализе философской традиции Платона, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Маркса и др.
Таким образом, мышление-это всегда конкретное, историческое движение как духовное личностное усилие, логическое отрицание как нравственная негация, историческое «снятие» как критическое мышление и личностное усилие, с необходимостью направленные на преодоление реальной конкретной онтологической пропасти между объектом нашего познания как реального мира и субъектом познания — человеком, а значит между идеей и предметным миром.
Литература
Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания // www/akorda/kz/tvens/ru//
Абдильдин Ж.М. Познать свое я. //В кн:Абдильдин Ж.М. Время и культура. Размышления философа.— Алматы Алаш. 2003 — 488 с.
Лифшиц М. Памяти Э. Ильенкова /Э.В.Ильенков. и коммунистический идеал.— М., 1984.— С. 3–7.
Касымжанов А.Х., Кельбуганов А.Ж. О культуре мышления М.,1981
Абдильдин Ж.М. Кантовская трактовка идей как понятия разума //Абдильдин Ж.М. Сочинения в 5 т.— Алматы, 2001.— Т.4.— 404 с.
Мареев С. Встреча с философом Э.Ильенков. -М.,1984.-137с.
Мамардашвили М.К. Картезианские размышления.— М.: Издательская группа «Прогресс», «Культура», 1993.— 352 с.
Бэкхарст Д. О живом и мертвом в философии Э.В. Ильенкова //
3.6. Ойттинен Веса. Ильенков — «Меньшевиствующий идеализм»? Не совсем, но... Некоторые комментарии о гегельянстве Ильенкова
Ильенков — меньшевиствующий идеалист?
На заседании Ученого совета МГУ 25 марта 1955, во время обсуждения тезисов Ильенкова — Коровикова о предмете философии, декан философского факультета Василий Молодцов вынес вердикт, до боли напоминавший дискуссии начала 1930-х годов: «Деборинская школа, меньшевиствующие идеалисты, гегельянство» [3, с. 31].
Несколько дней спустя, 29 марта, Теодор Ойзерман охарактеризовал позицию Ильенкова и Коровикова как «рецидив меньшевиствующего идеализма» [3, с. 69]. Из протокола заседания явствует, что Ойзерман остался недоволен тем фактом, что к молодым философам, которых другой участник заседания назвал «философскими стилягами», не были применены дисциплинарные санкции. Это несколько озадачивает, ибо считалось, что Ильенков был протеже Ойзермана и именно благодаря ему был принят на работу в Институт философии в 1953 году.
Как бы то ни было, Ильенкову удалось выйти из сложившейся ситуации. Несмотря на ряд трудностей, он сумел опубликовать книгу «Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса» (1960), пусть и в сокращенном виде. Важную роль здесь, несомненно, сыграла начавшаяся десталинизация, которая предоставила гораздо большие, чем прежде, возможности для критических дискуссий и выступлений против авторитетов. Еще одним фактором стало то, что в 1955 году Тольятти опубликовал в «Вопросах философии» статью, в которой с одобрением процитировал тезис Энгельса о том, что в новую, пролетарскую эпоху от старой философии останется только «сфера чистой мысли», а именно, учение о законах мышления — логика и диалектика. Это была как раз та точка зрения «гносеолога», которую высказал Ильенков! Поддержка со стороны зарубежных марксистов, таких как Тольятти и Тодор Павлов, заставила фалангу партийных философов-догматиков вести себя осторожнее, и потому Ильенков смог продолжить карьеру в качестве академического философа, хоть ему и пришлось нелегко.
Деборин и философская кампания 1929/30
Давайте теперь обратимся к одному конкретному обвинению, которое было направлено против Ильенкова во время жарких дискуссий вокруг «Тезисов о философии», а именно, обвинение в том, что он представлял позицию «меньшевиствующего идеализма». В те дни этот термин (если можно назвать его «термином») больше уже почти не использовался. Он был придуман около 1930 года, весьма вероятно, по личному указанию Сталина, и был одним из ключевых ярлыков в философской кампании, которую начали молодые «икаписты» (студенты Института Красной профессуры, ИКП) Марк Митин, Павел Юдин и Василий Ральцевич. Главной мишенью кампании были Деборин и его ученики, собравшиеся вокруг журнала «Под знаменем марксизма». Их обвиняли в отрыве философии от практики социалистического строительства, в недостаточной бдительности по отношению к троцкизму и невнимании к попыткам протащить в марксизм идеалистический хлам. В статье было сформулировано требование «борьбы на два фронта»: против механистов и против «диалектиков» из деборинской группы. Последние были названы «меньшевиствующими идеалистами», поскольку у Деборина и многих его коллег было меньшевистское прошлое; сам Деборин никогда не пытался скрыть тот факт, что он был верным последователем Плеханова. Звучали два основных обвинения, выдвинутых икапистами в адрес как механистов, так и «меньшевиствующих идеалистов»: во-первых, те и другие оторвались в своей теоретической работе от реальной практики построения социализма в Советском Союзе, и, во-вторых, они не поняли, что Ленин поднял марксизм на новый уровень — что ленинизм был марксизмом эпохи империализма и социалистической революции. Эти обвинения повторялись десятки, если не сотни раз в разных вариациях.
Что до Деборина, то он обвинялся также и в том, что на его трактовку марксизма сильно повлиял Гегель. Деборин, можно сказать, принял за чистую монету изречение Маркса, что его диалектический метод не что иное, как метод Гегеля, перевернутый с ног на голову, то есть та же гегелевская диалектика, но только переосмысленная материалистически. В 1933 году Митин подвел итоги философской кампании, начатой в 1929/30, выступив с заключительной речью в Институте философии Коммунистической академии на научной сессии по случаю 50-летия со дня смерти Маркса. Окончательный вердикт Митина в отношении главного столпа меньшевиствующих идеалистов, Деборина, состоял в том, что тот «принимает Гегеля полностью, без какой-либо материалистической переработки». Это, по Митину, особенно ясно видно в области гносеологии, где Деборин защищал гегелевское тождество субъекта и объекта вместо материалистической теории отражения [5, с. 42–43].
Здесь возникает ряд вопросов. Оправдана или нет критика в адрес Деборина со стороны Митина и других «икапистов»? Является ли понятие «меньшевиствующего идеализма» — которое впоследствии станет пользоваться дурной славой среди советских философов, особенно у поколения «шестидесятников»,— всего-навсего сталинским ярлыком, лишенным какого-либо реального содержания? И, конечно, поскольку мы сейчас на ильенковской конференции, неизбежен вопрос: насколько близко Ильенков стоял к Деборину? В конце концов, оба они питали глубокую симпатию к Гегелю, и как Деборин боролся с механистами в 1920-х годах, точно так же Ильенков боролся с «позитивистами» и современными богдановцами в 60-х и 70-х. Действительно, мнение, будто Ильенков продолжает деборинскую традицию в советской философии, довольно широко распространено на Западе. Такие крупные исследователи истории советской философии, как Джеймс Скэнлан или Дэвид Бакхерст, предположили, что Ильенков в известном смысле «возродил» деборинскую школу 1920-х годов. Мне кажется, что эта интерпретация основывается, прежде всего, на том факте, что и деборинцы, и Ильенков были «гегельянцами». Фактически это, конечно, верно, но, с другой стороны, связь остается весьма поверхностной.
Лукач и Лифшиц против Деборина
Возможно ли отнестись к школе Деборина иначе? Похоже, Георг Лукач дает нам подсказку на этот счет. В своих мемуарах «Прожитые мысли» (Gelebtes Denken), опубликованных в 1981 году, он на удивление — и это особенно удивительно, если мы заранее поддержали мнение, что философская кампания 1929/30 годов была лишь ходом Сталина в игре за власть,— одобряет критику деборинцев, хотя Лукач, кажется, никогда не использовал термин «меньшевиствующий идеализм». Ссылаясь на свою работу в Институте Маркса-Энгельса в Москве в начале 30-х годов, он сказал:
«Представление, будто Сталин говорил лишь вещи неверные и антимарксистские, является предубеждением. Я упоминаю об этом в связи с тем, что в 1930 году, во время моего первого длительного пребывания в Советском Союзе, состоялась так называемая философская дискуссия, затеянная Сталиным против Деборина и его школы. Конечно, в этой дискуссии проявились многие сталинские черты более поздних времен, но, тем не менее, Сталин занял необычайно важную позицию, которая сыграла очень позитивную роль в моем развитии. Сталин напал на так называемую Плехановскую ортодоксию, которая была столь влиятельна в тогдашней России. Он выступил против того, чтобы Плеханова считали великим теоретиком. [...] Сталин же утверждал, что истинно марксистской была линия Маркса — Ленина, а по умолчанию и линия Сталина» [1, s. 140].
Осторожно-позитивную оценку Лукачем антидеборинской кампании поддерживает и Михаил Лифшиц, работавший в Институте Маркса — Энгельса одновременно с Лукачем. В большом интервью венгерскому марксисту Ласло Сиклаи, данном в 1974, Лифшиц говорит, что он приветствовал критику в адрес школы Деборина:
«Я относился к господствовавшей тогда философской школе Деборина вполне отрицательно, как и к другим идеологическим монополиям тех лет (школа Фриче, школа Переверзева). Никаких симпатий к марксизму деборинского типа я не питал и потому очень охотно поддержал критику его в 1931 году» [2, с. 46].
Объясняя свое поведение, Лифшиц отмечал, что считал Деборина посредственным мыслителем, который цеплялся за интерпретацию марксизма в духе II Интернационала и не понимал новых перспектив, открытых Октябрьской революцией и Лениным. Правда, несколькими страницами ниже Лифшиц становится чуть более сдержанным и признает, что «эта дискуссия стала возможной только благодаря вмешательству Сталина»:
Тем не менее, более молодое поколение людей, занимавшихся философией, вернее обучавшихся тогда в институтах Красной профессуры, активно поддерживало критику деборинской школы. Может быть, не всё в этой критике было логически и морально обосновано, много было в ней и невежества, и крикливости...
Однако, мы с Лукачем стояли на той позиции, что «ленинский этап», как тогда говорили, является громадной революцией в марксистской философской мысли, и я до сих пор ни в малейшей степени не изменил этого мнения [2, с. 51, 52].
Нам нет нужды принимать оценки Лукача и Лифшица за последнее слово по непростой проблеме судьбы деборинского направления и «меньшевиствующего идеализма», но они ясно показывают, что исследование этого драматического этапа советской философии способно пролить новый свет на то, что «на самом деле» произошло.
Ильенков на стороне Лукача и Лифшица
Сам Ильенков лишь весьма скупо комментировал Деборина, хотя наверняка знал о его работах 1920-х годов. В одной из своих философских тетрадей, датируемой 1954–55 годами, как раз когда шел спор вокруг «Тезисов о предмете философии», Ильенков явным образом дистанцировался от Деборина. В одном месте Ильенков пишет, что можно избежать «возврата к деборинской трактовке философии как чистой, абстрактно-рафинированной методологии», только поняв важность органической связи марксистской философии с революционной практической деятельностью [3, с. 189]. Это замечание вполне согласуется с критикой меньшевиствующего идеализма в кампании 1929/30 годов: Деборина заклеймили как абстрактного теоретика, оторванного от практических требований современности, и Ильенков думает о нем так же.
В другом месте этой тетради Ильенков дает более детальную оценку: «Деборинская школа абсолютизировала момент относительной нормативности общих закономерностей диалектики, и пыталась построить систему неизменных приемов теоретического мышления, оставаясь в кругу чисто спекулятивного их рассмотрения, вне всякой связи с исследованием живого теоретического предметного познания, вне связи с новой ступенью практики, и тем самым догматизировала общие принципы диалектического метода и практически старалась зафиксировать теоретическое мышление на той ступени его развития, которая была в общем характерна для эпохи Гегеля... Это, конечно, тенденция не только консервативная, но и реакционная...» [3, с. 199].
И здесь тоже Ильенков примечательным образом солидаризуется с критикой в адрес школы Деборина во времена философской кампании 1929/30!
Еще один пункт отличия Ильенкова от Деборина — это вопрос противостояния онтологии и гносеологии. Когда догматические партийные философы в дискуссии вокруг «Тезисов о предмете философии» обвинили Ильенкова в «гносеологизме», это обвинение противоречило утверждению, будто Ильенков — сторонник меньшевиствующего идеализма. По сути, у Деборина и его школы была онтологическая трактовка марксизма, а не гносеологическая, как (якобы) у Ильенкова.
Ирония в том, что хотя сам Деборин и пал уже в 1930-м в результате «философской кампании», молодые философы-сталинисты, свергнувшие верховного жреца советской философии, оказались не в состоянии выйти за рамки деборинской парадигмы. Как отмечает Сергей Мареев, для них также «философия оставалась „диаматом“, то есть учением о мировой материи в её „вечности, бесконечности и развитии“» [4, с. 38].
Ильенков подчеркивал важность возвращения к наследию немецкой классической философии, особенно Гегеля, и это было одним из факторов привлекательности его мысли в среде советской интеллигенции. Но решающим является тот факт, что Ильенков примкнул к позиции Гегеля по вопросу о противостоянии онтологии и гносеологии. Позиция эта была продиктована его интегральным стремлением превзойти Канта. В глазах Гегеля построенная Кантом дуалистическая философия была чревата неразрешимыми противоречиями — между феноменами и вещи в себе, чувственностью и рассудком, и так далее. Гегель желал добиться «примирения» (Versöhnung) этих противоположностей. Следовательно, даже противостояние онтологии и гносеологии, возникшее в результате коперниканского поворота Канта, должно быть преодолено и снято в более высокоуровневом тождестве их обеих. У Гегеля это тождество осуществляется в понятии Духа, которое является результатом процесса опосредствования субстанции и субъекта и в конечном итоге приводит к тождеству субъекта и объекта. Таким образом, онтология и гносеология низводятся до уровня подчиненных проекций в составе великой тотальности развивающегося Духа.
Конечно, Ильенков отвергал объективный идеализм Гегеля, однако его «гегельянская» позиция, в силу своей внутренней логики, привела к аналогичному решению. Для Ильенкова тоже различие онтологии и гносеологии должно стать снято — но не в тотальности Духа, как у Гегеля, а в человеческой культуре, являющейся продуктом человеческой деятельности. Ильенковская концепция идеального устанавливает, что идеальность существует не только «в голове», в сознающем субъекте, но в особенности и по преимуществу в формах материальной культуры, и что человеческое сознание возникает в результате интериоризации культуры. Таким образом, гегелевское тождество мышления и бытия осуществляется в процессе деятельности, или практики. Это — важный момент в философии Ильенкова, который отсуствует у Деборина.
Сам Ильенков в открытую не обсуждал вопрос противостояния онтологии и онтологии, но из его статей ясно, что он не считал верным кантовский взгляд. Для Ильенкова гносеология не имела примата над онтологией. Вернее, само разделение философии на онто- и гносеологию снимается в понятии материальной практики.
Стало быть, называть Ильенкова и его последователей «гносеологами», без всяких оговорок, ошибочно. Их фактическая позиция скорее напоминает гегелевскую: разделение на онтологию и гносеологию — этот досадный результат коперниканского поворота Канта — должно быть устранено посредством снятия в составе некоего высшего тождества. По иронии судьбы, бывший друг Ильенкова Генрих Батищев обвинил его в том, что он утопил, если не задушил индивидуальную человеческую субъективность в «социальной субстанции». Согласно Батищеву, Ильенков просто заменил спинозистскую субстанцию, задуманную как метафизическая идея бытия, на «общественное бытие», выполнявшее подобную же онтологическую функцию по отношению к субъекту.
Эта гегельянская позиция Ильенкова примерно такова же, что и у Лукача с Лифшицем. Все они гегельянцы в марксизме, но не на манер Деборина. Как мы уже видели, и Лукач, и Лифшиц отвергают простую операцию Деборина, по мнению которого марксистам нужно просто перевернуть Гегеля с головы на ноги, чтобы заполучить готовую к использованию систему материалистической диалектики. Для всех троих деятельность человека является посредствующей инстанцией, которая снимает деление на онтологию и гносеологию.
Литература
Georg Lukács. Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1981.
Беседы Мих. Лифшица с Л. Сиклаи // Лифшиц М. Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. М.: Искусство-XXI век, 2012. С. 237–263.
Ильенков и Коровиков. Страсти по тезисам о предмете философии (1954–1955). Авт.-сост. Е. Иллеш. М.: Канон+, 2016.
Мареев С.Н. Из истории советской философии: Лукач — Выготский — Ильенков. М.: Культурная революция, 2008.
Митин М.Б. Материалистическая диалектика — философия пролетариата (Заключительное слово) // Под знаменем марксизма. 1933. № 2. С. 10–49.
3.7. Пихорович В. Д. Философия Э. В. Ильенкова и современные философские течения в России
Эта строчка из списка проблем, предлагаемых к обсуждению на «Ильенковских чтениях-2019», показалась мне крайне неудачной сразу по нескольким причинам.
Первая лежит на поверхности: разве философия Э.В. Ильенкова имеет значение только для России? Конечно, чтобы ею не интересовались за пределами России, очень бы хотелось, например, украинским националистам, но, к счастью, это совсем не так: идейным наследием Э.В. Ильенкова на Украине очень даже живо интересуются. К примеру, фрагменты работ Ильенкова включены в самую популярную хрестоматию по философии[1]. Дважды (в 2006 и 2010 годах) в Киеве проводились Ильенковские чтения. В 2012 году была защищена диссертация, посвященная творчеству Ильенкова[2]. В 2016 году в Дрогобыче прошла конференция, посвященная одной из центральных проблем ильенковского наследия — проблеме идеального [3]. В 2016 году в издательстве УРСС вышел сборник молодых украинских авторов «Наш Ильенков. Учиться мыслить смолоду» [4]. Переведены на украинский язык книги Ильенкова [5]. Собран на одном сайте в удобном для работы виде знаменитый «Список Ильенкова» [6]. И не только в Украине интересуются наследием Ильенкова. Об этом свидетельствует хотя бы то, что его работы переведены на 16 языков мира [7].
Но это более или менее очевидная причина неудачности такого подхода, когда вопрос о влиянии философии Ильенкова на современное мышление искусственно ограничивается рамками России. Другой вопрос, каков характер этого интереса к философии Ильенкова — как в России, так и в Украине и в мире? Ведь вор, например, тоже интересуется тем, что плохо лежит. Поэтому есть и вторая причина, по которой формулировка «Философия Э.В. Ильенкова и современные философские течения в России» мне кажется не очень удачной. Она состоит в том, что, на мой взгляд, никаких современных философских течений в России не существует.
Разумеется, что этот тезис требует доказательств, поскольку к очевидным его отнести очень сложно. Ведь есть же Институт философии РАН, философия преподается в российских вузах, выпускаются специалисты, у которых в дипломах записана квалификация «философ», защищаются кандидатские и докторские диссертации по философии! Почему же не быть современным философским направлениям в России?!
Конечно, ответить на вопрос почему нет современных философских направлений в России, я лично не могу, поскольку это вопрос, скорее, к этим самым специалистам — почему они в массе своей не интересуются философией вообще, а если уж и приходится делать вид, что интересуются, то оказывается, что их интересует философия, очень далекая от современности.
Сначала я должен объяснить, откуда я взял, что философы в России в массе своей не интересуются философией. Специальных социологических исследований на эту тему, насколько мне известно, нет, поэтому я обратился к другому популярному социологическому методу — контент-анализу. Материалом для анализа послужила информация из сайта «Мое образование» https://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/filosofiya. htm, на котором дается описание специальности «Философия» и собрана полная информация о том, в каких именно вузах ее можно получить. Вот это самое описание: Будущая квалификация — Бакалавр по направлению подготовки «Философия». Будущие профессии — Журналист, логик, политолог, преподователь, редактор, специалист в области рекламы, специалист по связям с общественностью, специалист по управлению персоналом, философ.
Профессия «Философ» у выпускника российского вуза по специальности «Философия» стоит в этом списке на самом последнем месте, поскольку профессии перечислялись в алфавитном порядке. Но в каком бы порядке не был представлен список, «философ» — это только одна из десяти профессий, по которой может работать выпускник специальности философия Читатель, незнакомый с реалиями отечественной философии, может возразить, что там же есть еще профессия «Логик». Но специалисты понимают, что это слово точно не означает то, что оно означает в словосочетании «Наука логики». Все постсоветские логики по чисто советской традиции как раз очень гордятся тем, что они не какие-нибудь там философы, а «почти ученые»
Но если бы мы, пользуясь этой, несомненно, весьма подозрительной математикой, посчитали, что «удельный вес» философии на специальности «философия» составляет только 10%, то все равно ошиблись бы.
Перечень компетенций, которые может приобрести выпускник специальности «Философия» заставляет сократить этот «удельный вес» еще, как минимум, в 5 раз, поскольку в этом перечне философия хоть в каком-нибудь виде фигурирует всего два раза.
• Преподавать философские дисциплины в общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях.
• Реферировать научную литературу (в том числе на иностранном языке) и писать аннотации к ней.
• Готовить критический анализ философских текстов.
• Работать со служебными документами и вести деловую переписку.
• Заниматься планированием и организацией работы различных коллективов.
• Заниматься логическим анализом различного рода суждений.
• Организовывать и проводить дискуссии.
• Работать в академических и научно-исследовательских организациях.
• Работать в СМИ, музеях, библиотеках.
• Работать в аналитических центрах при органах государственной власти, бизнес-структурах, общественных фондах.
Из перечисленных компетенций, собственно, к философии имеет хоть какое-то отношение первая и третья строчки. Но поскольку третья строчка очевидно ничего не значит и написана «для красного словца», сосредоточимся на первой. Начнем с того, что на самом деле никакие «философские дисциплины» в общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях Российской Федерации не преподаются. Там преподается одна дисциплина — «обществознание», в состав которой, кроме философии входят политология, основы экономических знаний, социология. Очевидно, что для преподавания этой дисциплины маловато будет уметь «готовить критический анализ философских текстов». Получается, что и первую строчку организаторы философского образования в РФ записали, не подумав — на самом деле, не может человек, получивший такое философское образование, «преподавать философские дисциплины в общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях».
На этом основании я и сделал вывод о том, что в массе своей философы в современной России философией не интересуются. Притом настолько, что они даже не обещают абитуриентов ей научить, стыдливо пряча ее среди массы совершенно не относящихся к делу, но более популярных среди потенциальных «клиентов» профессий. А ведь ясно, что обещать что-то сделать и уметь это сделать — вещи разные. Притом, заметьте, что я предъявил самые минимальные требования к тому, что считать философией, предлагая считать философией все, что называется словом философия.
А попробуйте посчитать, какой процент специалистов-философов в России интересуется тем, что считал философией Э.В. Ильенков, который признавал только «ленинское понимание философии как особой науки (диалектика как логика и теория познания)» [8]? Ответ будет достаточно однозначный: в массе своей философы в современной России философией не интересуются.
Теперь разберем вопрос о том, к каким направлениям себя относят философы в современной России, если им все-таки приходится это делать. Для этого проведем «критический анализ философского текста» одной из статей Новой философской энциклопедии. Она вышла, правда, в 2010 году, но с того времени в российской философии вряд ли что-то радикально поменялось, особенно в лучшую сторону. Так вот, в этой энциклопедии есть статья об Ильенкове [9]. Согласно этой статье, «Э.В. Ильенков (вместе с А.А. Зиновьевым) во многом определил ту тематику, в рамках которой осуществлялись интенсивные поиски в советской философской литературе 60– 80-х гг. 20 в.». Сразу возникает вопрос: при чем здесь Зиновьев? Неужели Ильенков и Зиновьев были единомышленниками в области философии?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что «критический анализ философских текстов» — это не единственный метод работы философа. Можно, например, еще и сравнивать разные тексты. В предисловии к книге «Страсти по тезисам» В.А. Лекторский пишет следующее: «Помню, как выступали некоторые оппоненты и некоторые сторонники. Сторонников, тех, кто выступал в защиту тезисов, было, конечно, меньшинство, среди них был Александр Зиновьев. Потом пути Ильенкова и Зиновьева разошлись, но тогда их многое объединяло». На защите диссертации Зиновьева Ильенков выступал в его поддержку, хотя у них разные позиции были...».
Из этой цитаты мы узнаем, что Зиновьев выступал в защиту тезисов, и что Ильенков выступал в поддержку Зиновьева на защите его диссертации. А еще мы узнаем, что «потом пути их разошлись» и что во время защиты Зиновьева у них были разные позиции. Но если учесть, что защита диссертации Зиновьева состоялась в том же 1954 году, что и первая публичная дискуссия по тезисам Ильенкова и Коровикова, то выходит, что слово «потом» следует понимать как «всегда». Для полной ясности приведем точку зрения на этот вопрос самого А.А. Зиновьева, как он ее сформулировал год спустя после первой дискуссии по тезисам: «Зиновьев А.А.— Своё отношение к обсуждаемой теме я высказал год назад, когда эти тезисы разбирались на факультете. Я считаю тезисы неудачными и ошибочными. Их формулировка о том, что задача философии изучать не мир, а познание, неприемлема» [10].
Но, может, Лекторский и в энциклопедической статье неудачно выразился, и слово «вместе» означает «отдельно». То есть часть тематики, «в рамках которой осуществлялись интенсивные поиски в советской философской литературе 60– 80-х гг. 20 в.», определил Ильенков, а часть Зиновьев. Но тогда зачем упоминать о Зиновьеве в энциклопедической статье об Ильенкове? Да и какую, собственно, тематику поисков советской философии 60–80-х годов определил Зиновьев? Почему не назвать хотя бы одну определенную Зиновьевым то ли вместе с Ильенковым, то ли отдельно от него тему, по которой в советской философии велись «интенсивные поиски»? Позволим себе высказать предположение, что не было таких тем. Просто автору статьи об Ильенкове оказалось нечего сказать о его философии. Вот он и вписывает сюда все, что угодно и кого-угодно. А.А. Зиновьев оказался в этой статье далеко не самым неожиданным персонажем: в конце концов, они и в самом деле были знакомы и в чем-то там (хотя никак не в философской позиции) друг друга поддерживали. Дальше — больше: «Идеи Э.В. Ильенкова относительно диалектики абстрактного и конкретного, сформулированные в гегелевско-марксовской традиции, своеобразно предвосхитили разработку проблематики, которой западные специалисты по логике и методологии науки стали заниматься (в рамках традиции аналитической философии) полтора десятка лет спустя». Вот, оказывается, чем был ценен Ильенков для российской философии: он, видите ли, предвосхитил «разработку проблематики, которой западные специалисты по логике и методологии науки стали заниматься (в рамках традиции аналитической философии) полтора десятка лет спустя»!
Дальше еще хуже: «Его разработка проблем ядра теории соприкасается с лакатосовским методом научных исследовательских программ, а развивавшаяся Э.В.Ильенковым критика философского эмпиризма сопрягается с тем, что позднее стало обсуждаться как проблема теоретической нагруженности эмпирического факта».
Или вот такой пассаж: «В этой связи Э.В.Ильенков развивал идею о «тождестве бытия и мышления», имея в виду, что содержание мышления (и сознания вообще) характеризует не сознание, а саму реальную предметность. Эти идеи философа противоречили официальной трактовке «ленинской теории отражения», принятой в советской философии, за что он подвергался идеологической критике. В то же время можно обнаружить близость его идей к традиции «прямого реализма», влиятельной в философии 20 в.».
«Западные специалисты по логике и методологии науки», «лакатосовский метод», «традиция аналитической философии», традиция «прямого реализма» — вот философские направления, в рамки которых правдами и неправдами (больше, конечно, неправдами) старается В.А. Лекторский вписать философию Э.В. Ильенкова. И если Вы думаете, что он издевается над Ильенковым, выбрав именно направления позитивизма, борьбе с которым посвятил свою жизнь Ильенков, то, я думаю, Вы ошибаетесь. Делал он это из самых лучших побуждений, чтобы Ильенков выглядел более прилично, «по-моднему». А то, что попались позитивистские направления — это неудивительно. Ведь Ильенков и в самом деле рассматривал те же вопросы, что и позитивисты.
То же, что направление в философии определяется не кругом рассматриваемых вопросов, и тем более, не «самочуствием» философов, то есть не тем, к каким направлениям школам или школкам философы сами себя относят, а гносеологической позицией, с точки зрения которой все вопросы рассматриваются, для современных философов остается тайной за семью печатями. Не понимали этого в 50-е годы, когда прозвали Ильенкова «гносеологом», будучи уверенными, что он требует рассматривать только вопросы гносеологии и отказаться от всех прочих вопросов, не понимают и сейчас, что «гносеологизм» Ильенкова состоял исключительно в том, что он требовал от философов последовательного проведения диалектико-материалистической гносеологической позиции абсолютно во всех вопросах, а вовсе не отказа от их рассмотрения.
В своем Письме в ЦК о положении с философией [8] Ильенков писал: «Положение это — чувствую себя не только вправе, но и обязанным сказать — очень плохо, если не трагично. Если мерить, разумеется, не отдельными успехами и недостатками, а той ролью, которую философия обязана играть в коммунистическом преобразовании мира. Практически все ее влияние на события, на развитие общественных наук и естествознания приближается к нулю». Как видите, Ильенков требует от философов влияния на все события, на развитие общественных наук и естествознания. И считает трагедией то, что это влияние «приближается к нолю». Особенно тревожила Ильенкова ситуация в политической экономии: «Но самое грустное, пожалуй, это то обстоятельство, что подлинная материалистическая диалектика улетучилась и продолжает улетучиваться из политической экономии. Вот это уже совсем трагично... От политэкономии зависит если не все, то все же главное, ключевое».
Сегодня не очень важно, было отправлено это письмо адресату или нет. Важно то, что тогда тоже все думали, что все как-то само собой уладится, никому в голову не приходило, что трагедия, которую предчувствовал Ильенков, возможна. Но она состоялась. Боюсь, что Ильенков прав не только в том, что предчувствовал трагедию, но и в том, что причиной ее не в последнюю очередь стала профессиональная беззаботность философов.
Так и сегодня — все уверены, что от философии ничего не зависит, что никакой политэкономии вообще не нужно, что рынок все порешает, что ученые что-нибудь придумают такое, после чего все проблемы исчезнут сами собой — роботов, нано-, биотехнологии, междисциплинарный подход, искусственный интеллект. Каких только панацей не понапридумывали философы в последние годы, только бы не думать самим над теми проблемами, которые только философия и может решать — как вооружить человечество таким способом мышления, который бы позволил выдерживать напряжение все нарастающих противоречий общественного развития и избежать повторения во всемирном масштабе той катастрофы, которую потерпел СССР!
Боюсь, что это единственная проблема, о которой не думают и над которой не работают философы. Но строчка из Информационного письма, вынесенная в название статьи, вызвала необходимость разобрать ее еще и потому, что все перечисленное не есть специфическая проблема России. Ситуация в академической или вузовской официальной философии на Украине практически ничем не отличается. В Беларуси она, похоже,— еще хуже. Видно, там философы уверены, что за них «бацька» будет думать. О том, существует ли сегодня какая-то философия в Грузии с Азербайджаном, в Казахстане, Таджикистане, Прибалтике, Армении или в Туркменистане, у меня, к сожалению, никаких сведений нет, но есть подозрения, что проблемы там очень похожие.
Если кому-то из профессиональных философов кажется, что я преувеличиваю, то я предлагаю им вспомнить, кто из их сегодняшних коллег на кафедрах интересуется философией (и кто из них хоть что-нибудь понимает в философии Ильенкова?). Если этого Вам покажется мало, вспомните, кто из ваших бывших сокурсников интересуется философией?
Не интересует их философия. В лучшем случае — защитить диссертацию, получить должностишку. Для того, чтобы написать диссертацию, нужно не философией интересоваться, а «держать нос по ветру», то есть следить за тем, чтобы текст был «диссертабельным». Но если я скажу, что в современной России или Украине нет никаких философских направлений, а есть только попытки следовать за очередной философской модой, я погрешу против истины. На самом деле, даже за модой здесь не следят. Здесь просто не догадываются, что на Западе то старьё, которое здесь считают самоновейшей модой, давно уже «не носят».
Одна моя коллега недавно побывала по какой-то программе в Париже, и была удивлена, что преподаватели на всех философских и социологических кафедрах Сорбонны, на которых она побывала, как она выразилась — «леваки». Конечно, коллеге было трудно отличить марксистов от постмодернистов. Единственное, что она поняла, что они шибко не любят капитализм и шибко уважают Маркса. Разумеется, что это не специфика Сорбонны, но у нас здесь все почему-то уверены, что они очень понравятся своим западным коллегам если будут ругать Маркса.
Собственно, если говорить о современных философских направлениях в России, то их не просто нет. Нет даже способности различать философские направления — даже откровенно полярные. Именно отсюда смешивание в одну кучу Ильенкова с Зиновьевым, Лакатосом и «новыми реалистами».
Единственное, что есть как в официальной философии России, так и на всем «постсоветском пространстве» — это какая-то совершенно дикая реакционность, стремление любыми способами дистанцироваться от современности. Отсюда тяга не только к любой чепухе, только бы она была придумана на Западе, но стремление к чему то, на первый взгляд, ровно противоположному — к русской религиозной философии, ко всему национальному, то есть патриархальному.
Получается, что в современной России, как и на всем постсоветском пространстве, есть одно философское направление, которое я бы назвал так — лишь бы не марксизм. Можно даже неомарксизм, критический марксизм, творческий марксизм, западный марксизм, какой угодно — лишь бы не марксизм.
И не нужно думать, что это исключительно результат политической конъюнктуры. Не без этого, конечно, но дело далеко не только в политической конъюнктуре. Это в первую очередь — результат профессионального невежества философов. Ситуация в общем мало отличается от той, которую описывал Ильенков во второй половине 1960-х годов:»...в той мере, в какой падает влияние материалистической диалектики, возрастает влияние других самых пестрых и многочисленных школ и концепций. В естествознании это — неопозитивизм,— т.е. очищенная от всякого философско-мировоззренческого аспекта, чисто инструменталистски толкуемая «логика» (математическая логика). Поскольку естественники все чаще совершают набеги на область гуманитарно-социальных проблем, то оперируют они при этом чаще всего терминами кибернетики («информация», «обратная связь», «эффективность», «оптимальность», etc.)… В гуманитарных науках чаще всего встречается другое, антропологически-экзистенциалистские построения. Отчасти их можно понять как известную реакцию на кибернетически-математическую агрессию, как попытки отстоять «несводимость» человека и всех связанных с ним понятий к естественнонаучному, математическому «описанию». К сожалению, эта тенденция выливается в оппозицию вообще к «рационализму» (ибо математическая логика претендует на монопольное представительство «научного рационализма»), сочетаясь с симпатиями к Соловьеву, к Бердяеву,— вплоть до самого откровенного слюнявого христианства...». Как Ильенков боролся за Спинозу и за Гегеля, за то, чтобы отстоять для будущего теоретическое наследие этих великих мыслителей, без овладения которым невозможно научиться выдерживать напряжение все нарастающих противоречий современной истории, так и сейчас идет борьба за Ильенкова. И борьбу эту нельзя назвать такой уж простой. Ведь далеко не всегда борцы с идейным наследием Ильенкова прямо и в общем-то бесхитростно «размазывают по асфальту» Ильенкова в пользу, например, Деборина [11]
или, не прикрываясь всякими там «дебориными», в пользу «себя любимого» [12, с. 3–8.] Гораздо чаще авторитет Ильенкова очень даже признают; но только для того, чтобы вдруг выяснилось, что Ильенков «предвосхитил» то, чем позже занимались позитивисты, что он «шестидесятник», «западный марксист», «серьезный философ русского Логоса». Да кто угодно — лишь бы не марксист, тот самый, который отстаивал «ленинское понимание философии как особой науки (диалектика как логика и теория познания)» как единственное спасение от надвигающейся трагедии.
Разумеется, что все то пишется вовсе не для констатации того, что с философским наследием Ильенкова и с состоянием философии в современной России и в мире все плохо. Это и так известно. Пишется это для того, чтобы обратить внимание на необходимость что-то менять в этом плохом положении дел. Это будет вполне в духе Ильенкова. Ведь при его жизни с философией тоже было все плохо. Но это не мешало ему вести вполне успешную борьбу за нее, хотя делать это приходилось едва ли не в одиночку. Борьба на поле философии — это как раз тот редкий случай борьбы, когда и «один в поле воин» (Специфика философии, конечно же, не в том, что это дело сугубо индивидуальное. Напротив, именно предельная всеобщность философского труда лучше, чем в любой иной сфере деятельности, показывает, что индивидуальное есть по своей природе всеобщее, и вопрос только в степени проявления всеобщего в индивидуальном.). И бывают периоды в истории, когда, если не найдется хотя бы один такой «воин», который может указать верное направление приложения усилий для миллионов, то проиграть могут все. Ибо «философия мстит за пренебрежительное отношение к ней» [13] отнюдь не только естествоиспытателям.
Литература
Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). [Електронний ресурс] / за ред. акад. НАН України Л. В. Губерського, уклад. Л. В. Губерський, А. О. При- ятельчук, І. В. Бойченко [та ін.].— Київ: Знання, 2012. https://westudents.com. ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html
Пономаренко В.В. Культурно-історична концепція особистості в творчості Е. В. Ільєнкова [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філос. наук: 09.00.05 — історія філософії / Пономаренко Віталій Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.— К., 2012.— 19 с.
Гуманізм, людина ідеальне. Матеріали Міжнародних людинознавчих філо- софських читань (постійнодіючий філософський семінар) (Дрогобич, жовтень 2016 року). http://ukros.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%B1%D0% BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%98%D0% 94%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3. pdf Наш 4.Ильенков. Учиться мыслить смолоду. Изд-во URSS, 2016.— 256 с.
См., например, http://sokrat.online/pages-view-63.html
Список работ для философского самообразования, продиктованный Э.В. Ильенковым студенту философского ф-та МГУ Н.Б. Шулевскому http://sokrat. online/index.php?name=content&op=view&id=5
См. http://caute.ru/ilyenkov/aln.html
https://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/filosofiya.html
О положении с философией [Письмо в ЦК партии]. http://caute.ru/ilyenkov/ texts/epis/ckp.html
Новая философская энциклопедия. Ильенков. https://iphlib.ru/library/collection/ newphilenc/document/HASH0171caee83531bef3efa0371
Протоколы и стенограммы заседаний сектора диалектического материализма и приложения Института философии АН СССР за 1955 год. Протокол № 6 от 7 апреля 1955.
Основной вопрос советской философии. http://lenincrew.com/soviet_philosophy/. Роман Голобиани. Приключения одной философской школы. http://lenincrew. com/the-adventures-of-one-philosophical-school/
Дубровский Д.И. Проблема идеального. Субъективная реальность. М. 2002. с. 3–8.
Энгельс Ф. Диалектика природы.— Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 520.
3.8. Рыбин В. А. Биомарксизм как учение о живых системах
Одна из основных заслуг Э.В. Ильенкова в сфере общественной мысли заключается в том, что в его творчестве решение задачи перехода от «предыстории» к «истории» впервые было поставлено в однозначное соответствие с универсализацией индивида. Развивая идею Маркса о необходимости воссоздавать в коммунистически устроенном социуме «универсальность индивида не в качестве мыслимой или воображаемой, а как универсальность его реальных и идеальных отношений» [1, с. 35] и конкретизируя положение Ленина о том, что «коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех богатств, которые выработало человечество» [2, с. 305], Ильенков, начиная уже с 60-х годов XX века, постоянно проводил ту мысль, что главная задача формирования общества коммунистического типа «это — задача превращения каждого индивида на Земле в высокоразвитого и универсального индивида» [3, с. 150--151]: «Либо индивидуум превращается в хозяина всей созданной человечеством культуры, либо он остается ее рабом, прикованным к тачке своей узкой профессии. Не решая такой задачи, люди не смогут решить и задачи организации разумного планирования и контроля над развитием производства, общества в целом. Это две стороны одной проблемы» [4, с. 181].
Ильенков прекрасно понимал основную антропологическую проблему созданного в Советском Союзе общества, именовавшегося социалистическим: «реальный социализм» унаследовал индустриальную систему воспроизводства, сформировавшуюся при капитализме, и для того, чтобы выйти за его пределы, он должен был бы не декларативно, а реально дополнять эту систему целенаправленной универсализацией индивида по всему спектру культуры, тем самым не ограничиваясь огосударствлением экономики и использованием доставшихся от прошлого образцов образования и воспитания, включая реликты традиционности, но создавая принципиально новые формы культивирования человеческой личности.
Однако был ли у самого Ильенкова в достаточной степени конкретизирован метод универсализации человека? — На протяжении всего своего творческого пути Ильенков напряженно трудился над выработкой конкретных способов универсализации личности современного человека, подходя к решению этой задачи с позиций не только чистой философии, но психологии и педагогики как непосредственно ориентированных на человека дисциплин. Тем не менее, создать функционально эффективную модель культивирования индивида по всему спектру культуры и внедрить ее в практику до момента крушения советского проекта ни самому Ильенкову, ни каким-либо иным работавшим в том же направлении деятелям так и не удалось. А после распада Советского Союза это стало объективно невозможным.
Попробуем разобраться в причинах неуспеха всех усилий по выработке операционально эффективной модели универсализации.
Чтобы выработать способы формирования индивида в качестве универсального субъекта культуры, для начала надо как минимум отмоделировать культуру как целостность, то есть представить ее как единый, но способный охватить все ее содержание концепт — выразить в сжатой, пригодной для трансляции теоретической форме. Подобный концепт, как пишет сам Ильенков, невозможно получить на позитивистский манер, то есть как «совокупность «наиболее общих обобщений», делаемых задним числом» [5, с. 361]. Ильенков пытался создавать его, опираясь на гегелевскую методологию — диалектику абстрактного и конкретного. Но возникающая при этом трудность состояла в том, что сама воплощающая движение от абстрактного к конкретному система Гегеля была ориентирована на науку как единственную в его эпоху форму знания, свободного от метафизических включений, и потому за сеткой диалектических категорий на самом деле, по выражению Маркса, скрывался присущий этой системе «некритический позитивизм» [6, с. 157]. В той «диаматовской» версии марксизма, каковая, в основном под влиянием Энгельса, возобладала в Советском Союзе, главным философским грехом рассматривался идеализм, тогда как близость Гегеля к позитивизму осознавалась слабо; считалось, что для превращения Гегеля в Маркса достаточно поставить гегелевскую систему «с головы на ноги», то есть избавиться от присущего ей «идеализма» посредством переноса источника всеобщего развития из области духа в область материи. Но при подобной модификации в материалистической диалектике (верность которой Ильенков неизменно стремился сохранять) фатально воспроизводились и все основные установки гегелевской философии, в которой не сам человек, а отчужденная от него и представленная в виде Духа культура выступает источником развития.
Таким образом, есть основания сделать вывод: именно ориентация на гегелевскую методологию и стала главной причиной, которая не позволила Ильенкову полностью реализовать потенциал философии Маркса и конкретизировать основания универсализации человека.
Что надо делать в нынешних, текущих условиях? — Необходима новая форма философии, каноном которой должна стать не наука, а культура, точнее, теоретически выраженный процесс соотнесения человека со всей полнотой культуры, промоделированной во всех своих звеньях, одним из которых (пусть и самым важным с практической, материальной стороны) является наука. Лишь такая версия философии, обладающая, по словам Ильенкова, преимуществом «интегрального представителя (идеального образа) научной истины в высшем смысле» [7, 202], будет в силах оспорить у лидирующего ныне позитивизма пальму мировоззренческого первенства, создать предпосылки для искомого концепта и сделать задачу универсализации индивида практически осуществимой.
Как представляется, для этого нет необходимости изобретать велосипед: теоретическое наследие Маркса обладает достаточным потенциалом для решения данной задачи, просто следует взглянуть на его работы более объемно, осмыслив их по-новому, за рамками устоявшихся стандартов. Ниже представлен опыт подобного рассмотрения.
В «Экономическо-философских рукописях 1844 года» есть фрагмент, содержание которого сводится к истолкованию категории практики: сущность человека проявляется в использовании им искусственных орудий труда с целью воздействия на природу, которая, как гласит русский текст, представляет собой его «неорганическое тело» [6, с. 92], дополняющее биологический организм человеческого индивида. В подобной интерпретации человек представляется существом, обладающим двумя телами — собственным, внутренним (биологическим, организменным) и средовым, внешним (в виде единства «природы» и воздействующей на нее «промышленности»).
Однако всё не так просто. Уже приходилось писать, что в данном случае, начиная с момента введения «Рукописей» в широкий теоретический оборот (первая доступная публикация появилась в сборнике «К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений», выпущенном Госполитиздатом в 1956 году), мы имеем как минимум сомнительный перевод, поскольку неоднократно употребляемые в этом ключевом для всего марксистского учения фрагменте словосочетания «unorganische Korper» и «unorganische Leib» следует переводить не как «неорганическое», а как «неорганизменное тело» человека [8, с. 181]. Дословный перевод немецкого оригинала [9, s. 240], а также учет всего фразеологического контекста позволяют утверждать, что согласно Марксу, человек обладает не двумя, как принято считать благодаря устоявшемуся переводу, а по меньшей мере тремя телами: одним индивидуальным («организменным») телом, и двумя внешними по отношению к нему внеиндивидуальными («неорганизменными») телами — неорганическим (неживым) в образе «промышленности» и органическим (живым) в образе «природы». Что и образует всю систему культуры, в совокупности представляющей собой живой организм, на манер неоплатоников (с учениями которых Маркс как специалист по античной философии был хорошо знаком).
Образ культуры как живого организма неизменно сохраняет для Маркса парадигмальный характер не только в ранний период, но и на протяжении всего последующего периода его творчества, о чем свидетельствует масса выражений в I томе «Капитала»: «капитал — это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд и живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает» [10, с. 244], «при своей волчьей жадности к прибавочному труду капитал опрокидывает не только моральные, но и физически максимальные пределы рабочего дня» [10, с. 275], «эксперименты на ничего не стоящем живом теле» [10, с. 468], «дешевизна человеческого пота и человеческой крови, превращаемых в товары» [10, с. 482] и т.д.
В общем, всё свидетельствует в пользу того, что культура для Маркса — это «тело», «организм», живая система, в которой живой человек существует и развивается в единстве с его двухкомпонентным неорганизменным телом. Таким образом, подлинный, истинный марксизм, о сущности которого продолжают спорить до сего времени и настоящее содержание которого, возможно, не было в полной мере осознано и самим Марксом, это биомарксизм как учение о культуре и человеке в качестве живых систем.
Главное, чего не сделал и не мог сделать Маркс — это эксплицировать глубинное содержание своей концепции и представить ее в развернутой научной форме. В условиях современной Марксу эпохи это было попросту невозможно, ибо для понимания специфики культуры как искусственной, но живой системы необходимо было предварительно раскрыть сущность живого в его естественных, чисто природных формах. Между тем во второй половине XIX века познание жизни в образе дарвинизма лишь выходило на научный уровень, а эпохальные для этой сферы открытия (системные исследования живого и особенно «принцип устойчивого неравновесия живых систем» Эрвина Бауэра) были сделаны гораздо позднее. Данное обстоятельство и не позволило Марксу конкретно промоделировать специфику общества нового типа, включая такое необходимое звено его практического воссоздания, как универсализация человека (что, в конечном счете, и привело к краху всей попытки воплотить общественный идеал на практике).
Момент истины наступает в наше время, на переломе XX-XXI веков, в эпоху глобализированного капитализма, когда подогреваемый стремлением к прибыли безграничный рост производства, сопровождаемый гипертрофией «промышленности» в качестве неорганического компонента неорганизменного тела человека на фоне редукции и «природы» в качестве органического его компонента, и самого биологического организма человеческого индивида, ставит человечество перед лицом экологической и антропобиологической катастрофы. Продолжение движения по этой линии будет означать не что иное, как возврат его на пройденный уже биологический путь адаптивной эволюции, только теперь это станет адаптацией не к естественной, а к искусственной (технизированной в образе «промышленности») внешней среде: «Превращение технологий и социальных структур в строгий автоматизм, который давит по обратной связи любые отклонения, делает не только избыточной, но и «опасной» способность человека мыслить, усваивать новое, менять заложенную в автоматизм программу» [11, с. 207]. В подобной перспективе «цифровой концлагерь» представляется отнюдь не утопией.
Альтернативой подобным деструктивным тенденциям является формализация открытых современной наукой базисных закономерностей воспроизводства живых систем с модификацией их на уровне философии и последующей проекцией полученных таким образом моделей на сферу культуры. Это означает, что на поставленный Марксом еще 150 лет назад вопрос о научных основах функционирования коммунистического общества, которое должно прийти на смену позднему капитализму, надо, наконец, дать конкретный ответ. Как представляется, интерпретация наследия Маркса в духе биомарксизма создает предпосылки для решения этой задачи. В этом случае концептуализированная Ильенковым установка на универсализацию индивида обрела бы принципиально новые, но реально воплотимые формы.
Литература
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. 2-е изд.: в 50 т. Т. 46. Ч.II. М.: Политиздат, 1969. 620 с.
Ленин В.И. Задачи Союзов Молодежи / В.И. Ленин // Полное собрание сочинений: в 55 т. Т. 41. М.: Политиздат, 1977. С. 298–318.
Ильенков Э.В. Гегель и «отчуждение» / Э.В. Ильенков // Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. С. 141–152.
Ильенков Э.В. Проблема идеала в философии / Э.В. Ильенков // Искусство и коммунистический идеал: Избранные статьи по философии и эстетике. М.: Искусство, 1984. С.106 — 184.
Ильенков Э.В. Диалектика и мировоззрение / Э.В. Ильенков // Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. С. 339–345.
Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. 2-е изд.: в 50 т. Т. 42. С. 41–174.
Ильенков Э.В. Гуманизм и наука / Э.В. Ильенков // Искусство и коммунистический идеал: Избранные статьи по философии и эстетике. М.: Искусство, 1984. С. 185–204.
Рыбин В.А. Биомарксизм: Опыт новейшей реконструкции учения Маркса / В.А. Рыбин // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2018. Вып. 2. С. 179–190.
Marx K. Okonomisch-philosophische Manuskripte (Erste Wiedergabe). / Karl Marx // Karl Marx, Friedrich Engels. Gesamtausgabe (MEGA). Band 2. Berlin: Dietz Verlag, 1982. 516 s.
Маркс К. Капитал. Том первый / К. Маркс // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд.: в 50 т. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960. 908 с.
Петров М.К. Человек и наука / М.К. Петров // Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1992. С. 191–213.
3.9. Шрейбер В. К. Тезисы, revised, или о гносеологизме, Энгельсе и перспективах философии
В 1954–55 годах московская философская «тусовка» была взбудоражена тезисами новоиспеченных кандидатов наук В. Коровикова и Э. Ильенкова о перспективах философского знания. В партийных документах тезисы получили название «О взаимосвязи философии и знаний о природе и обществе в процессе их исторического развития». Споры вокруг них, по началу закончившиеся предложением Т. Ойзермана, тогдашнего заведующего кафедрой ИЗФ, написать на эту тему статью, завершились цековской проверкой воспитательной работы на философском факультете МГУ и увольнением Коровикова. Ильенкову, поскольку он работал в Институте философии АН, удалось отделаться партийным взысканием. Своими тезисами авторы заложили основу для так называемого гносеологизма и тем самым инициировали серию дискуссий, которые в течении полутора десятилетий занимали умы ведущих советских философов.
Мои заметки будут организованы вокруг трёх сюжетов. Во-первых, мы попытаемся разобраться, чем «гносеологисты» отличаются от гносеологов. Во-вторых, что превратило Ильенкова в культовую фигуру для гносеологистов. Третье: поскольку в качестве одного из доводов в поддержку своей позиции Ильенков ссылался на точку зрения Энгельса, обсудим степень безусловности, этой поддержки. В этой связи нам придется присмотреться к структуре и перспективам основного философского вопроса. Поэтому третья часть окажется самой объемной.
1. Гносеологизм и онтологисты
Во времена молодого Ильенкова никаких онтологистов и гносеологистов не было. Названия эти во многом условные. Споры между теми и другими начались в 60-е годы после того, как позиция Ильенкова приобрела популярность по крайней мере в столичных кругах. По воспоминаниям Б. Юдина, они тянулись с переменным успехом и последний всплеск полемики пришелся на 1982 г., когда в ней участвовали более 70 авторов [1]. «Онтологисты» считали, что задачей философии по-прежнему остается изучение наиболее общих связей и законов развития природы, общества и мышления. Одним из вариантов онтологической проблематики довольно долго выступала проблема построения системы диалектических категорий. Поскольку законы диалектики внутренне присущи природе, онтологисты верили, что диалектический материализм способен помочь ученому в определении истинности результатов независимо и даже до экспериментальной проверки. «Гносеологистов» волновала теоретико-познавательная проблематика. Они, как и Витгенштейн, склонялись к тому, что в условиях развитой науки философия занимается не поиском или объяснением фактов, а устройством и динамикой знания, особенностями его связей с истиной, практикой и т. п. То, что эпистемолог обращается к вопросам о познании, а исследователь в области теории бытия к поиску и анализу наиболее общих характеристик сущего,— это очевидно. Эпистемолог превращается в гносеологиста, когда приходит к убеждению, что философия сводится к изучению познания и, если ей и удастся найти какие-то новые моменты онтологического плана, то это возможно только через изучение познания.
В. Лекторский отмечает мнимость спора «онтологов» и «гносеологов»: различия носили, скорее, тематический характер [2, с. 245]. В принципе это понятно, потому что главенствующий статус отношения мышления и бытия ни теми, ни другими не отрицался, оба лагеря строили свои заключения по марксистским лекалам и даже в период пика споров не отказывались от материализма. Отсюда противоборствующие стороны порой демонстрировали слабость своих критических инструментов. Когда, к примеру, «эпистемолог» упрекал «онтолога» в «телеологизме» и неявном возврате к натурфилософии, он игнорировал идею антропного принципа и диалектику онтологических различий между сознанием и материей. Объяснение последних это вовсе не натурфилософия, ибо выходит за пределы задач конкретных наук и предполагает обращение к метанаучным идеям и подходам. Равно здесь не поможет и анализ семантики научных высказываний. В данном случае гораздо полезнее исследования уровней бытия, реактивация таких классических понятий как субстанция и субстрат, переосмысление идей Энгельса о формах движения и т.д.
Внутренняя связь онтологической и гносеологической проблематики превращала эти группы в неустойчивые и аморфные образования. Отсюда у исследователей этого периода возникает интенция на поиск дополнительных индикаторов принадлежности мыслителя к той или другой группе. И ещё один такой вариант интерпретации смысловых различий между онтологиами и гносеоогистами строится на противопоставлении «романтиков» и «консерваторов». Согласно этой точке зрения, романтики суть стремящиеся к новациям прогрессисты и они представляли собой философскую молодежь, напротив, старшее поколение, обремененное регалиями и завоевавшее определенное место а академической среде, тяготело к классическому марксистскому пониманию предмета философии. Романтики это гносеологисты, консерваторы, соответственно, онтологисты.
Эта интерпретация опирается на ограниченный исторический опыт и игнорирует некоторые факты. Конечно, в рамках московского академического сообщества, действительно, существовало и, видимо, сохраняется различие между теми, кто работает в структуре Академии наук, и факультетской профессурой. Работники академических секторов нацелены на поиск нового и они очень сенситивны к западным новациям. Для университетской публики остается значимой задача подготовки новых поколений. Новые специалисты не рождаются на манер Афины с совой на плече и полной воинской экипировкой. Молодежь надо готовить, надо учить основам философской культуры. Конечно, различия эти не абсолютны, но полного тождества между этими типами философствующих нет.
В пятидесятые должность на кафедре философии ещё могла служить чем-то вроде синекуры для заслуженных партийных и государственных деятелей, отправляемых на пенсию или в отставку. Ильенков с «сотоварищи» активно боролся с этой практикой. Но жесткость связи между гносеологизмом и романтизмом не стоит переоценивать. Когда Ильенкова и Коровикова приняли на факультет, кафедру диалектического материализма возглавлял выпускник Института Красной профессуры З.Я. Белецкий. Он прославился не научными достижениями, а политическим «чутьем». Казалось бы, стопроцентный «онтологист»! Ирония ситуации состояла в том, что Белецкий, человек, по оценке Ойзермана, весьма неглупый, ко времени обсуждения тезисов пришел к мысли, что предметом философии марксизма должно стать изучение сознания, то есть примерно к тем же положениям, что и авторы тезисов. На кафедре диамата была устроен симпозиум с целью проработки этой идеи. Стараниями декана стенограмма этого мероприятия с запиской, из которой вытекало, что Белецкий отрицает мировоззренческую функцию философии, попала в отдел науки ЦК [3, c.56 ]. Чем это обернулось для Белецкого? — я сказать не могу. Но наши герои, похоже, «попали под раздачу».
Другой пример отсутствия однозначной симметрии между антитезами «новатор-консерватор» и «гносеологист-онтологист» связан с легитимацией теории ценностей как особого раздела философии марксизма. Идея марксистской аксиологии предложена главой ленинградской онтологической школы В.П.Тугариновым в начале 60-х годов. В двух его монографиях, посвященных этой теме, отмечалось, что «ценности имеются во всех областях действительности», и подчеркивалась разница между познанием и оценкой [4, c. 27, 108]. В 1965 г. в Тбилиси собрался Первый всесоюзный симпозиум по теории ценностей. Его участники, истосковавшиеся по новой тематике, почти единодушно приняли новые идеи. Оппонент был один. Однако это был Олег Дробницкий, один из самых квалифицированных наших этиков. Олег Григорьевич полагал, что с подъемом сознания общества до научного уровня произойдет «снятие» ценностных форм и в индивидуальном сознании. Он тяготел к «гносеологизму.
Тугаринов не оспаривал, что в проблеме природы ценностей есть гносеологический аспект, но стоял на том, что в структуре ценностного отношения надо различать три компонента: познание, оценку и практику [4. c.19]. Разграничение познания, оценки и практики, будучи перенесенным в план мировоззрения, трансформировалось в трехчленную конструкцию, состоящую из картимны мира, ценностей и программ поведения. Эту модель в последнем советском учебнике по философии предложила М.С. Козлова, выпускница московского университета, много лет проработавшая в ЛГУ и защитившая там докторскую диссертацию. В свою очередь, гносеологисты, обратившись к тому, как устроено и работает научное знание, пришли к необходимости выделять в структуре философско-методологических оснований теории картину мира и тем самым к осознанию того, что мировоззрение и картина мира это не одно и тоже. Так был сделан другой шаг по направлению к модели мировоззрения, представленной Марией Семеновной.
Завершая раздел, отметим, что при всей лабильности содержательных различий «онтологистов» и «гносеологистов», их состава и проблематики есть основания считать, что дискуссии между ними в целом оказали благотворное воздействие на развитие советской философии. Они способствовали освоению нового аналитического инструментария и повышению теоретического уровня философской работы.
2. Ильенков и гносеологисты
Почему Ильенков превратился чуть ли не в культовую фигуру для гносеологистов? Что же сделало его и Коровикова столь популярными в студенческой среде? Если на этот вопрос отвечать очень коротко, то это новизна подхода.
Насколько я представляю, тогдашняя прошедшая горнило чисток вузовская философская наука под шапкой определения своего предмета как учения о наиболее общих связах познания и бытия на практике следовала принципами материалистического эмпиризма. Отсюда, в частности, вытекало, что к разграничению различий между общими (философскими) и специфическими характеристиками познания надо исходить из того, что наличествует в природе и обществе, а затем сопоставлять найденное таким образом общее с собственно познанием. Такова была устоявшаяся точка зрения. Ильенков и Коровиков переворачивают этот взгляд. Ильенкову очень нравилась замечание Маркса, что анатомия человека является ключом к анатомии обезьяны. По аналогии, развитое знание должно содержать в четко выраженном виде законы природы и общества. Значит, если вы хотите получить знание об общем, надо изучать познание. «Философия,— поясняет Ильенков в «Философской тетради»,— рассматривала мир, природу всегда как бы сквозь науку, сквозь ее достижения [2, с. 171].
Ясно, что для оценки этого толкования новаторства Ильенкова и Коровикова надо сравнить тезисы с тогдашними философскими курсами, их программами, списком обязательной литературы и т. п. В принципе это задача решаемая, но в рамках моего формата не подъемная. Поэтому обращусь к косвенными свидетельствам. Одно из них возьмем из воспоминаний В. Лекторского. Владислав Александрович, будучи студентом четвертого курса, участвовал в факультетском обсуждении тезисов и на всю жизнь остался сторонником Ильенкова. В те времена в Университете, вспоминает Лекторский, Сталин был на каждом шагу — в курсах диамата, логики, теории познания, всюду, и даже в языкознании. «То, что он [Ильенков] нам рассказывал о диалектике абстрактного и конкретного, для меня было чем-то необычным, я поначалу не мог этого принять,<….> пошел в Горьковскую библиотеку читать диссертацию Эвальда Васильевича. Постепенно все больше и больше стал понимать, насколько это интересно, насколько это непохоже на тот диамат, который нам втолковывали. Для меня это было <….> откровением. И, пожалуй, <….> для всей нашей группы» [2, c.8–9].
Студент Лекторский отмечает два момента: отсутствие доктринерства и необычность, своеобразие подхода. Это своеобразие ставило в тупик не только студентов, но и профессионалов. Здесь ситуацию общего недоуме ния отобразил вопрос П. Федосеева: «если противопоставить учение о мышлении, о позна нии учению, о законах объективного мира, что же остается от нашей философии» [2, с. 134]? Как отметил один из участников партийного собрания Института философии (ноябрь 1955), никто из «претендовавших на научное, доказательное марксистское опровержение» ошибочности взглядов Ильенкова так и не сумел этого сделать [2, с. 133].
Авторы тезисов понимали, что на пути к истине девиации неизбежны. Но по общему правилу, увидеть, в чем состоит требуемое уточнение, можно только после того, как эта новая точки зрения освоена. Показательно, что Ильенков, неоднократно заявляя, что тезисы «содержат в себе массу ошибок», так и не дал конкретизации. Тут не было никакой неискренности, в которой его обвиняли бдительные хранители чистоты марксистского учения. И вменяемый авторам уклон к меньшевиствующему идеализму сегодня ничего кроме горькой усмешки не вызывает.
Когда я выступал с этим докладом на апрельских чтениях, то полагал, что главным мотивом, которым руководствовались Коровиков и Ильенков, выставляя на обсуждение свои тезисы, было желание поднять уровень профессиональной подготовки будущих философов. Но более тесное с нюансами политической и социально-экономической жизни того времени, мировоззренческими установками авторов, а также учет диссертационной темы позволяют предположить, что они руководствовались не только академическими соображениями.
После смерти Сталина советское общество вступило в период пертурбаций. Никто из сталинских наследников не мог претендовать на абсолютное лидерство. Шла жесткая подковерная борьба за «красное место». Её участники руководствовались личными амбициями и здравым смыслом. Триумвират быстро превратился в дуумвират, члены которого в зависимости от занимаемого поста искали поддержку в государственных или партийных элитах. Так в мае 1953 года по инициативе Маленкова была отменена практика конвертов, что ударило по карману партийных чиновников и части хозяйственных руководителей. Одновременно была повышена зарплата работникам советских органов. Накануне сентябрьского пленума того же года Хрущев, который курировал кассу ЦК, вернул партократам «все недоплаченное». В благодарность он был избран Первым секретарем со значительным расширением полномочий
Эти же противоречия пронизывали экономическую политику — и прежде всего — в области сельского хозяйства. Снижение налогов на землю, установление твердой ставки налогообложения для колхозов, реорганизация МТС, повышение закупочных цен привели к прекращению бегства людей из деревни. Эти меры знаменовали ориентацию на интенсификацию сельского производства. С другой стороны, начиная с 1954 г., огромные силы были брошены на освоение целины и чуть позже на пропаганду кукурузы. Эта практика по сути реализовывала экстенсивный путь развития села.
Не думаю, чтобы Ильенков сильно болел за успехи «царицы полей». Но о разрыве между прокламируемыми достоинствами советского строя и волюнтаристскими метаниями высокого начальства при попытках соединить эти достоинства со своими интересами он, надо полагать, догадывался. Притом он был убежденным марксистом; он воевал за страну и в отличие, скажем, от Солженицына не сомневался в жизнеспособности и гуманности нового строя. Но если наше общество в своей основе правильное и если в нем нет серьезных социальных сил, противодействующих его продвижению вперед, то получается, что мы толком не разобрались в нашем обществе, мы не видим и не понимаем, что надо делать, чтобы совершить рывок к коммунизму. Но изучение общества — дело конкретных социальных наук. Обращение к их конкретные проблемы будет шагом назад — к натурфилософии. Сегодня её предмет распределяется между отдельными конкретными науками. Отсюда «предметом марксистской философии,— пишет Ильенков,— остается проблема теории познания, проблема отношения сознания и бытия во всем богатстве [курсив мой — В.Ш.] этого отношения» [2, с. 176]. Предмет философского познания в общем и целом совпадает с предметом познания вообще [2, c. 170].
За поддержкой Ильенков обращается к Энгельсу. «Как только,— пишет он в «Антидюринге» — перед каждой отдельной наукой ставится требование выяснить свое место во всеобщей связи вещей и знаний о вещах, какая-либо наука об этой всеобщей связи становится излишней. И тогда из всей прежней философии самостоятельное существование сохраняет ещё учение о мышлении и его законах — формальная логика и диалектика. Все остальное входит в положительную науку о природе и истории» [5, c.25]. Аналогичные высказывания можно найти в «Диалектике природы» и рецензии на книгу Штарке о философии Фейербаха. Все они представлены в подготовительных материалах к тезисам.
К сожалению, в данном случае апелляция к классику не приводит к кристальной ясности. Ибо сближение будущего философии с теорией познания — не единственная позиция, которую можно найти у Энгельса. И второе! Что, собственно, скрывается за фразой «отношение сознания и бытия во всем богатстве этого отношения»? Чтобы увидеть, как эти трудности проявляется, обратимся к описанию основного философского вопроса в брошюре «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии».
3. Двойственность позиции Энгельса
Энгельс не первый, кто отмечал фундаментальную значимость вопроса об отношении мышления к бытию для философской работы. Об этом писали Беркли и Гельвеций. Однако Энгельс в рецензии на работу Штарке дает классическую по своей прозрачности характеристику этого отношения. Кроме того, при всей внешней простоте описания он насытил его мощным методологическим смыслом.
Напомню: в том, что Энгельс называет великим основным вопросом всей,— и далее следует весьма примечательная вставка «в особенности новейшей»,— философии, выделяется два аспекта. Согласно первому, философы разделились на идеалистов, так или иначе признающих сотворение мира, и материалистов, которые началом считают природу. (Энгельс здесь не проводит различения между материалистом и натурализмом). Этот аспект обычно обозначают как вопрос о первичности. Вторым аспектом отношения между мышлением и бытием, пишет Энгельс, является проблема познаваемости, а именно, как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому миру?
Далее дается несколько формулировок этой проблемы, завершающихся фразой, которая нарушает феноменологическую манеру описания: «На философском языке этот вопрос,— замечает Энгельс,— называется вопросом о тождестве мышления и бытия» [6, c. 283]. Понятие тождества относится к профессиональному «сленгу» метафизиков. Отсюда можно поставить вопрос: нельзя ли найти соответствующий технический термин для философского описания проблемы первичности? Ведь «первичное» и «вторичное» едва ли корректно считать категориями; они суть слова естественного языка. Каков же их категориальный смысл? Самым очевиднвм образом «первичное» и «вторичное» репрезентируют идею порядка или количества. Но категориальную связь первого (бытие) и второго (познание) аспектов ОВФ таким образом не увидеть. Чтобы её увидеть нужно поставить себе вопрос, а чем, собственно, объединяются материалистическое и идеалистическое воззрения на мир? Тогда становится видно, что общим моментом для обеих партий является акцент на различии: для одних дух первичен, для других он вторичен. Поиск различий объединяет обе партии, оба этих лагеря. В общем плане! Когда мы исследуем некоторое диадическое отношение, надо бы сначала разобраться, в различиях сторон данного отношения, а затем посмотреть, что же в них общего. Именно такой путь и ведёт к целостному осмыслению предмета анализа.
Если учесть, что первый вопрос лежит в центре онтологических штудий, а второй — традиционный предмет эпистемологов, то односторонность обеих соответствующих исследовательских программ обнаруживается сама собой. Ведь различие и тождество суть самые общие определения сторон движущего противоречия, которые меняют содержание или роль в зависимости от взаимодействия данной целостности, которой в нашем случае является философия, со средой, которую здесь образуют культура и общество. Иными словами, хотя на авансцену философской работы в зависимости от познавательной ситуации выходят то эпистемологи, то онтологи, на заднем плане постоянно маячит диалектика. Она и обеспечивает концептуальную возможность перехода от одного типа познавательных задач к другим. Но ни одну из этих исследовательских программ не удастся редуцирована к другой. Это заключение вытекает именно из методологического анализа структуры ОВФ.
Лекторский, похоже, прав: на самом деле различия между онтологистами и гносеологистами носили тематический характер. Интуитивно внутреннее единство онтологического и гносеологического подходов ощущалось, повидимому, издавна. Однако в нашей традиции членораздельную форму ему уже в наши дни придал М. Прохоров, введя в оборот идею онтогносеологии.
Могло ли более внимательное прочтение Энгельса направить интеллектуальные усилия гносеологистов и онтологистоа в более плодотворное русло? Однако позиция Энгельса двойственна. С одной стороны, он допускает, что по мере перехода науки к изучению процессов философия трансформируется в теорию познания. С другой стороны, его интерпретация структуры основного вопроса подсказывает, что это не совсем так. И дело не в интеллектуальной слабости Энгельса.
Корни двойственности уходят в античность. Напомню, что ученик Парменида вошел в историю изобретением апорий, смысл которых заключался в том, чтобы показать нетождественность уверенностей здравого смысла и понятия. Зенон строит апории на противопоставлении истины и видимости. Все они являются экспликациями предпосылки Парменида. По логике элейцев метафизика есть единство онтологии и эпистемологии. Гераклит тоже упоминает о противоречии «темного» и «светлого» знания, но не слишком вразумительно и как бы вскользь. Для эфесца оно является одним из видов (или форм) противоречий,— в лучшем случае оно представляет нечто особенное. Особенное не самостоятельно и всегда указывает на различие. Теория противоречий Гераклита не требует подпоры в виде разграничения знания по мнению и знания по истине. Диалектика остается теорией развития как единства всеобщего, особенного и единичного,— и без оного. В этом смысле Гераклит — предтеча лидера пермской школы онтологистов В.Орлова.
Лекторский, стремясь показать, что Ильенков не был упертым гносеологистом, что он улавливал обозначенную выше диалектику онтологии и гносеологии, подчеркивает, что у Ильенкова «философия познания и сознания предполагают онтологию, а последняя понимается как соотнесенная с человеком в его всеобщих познавательных и нормативных характеристиках, в его деятельном отношении к миру» [2, с. 244]. Повторим: идея внутреннего единства онтологии и гносеологии идет от античности. Признание предпосылочного статуса этой идеи явилось условием выделения категории бытия как первичной философской абстракции. В философском плане разница онтологического и гносеологического подходов проявляется не в том, что одни сводят все к вопросам познания, а другие к формам и видам существования, а в том, что принимается в качестве ведущего принципа — тождество или различие.
Обратимся в этой связи к публикациям Ильенкова по диалектике абстрактного и конкретного. «Фишку» его понимания восхождения от абстрактного к конкретному составила идея «сращивания», то есть тождества реальности и её отображения в мышлении. В этих категориях, пишет Эвальд Васильевич, «запечатлена не специфика мышления по сравнению с действительностью и не специфика действительности по отношению по отношению к мышлению, а как раз наоборот момент единства (тождества) в движении этих противоположностей» [7, с. 276]. Его акцент на тождестве особенно впечатляет в интерпретации абстрактного. Абстрактное, по Ильенкову, может существовать вне сознания «как один из ясно очерчивающихся моментов конкретного», «как мнимо независимый его момент» [7, с. 277].
«Ножку подставила» узкая трактовка принципа историзма. Авторы тезисов, а за ними и наш mainstream ограничились обзором тенденции отношений между наукой и философией. Однако развиваются и категории, и историчен и сам основной вопрос. Ещё раз вернемся к Энгельсу, к его «Людвигу Фейербаху» и присмотримся к тому, как меняются формулировки вопроса об отношении мышления и бытия. Но предварительно попрошу учесть один момент. Энгельс дает феноменологический скетч эволюции этого вопроса. В теоретической форме он был поставлен ещё в древности. У Энгельса же речь идет о феноменах дорефлексивного сознания, которые воспроизводились людьми как непосредственное выражение их жизненных условий.
Предпосылку проблемы, по Энгельсу, образует представление о душе и осознание её отличия от тела. Стало быть, начало кладет вопрос об отношении души к внешнему миру. Проблема ставится в плоскости существования индивида. Подобным же образом, замечает Энгельс, возникли первые боги. Иными словами, религия и философия имеют своим предшественником мифологический взгляд на мир. Вторую её историческую форму образует вопрос: создан ли мир богом или он существует от века? Бог и мир! Ракурс рассмотрения расширяется до, если угодно, общечеловеческой (космической) точки зрения (дух и природа). И вот Новое время: теперь это вопрос об «отношении мышления и бытия». Вроде бы возврат к архаике? Не совсем.
От Декарта и до Гегеля человек понимается абстрактно — как мыслящее существо: cogito, ergo sum. Все прочие свойства человеческого индивида опускались или оценивались через призму стремления к истине. И с этой точки проблематика основного вопроса вполне могла соскользнуть в сферу теории познания. И этот аспект историчности, а именно — параллели развития философии и науки Ильенков и Коровиков приняли за предмет своих рефлексий. Однако это только одна из возможностей. Есть другие две возможности. Во-первых, это элиминация проблематики основного вопроса вообще. Тупиковый характер этой логики, которую сегодня подхватили некоторые наши коллеги, показан эволюцией неопозитивизма. Реализацию другой начал Хайдеггер, когда заменил cogitatio или субъекта своим Da Sein, а объект или мир как таковой гуссерлианским «жизненным миром». Заметным и не вполне, мне кажется, оцененным шагом в плане реализации этой возможности явилось рассуждение Камю о значимости тех вопросов, которые может ставить человек. Никто не умирал за онтологический аргумент. Но порой люди сводили счеты с жизнью, если приходили к заключению, что она не имеет смысла. Стало быть, вопрос о смысле жизни есть самый главный философский вопрос.
Однако те, кто занимался этой проблемой на профессиональном уровне, могут сказать, что все многообразие возможных ответов распадается на две группы. Для одних смысл жизни дан, по мнению других, он создается самим человеком. В первом случае, основа смысла жизни является объективной; её надо найти. Во втором,— смысл жизни имеет субъективную, сугубо творческую, конструктивную природу. Таким образом центральную мировоззренческую проблему образует отношение между субъективным и объективным. Это означает радикальное расширение философской проблематики. Ибо субъективное это не только отелесенное, но то, что зависит от нас и составляет суть нашей свободы. Энгельс до этих времен не дожил. Тем не менее, его обращение к элементам феноменологического подхода (до работ Гуссерля) знаменательно.
Литература
Интервью с проф. Б.Г. Юдиным об истории советской философии [Текст] / О.А. Донских Интервью с профессором Б.Г. Юдиным // Идеи и идеалы — 2013, №4, т. 2 — М.: — с. 134–139
Ильенков Э., Коровиков В. Страсти по тезисам о предмете философии (1954–1955) [Текст] / Э. Ильенков, В. Коровиков / авт.сост. Е.Э. Иллеш — М.: изд-во «Канон-плюс», 2016.— 272 с.
Митрохин Л. Н. Из бесед с академиком Ойзерманом [Текст] / Л.Н. Митрохин Вопросы философии.— 2004, №5, с. 33–77
Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме [Текст] / В.П.Тугаринов — Ленинград: изд-во Ленинградского университета, 1968.— 252 с.
Энгельс Ф. Антидюринг [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. второе.— Т.20 — М.: Госполитиздат, 1961,— 827 с.
Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Изд. второе.— Т.21 — М.: Госполитиздат, 1961,— 745 с.
Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного [Текст] / Э.В. Ильенков Философия и культура.— М.: Политиздат,1991,— 464 с.
Раздел IV. Философия Ильенкова и современная наука
4.1. Попадюк Н. К. Значение философского наследия Э. В. Ильенкова для исследований в сфере наукоёмких гуманитарных технологий (HI-HUME) (Политэкономическая оценка Э. В. Ильенковым кризиса советской системы)
По мере того, как так называемый «левый поворот» в общественно-политическом дискурсе медленно, но поступательно распространяется, все более будет востребован интерес к анализу причин, обусловивших свертывание социалистического мегапроекта в нашей стране. И здесь важно проследить и поиски в общественном сознании советского периода осмысления тех коллизий, которые угрожали дальнейшему становлению социализма в СССР. Особое место среди советских мыслителей, понимающих, что складывается не все так, как надо, был Э.В. Ильенков.
Формальное обобществление при «развитом социализме» отмечали многие политэкономы советского периода. Но, поскольку формальное обобществление не анализировалось как тенденция к тотальности бюрократического характера государственного управления, то предлагаемые меры практически упрочивали бюрократический характер управления, потому что сводились к усилению административного контроля и регулирования. Было упущено время, когда можно было, устраняя корни бюрократических извращений, избежать этой тотальности, и произошло преобразование планомерного по существу производства в формально плановое хозяйство, Псевдоальтернативой усилению административных методов стала концепция «рыночного социализма», которая и сформировала теоретико-организационное обеспечение крена ко все большей товаризации социалистического производства. Псевдоальтернативой,— потому что реальной альтернативой могло быть только целенаправленное развитие планомерного характера развития непосредственно общественного характера производства, используя стоимостные инструменты исключительно как вспомогательные. А администрирование также опирается на формальные показатели. По факту формальное обобществление, воспроизводя товарное производство в форме «серых рынков», и способствуя под видом кооперативной формы воспроизведению артелей и кооперативов как частных производителей в силу недостаточного контроля и охвата системой планирования, создавало предпосылки для свертывания социалистического проекта. Попытка избавиться от валовых показателей как основы оценки деятельности предприятий и ведомств, пройдя через показатели валовой, товарной, реализованной продукции, выполнении договоров поставок дошла, наконец, до показателя «нормативно-чистой продукции», который должен был показать реальные затраты живого труда, реализовалась в конечном счете в Постановлении ЦК КПССС и Совета Министров СССР № 695 от 12 июля 1979 года «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на эффективность и качество работ», какое и обязывало перейти на этот показатель, но советские министерства и ведомства и подведомственные им предприятия саботировали исполнение этого постановления, мотивируя самыми разными доводами и причинами, по каким, якобы, нельзя перейти на показатель нормативно-чистой продукции. И государство в лице правящей партийно-правительственной элиты с этим смирилось, потому что потом начались всевозможные экономические эксперименты в национальных масштабах с самоокупаемостью и самофинансированием, полным хозрасчетом, включая элементы территориального хозрасчета, предполагающего последующий переход на территориальное самофинансирование как перспективы развала Союза ССР. Но был и альтернативный путь, который предполагал, конечно, большую работу и, как оказалось, требовал смены многих руководящих кадров. Мало, кто говорил тогда, что с формальным обобществлением надо бороться не усилением административного контроля и регулирования, не товаризацией всего народнохозяйственного комплекса, где не было оснований для товарного производства, поскольку охватывалась вся система воспроизводства народнохозяйственным планом, а необходимостью передачи товарному производству только тех секторов экономики, какие не были охвачены плановой системой, только и их следовало передать рынку, но под контролем и постепенным охватом реальной планомерностью.
Переходный период к социализму с преодолением не охваченных планомерностью секторов экономики упорядочиванием формами государственного регулирования, принципиально новыми по содержанию и формам, потому что происходило становление радикально иных общественных отношений, в эпоху «развитого социализма» видел только Э.В. Ильенков. Как он отметил, «новая, становящаяся система не успела еще органически преобразовать всей той суммы производственных отношений, которая ею унаследована», поэтому «движение реальных потребительных стоимостей выступает здесь как нечто производное от движения стоимости, и именно «стоимость», а не «потребительная стоимость», выступает тут как субъект процесса, как «саморазвивающийся субъект. И этот «саморазвивающийся субъект» реально выступает, как показывает Маркс, в образе промышленного капитала» [1]. И далее — практически диагноз «реального социализма» с все большим охватом товарными отношениями: «стоимость есть там, где труд еще не обобществлен, там, где процесс коммунистического обобществления еще не успел завершиться. Поэтому самое наличие стоимости для марксиста есть точный показатель наличия разрозненности отдельных звеньев общественного разделения труда, показатель того, что процесс обобществления еще не успел преобразовать исторически унаследованные им формы разделения труда, или, точнее, формы объединения самостоятельных, разрозненных и независимо друг от друга сложившихся звеньев народного хозяйства» [1].
Рыночный социализм как оксюморон подготовил основу для отката к началу переходного периода к социализму, а затем и — к контрреволюционному перевороту. Если и мог Э.В. Ильенков представить, что государство из производителя общественного продукта превратиться в товаропроизводителя, то не думал, что чиновники вместо служения государству будут переведены в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [2] по сути в категорию буржуа с ориентацией на оказание госуслуг, а по В.И.Ленину, как мы помним, буржуа отличается от пролетариата также и тем, что последний продает свою рабочую силу, а первый — товары или услуги, произведенные им самим или кем-то другим. Чиновники, приватизируя государственные функции, становятся по своему существу буржуа и продают населению государственные и муниципальные услуги, играя на очередности и получении прав на получение таких услуг в свою пользу, получая бюрократическую ренту.
В отечественной — особенно в востоковедческой литературе — такая форма государственного капитализма получила название бюрократического капитализма, а наполняющее его чиновничество — определение бюрократической буржуазии. Причем, это имеет место на всех уровнях государственной иерархии, включая и муниципальный [3, с. 440–470]. Бюрократический капитализм как завершающая стадия государственного капитализма, упрочился на формальном обобществлении, внутри которого в форме ведомственного корпоративизма с его ведомственными барьерами еще в советские время произошло разгосударствление в национальных масштабах. Как отметил Э.В. Ильенков, ссылаясь на марксовы рукописи «Капитала», советская экономика «в процессе складывания ее специфической структуры, ее внутреннего членения,— которое мы и обязаны обнажить путем анализа — тоже «влачит за собой остатки всех отживших общественных форм», «из обломков которых она строится,— частью продолжая влачить за собой их остатки, которые она не успела преодолеть, частью развивая до полного значения то, что прежде имелось лишь в виде намека и т.д.» [1]. Есть основания полагать, что некоторые «остатки всех отживших общественных форм», которые «влачил за собой» советский социализм, не будучи преодоленными новыми, целенаправленно формируемыми общественными формами, получили условия для своего развития именно по своей, товарно-капиталистической логике. Более того, получив развитие в модели государственного капитализма, в который преобразовался государственный социализм, стоимостные формы, в которых «обломки» прежних общественных форм, являясь «конкурентами и антагонистами коммунистической организацией общественного труда», получившей начало своего движения сразу после Великой Октябрьской социалистической революции, в конечном счете, утратив характерное для социализма целенаправленное регулирование, подчинили, подмяв под себя, социалистические производственные и в целом общественные отношения. Причем, этот процесс подчинения социалистических форм организации труда товарно-капиталистическим происходил по логике возвратного движения, как если бы государственный капитализм вырос естественным путем, что наблюдается в западноевропейских индустриально-развитых странах. И здесь, в России, начали получать развитие те товарно-капиталистические формы корпоративного уровня, которые в России никогда и не образовывались (вертикально интегрированные частнокапиталистические корпорации, концерны и т.п.).
Иными словами, многие промежуточные стадии, которые не вполне развились накануне Великой Октябрьской социалистической революции, демонстрируют интересный феномен: поскольку бюрократический капитализм есть завершающая форма государственного капитализма, но в силу разных общественно-политических причин, в том числе и недостатка энергетического принципа как следствие многомиллионных потерь энергичных людей в период Великой Отечественной войны, не смогло преодолеть бюрократический характер управления, для поддержания энергетики советского капитализма как неразвившейся до своего предела частной собственности, начал свое движение регрессивного характера через упрочение государственно-монополистического капитализма, который сложился еще в советский период и как первая тотальная форма разгосударствления, известная как непреодоленные «ведомственные барьеры», начало свое движение вспять, формируя государственно-частные и корпоративно-частные монополии. Но, поскольку «человеческий материал» не прошел этой квалификационно-профессиональной и организующей школы последовательного развития капиталистических форм организации труда, а в отчужденных формах бюрократическо-государственной формы собственности трудился не безупречно, то сложилась интересная коллизия, когда для высшего менеджмента приглашаются зарубежные специалисты, но для низового и среднего звена иностранцев, прошедших в своей национальной культуре этап монополистического капитализма, не напасешься, то сложился объективный предел капиталистической трансформации на западный манер большинства российских корпораций.
Таким образом, политэкономическая оценка Э.В. Ильенковым кризиса советской системы, диагностируемая им задолго до контрреволюционного переворота, становится востребованной в настоящее время, когда предстоит проанализировать все сбои советской модели социалистического строительства. Это необходимо для того. Чтобы в дальнейшем развитии «левого поворота» было, что предложить для дальнейшего движения к «царству свободы», востребованным всем опытом реального исторического процесса построения социализма в России. Понятно, что для этого необходимо овладеть культурой мышления марксизма, и здесь наследие Э.В. Ильенкова — неоценимо полезно для будущего нашей страны.
Литература
Ильенков Э.В. К выступлению у экономистов. 24.II.65. режим доступа: http:// amaid.tk/ilyenkov/texts/daik/econ.html дата доступа 01.10.2019
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» — режим доступа: https:// base.garant.ru/12177515/; дата доступа 01.10.2019
Попадюк Н.К. Век возрождения Востока. Очерки политэкономической антропологии.— М.: ЛЕНАНД, 2015.— 800с.
4.2. Никишин С. В. Метафизическая подмена принципа диалектического совпадения логического и исторического или как возможно предписание будущего
Ж Деррида и его коллеги по цеху постструктурализма вполне обоснованно подвергли критике теоцентрические текстовые модели, каковые позволяли структурировать социальное бытие, а потом воплощать эти модели в жизнь. Принципы создания новых общественных систем с помощью соответствующей религиозной символики, могли быть весьма фантастичны, однако это не умаляло их эффективности в отношение общественно-политического конструирования. Фантасмогории миропонимания, предлагаемые средневековыми христианством и исламом, оказались настолько могущественны, что откачнули Европу, Северную Африку, Ближний и Средний Восток далеко от античной рациональности. Конечно, это было обусловлено причинами вполне материалистического толка. «Варварские народы», каковые были лишь на краю Ойкумены греческой и римской культуры, просто не могли её освоить и присвоить в полном объеме, вследствие того, что не прошли всех коллизий политэ-кономической истории великой античной цивилизации и не знали в массе своей ни греческой, ни латинской письменности. Но, даже освоив искусство писать на латыни и греческом, «варвары» не смогли в смысловом отношении «переварить» весь объем культурного наследия, созданного с помощью этих языков. Их исторический опыт, их мифологическое сознание не содержали тех эйдосов-мыслеобразов, которые бы в снятом отразили противоречия развития древней Эллады или Римской республики. Афинская демократия, Римское право, Ликеи и Гимнасии — все это было не нужно воинственным народам во времена их Великого переселения. В их истории было мало событий, которые бы взывали к сущности античной культуры — в особенности к её хронологическому «сердцу» — классическому периоду. В основном, очевидными и понятными для варваров реалиями взаимодействия было многолетнее военное противостояние, греческие колонии и римские укреплённые лагеря-города, что возникали на границе варварских земель. Но они отнюдь не снимали противоречий античного центра и дикой (по мнению римлян и греков) периферии. Разрешение многовекового конфликта выкристаллизовалось в материальном производстве — связанном, в первую очередь, с древним и взрывоопасным двигателем технического прогресса — оружием. Всадник, закованный в латы, вооруженный мечом (по качеству железа существенно превосходившим римские) и прекрасно управляющий специально обученным конем, этот прообраз рыцаря, был живой боевой машиной, созданной «варварами» на погибель Римской Империи. Культура материального военного производства не познавших римского гражданства народов оказалась выше и перспективнее. Однако, разрешение конфликта в пользу варварской периферии было лишь первым актом преобразования античного мира в «своё-другое" — в империи и королевства раннего Средневековья. Вслед за завоеванием многочисленными франками, готами, лангобардами, аварами, вандалами, аланами, уграми и т.п. римских провинций происходила неизбежное взаимопроникновение культур. Попытка вандалов расточить Рим оказалась дерзкой, хотя и не принесла окончательной победы на тот момент уже арианской культурно-религиозной парадигме этого свирепого племени. В конечном счете, взаимопроникновение цивилизованного центра и варварской периферии потребовала выработки какого-то нового языка, новых взаимно понятных символов, каковые бы позволили создать новое социальное пространство. Образно выражаясь, римский имперский государственный дух попытался войти в варварский меч, а христианская религия как государственная идеология — в первых прото-рыцарей — варварских королей. В целом, это общеизвестные исторические закономерности, каковые внутри себя скрывают один подспудный процесс: наделение разноязыких победителей Рима, крушителей высокой античности новой историей, качественно иным восприятием времени и пространства. Новые социальные отношения требовали формирования качественно иного восприятия и хронологии, и географии, в рамках которых должна была вырасти средневековая культура. Поэтому и в изучаемой варварами латыни, и в формирующихся с немалой исторической скоростью европейских письменных языках священная история вытесняет более соответствующие действительности устные предания о языческих предках. Через письмо происходит кодирование общественного сознания, направленное на формирование нового христианского мира. Получилось так, что победители, вначале, в силу иного исторического опыта не восприимчивые к культурным достижениям побежденных, начинают отказываться от мифологических оснований своей родоплеменной культуры в пользу греко-римских смыслов. Причём этот воистину великий отказ отнюдь не гарантировал усвоения всей полноты античного наследия, ибо для этого нужно было сотни лет жить в полисах Эллады, основывать колонии или быть исконными римскими гражданами, воспринимать законы Римского права наравне либо выше божественных установлений и т.п. Тем более, что отчуждение от воинственных богов и варварских обычаев происходило как бы исподволь и даже вопреки объективному развитию социальных отношений в период варваризации римской империи. Император Каракалла из династии Северов [2, 211–217] искренне подражал германским воинским обычаям, современники сравнивали его с «диким зверем», подобным свирепым скифам и германцам из его отборной гвардии «Львов». При этом он ревностно распространял египетский культ Изиды. Его преемник Гелиогабал был назван так в честь финикийского бога Солнца, будучи его верховным жрецом. Это божество, фактически, тождественно Баалу Карфагена, злейшего древнего врага Рима. Некоторые источники утверждают, что Гелиогабал проводил в Италии человеческие жертвоприношения своему богу, стараясь кровью принизить значение древнеримской религи. Кровавый бог города, который римляне после победы в пунических войнах сравняли с землей, попирал средоточие римской культуры посредством института римской же императорской власти. После падения династии Северов «солдатские императоры» превратили «императорский двоp в comitatus, воинскую свиту. Выйдя из описанных Тацитом дремучих лесов, она воцарилась в роскошных палатах Вечного города». [2, 160] Таким образом, не только военная материальная культура варваров оказалась сильнее римской. Древние боги персов (Митра), египтян, финикийцев, германцев одержали верх над Юпитером Капитолийским и его подданными. В конечном счёте, и новоявленное христианство длительное время рассматривалось римлянами как религия покорённых народов, разрушительная для духа «Вечного города». Гармоничного взаимодействия между римским имперским и варварскими культурными кодами случиться не могло. Это были тезис и антитезис во плоти и крови страшных войн на уничтожение Рима, и антитезис побеждал. Но античную культуру не постигла судьба древнеегипетской, шумерской или той же финикийской, она смогла выработать новую, синтетическую доминанту, в которой, в конечном счете, возобладали её эйдосы, во всей своей преображенной славе воскресшие в эпоху Возрождения и в раннем Просвещении. Неужели действительно тексты христианской религии, воспринятые римлянами как средство борьбы против идеологического кризиса и, благодаря этому, распространяемые на латыни и греческом, оказались столь могущественны и «перекодировали» культуру достигших успеха варваров-завоевателей? И если так, то какова глубинная причина. Исследуя ответы на этот вопрос, можно столкнуться с различными точками зрения. Религиозная апологетика настаивала и (при анализе исторических событий) ныне настаивает на том, что христианство — более совершенный инструмент развития как индивидуального духа, так и общественной морали, в целом, что было продемонстрировано христианскими мучениками и понято наиболее дальновидными государями того времени. Позитивистски настроенные историки будут связывать развитие христианства с идеологическими нуждами образования централизованных государств на развалинах Римской Империи. А разные формы культуры закрепляли и развивали эту идеологему — до той поры, пока она была необходима для политического роста и развития самосознания европейских наций.
Две изложенные выше точки зрения имеют собственную логику, но вот в том, что она соответствует действительным движущим силам исторического процесса приходится усомниться. Мало того, приведённые этико-религиозная и позитивистская (с точки зрения политической истории) интерпретации несут в себе единое зерно, из которого успешно прорастает, своего рода, «метафизический сорняк», за бурным ростом которого не получается выявить адекватную логику развития культуры. Причём этот сорняк и сегодня успешно поражает «поля» образовательных систем. Ныне, как и в древности, социальным элитам «централизованных государств» культивировать его очень выгодно.
Попробуем разобраться, действительно ли процесс познания истории может быть настолько искажён, даже если допустить в него неявные метафизические основания. Тем более, что в истории науки представители позитивизма были одними из наиболее ярых противников метафизики, будучи сторонниками проверяемого, основанного тлишь на фактах знания. И действительно, что может быть более приземлённое, доказуемое (и на основании источников, и на основании логики поступков «варварских королей»), нежели фактический процесс выбора идеологии централизованного государства и средств, наиболее подходящих для её распространения? Не смешиваем ли мы несовместимое, ставя на одну чашу весов теологию истории и позитивизм в его наиболее логичных формах?
Для того, чтобы разобраться, сначала, вернёмся к основаниям Средневековья, тем более, что процессы развития культуры, зародившиеся в те далёкие времена, не завершены и сейчас, продолжая оказывать многомерное воздейстивие на сознание громадных народных масс. Итак, новый письменный язык (латынь, греческий, национальная письменность) дал новую историю народам, каковые до того развитой письменности не ведали. Для монотеистических религий, содержащих идею Спасения, освященная Писанием история содержит как прошлого, так и будущего (в этом смысле, Библия, Коран очень близки). Будущее предзадано, а значит, в планах абсолютного бога уже свершилось. Примерно также предзадана реализация компьютерной программы. Она целесообразна и цель известна. В этом смысле гегелевская свобода как осознанная необходимость трактуется как пред-решенная необходимость, эсхатология, а осознанность — суть понимание необходимости подчинения. Если герои античных трагедий подвергались леденящим кровь страданиям по причине того, что пошли против воли богов, то они, тем не менее, имели возможность несчастного, но свободного выбора (причём для Эдипа — героя трагедии Софокла — это страшный выбор знания своей истинной истории, каковая, уничтожив его самого, может помочь спасти его народ). В пределах же абсолютной теоцентрической картины мира и таковой смертельно опасной свободы не предусматривалось (поскольку без воли бога ни один волос не может упасть с головы). Не то, чтобы свободный выбор совершенно отрицается христианством. Согласно мифу, сформированному интерпретаторами Библии, Люцифер, а вслед за ним и первые люди, возгордившись, свободно сделали выбор в пользу самостоятельного развития и, тем самым, в мир было выпущено первое зло — как попытка строить свою жизнь произвольно, не считаясь с божественным замыслом. Поэтому в течение христианской истории, фактически, шла отработка способов пред-писания социального времени и пространства, дабы преодолеть последствия греха первопредков.. Во многом, поэтому оказалась столь точной и драматичной экзистенциальная идея вброшенности новорожденного человека в уже расписанную, зачастую, по очень жестоким, убийственным ролям социальную пьесу. Пред-писанность социального времени и пространства отчуждает человека от свободы, даже если он свято верит в то, что волен в своем жизненном выборе. Он живёт в мире символов, каковые несут в себе намеки, указания и приказы, куда направить свою судьбу. Над ним господствует мета-текст (Библия, Коран, любая некритически понятая «главная» книга), Это и есть мета-текст, письменная квинтэссенция мета-физики. Его символами полна повседневная жизнь человека определенной культуры, и он продолжает привычно воспроизводить и передавать их. На мой взгляд, вполне правомерно назвать этот процесс прото-письмом с целью определения/предписания социальных судеб,— но без того, чтобы, вслед за Деррида «повесить» этот термин на «дыбу» деконструкции. Но мне возразят, что такова уж сущность социализации в обществах, вышедших за пределы родо-племенных отношений. Недаром китайцы издревле трактовали культуру как «развитие знака», то есть совершенствование письменной речи и облагораживание человека посредством изучения иероглифики. Однако, социализация может дать человеку ключи для присвоения богатств мира, каковое невозможно без воспитания в себе качеств, позволяющих стать восприимчивыми к разнообразному культурном опыту. Но, зачастую, социализация — это путь постоянного отчуждения, подспудного урезания свободы выбора до выбора неизбежности. Или скорее, неизбежностей, ибо десяток-другой вариантов развития пред-писанные социальные отношения нам предоставят. В этом смысле, письменность может стать языком отчуждающего общесоциального манипулирования. Если надо определить судьбу народа, то надо так или иначе подвергнуть уничижающей критике его историю. Даже не уничтожить, но показать все ничтожество, потом, по возможности, лишить полностью или частично письменного языка, связывающего его с предыдущим развитием собственной культуры. Достаточно внедрить в систему образования новый базовый язык и «пропустить» через него одно-два юных поколения, и потомки уже не в состоянии будут понимать ценности их предков во всем многоцветии борьбы и единства вдохновлявших их противоположных начал. Примерами тому переполнена история — не только древняя, но и новейшая. Здесь можно вспомнить историю среднеазиатских республик Советского Союза. После образования СССР с арабской письменности, которая использовалась для записи местных языков достаточно малочисленным слоем национальной интеллигенции, и, в особенности, мусульманским духовенством, там происходит переход на латиницу, а затем — с 1940 г.— на кириллицу. Результатом такого реформирования стало образование новых поколений в отрыве от ислама, каковой благословлял местный тип феодализма, всячески поддерживал неравноправные отношения мужчин и женщин и т.п. Введение и всеобщее распространение нового типа письменности позволило сформировать как достаточно развитую светскую культуру среднеазиатских республик СССР, так и приобщить их к единому советскому культурному пространству. После распада СССР в Туркменистане и Узбекистане произошел переход на латиницу. Это дало возможность местным правящим элитам достаточно быстро «извлечь» подрастающие поколения из широкого контекста русскоязычной культуры. С каждым годом, уровень знаний русского языка у прибывающих в Россию «гастарбайтеров» и студентов падает. С другой стороны, использование латиницы открыло для тюркоязычных Узбекистана и Туркменистана путь к более эффективной коммуникации с Турцией, а также предоставила очень гипотетическую возможность лучше интегрироваться в англоязычное культурное пространство. В любом случае, подобного рода языковые реформы служат созданию нового языкового континуума, который, как правило, гораздо легче и дешевле контролировать новым местным властям. Достаточно организовать образование с использованием нового письменного языка, и из школы выйдут поколения, в основном, умеющие осваивать лишь ценности, общепринятые в данном государстве. А за счет того, что в подобного рода политических образованиях, как правило, нет собственной длинной (в сотни и тысячи лет) традиции письменной фиксации собственной культуры, получается, что общий объем знаний, каковой они могут охватить благодаря собственному языку весьма невелик. На текущий момент переход с кириллической на латинизированную письменность происходит и в Казахстане. Тем самым новые поколения будут отдаляться не только от русскоязычной культуры, но и от собственных достижений, запечатленных на казахском языке времен Советского Союза. Маловероятно, чтобы все научные монографии, литературные произведения, ценные газетные публикации переводились в латинизированную транскрипцию Казахстан повторяет схему Узбекистана и Туркменистана и начинает строить более управляемое коммуникативное пространство, несколько облегчая при этом изучение школьниками английского языка. Однако, опыт современной России показывает, что при адекватных и несложных, в целом, методиках обучения иностранным языкам, кириллица — это не помеха.
Похожая, хотя и гораздо более трагичная история происходит на Украине и в прибалтийских государствах, где местные языки в ходе целенаправленной пропаганды противопоставляются русскому, как языку «завоевателе». Тем самым происходит ускоренное отчуждение народов этих государств от общего культурного наследия. Неизбежным следствием таким образом организованного процесса становится формирование устойчивого образа врага. Чтобы этот образ оставался чистым и незамутнённым, необходимо максимально ограничить возможности молодого поколения читать на языке «завоевателей».
Изобретение новой национальной письменности всегда служит очень противоречивым целям различных социальных групп. Так, например, изобретение латинской транскрипции для записи вьетнамского языка французским миссионером А. де Родом преследовала цели и распространения христианства, и отделения вьетов от китайского культурного пространства (посколькудо французской колонизации часть вьетских элит пользовалась иероглифической письменностью. Однако, потом, в ходе борьбы Вьетнама за независимость, она стала использоваться как средство, объединяющее вьетнамский народ.
Ещё более страшный пример. кхмерский язык, созданный в начале ХХ века на основе пали и санскрита монахом Чуон Натхом с целью распространения единой версии буддизма среди многочисленных разнодиалектных племен, в последующем использовался националистическими лидерами Камбоджи, в особенности Пол Потом для насильственной кхмеризации. «Камбоджийский Гитлер" — Пол Пот использовал национальный письменный язык как одно из средств социального эксперимента. С одной стороны, он подверг уничтожающим гонениям почти всю городскую интеллигенцию своей страны, тем самым на порядок понизив общекультурный уровень и мировоззренческий кругозор населения. Кхмерские крестьяне, ставшие, фактически, привилегированным классом, замкнулись на самих себя и идеологию «красных кхмеров», транслировавшихся с помощью крайне ограниченной синтагматики письменного языка. Тем самым, из смысловой вселенной простого камбоджийца вытеснялось все опасное для власти, все, что могло предоставить хоть какую-то информацию об альтернативах жизненного пути. Иной, гораздо более человеколюбивый вариант развития был привнесен в Камбоджу уже не новой письменностью, но вьетнамскими танками.
Конечно же, Пол Пот был далеко не первооткрывателем схемы: понижение общего культурного уровня — террор против интеллигенции — внедрение крайне узкого по набору смыслов письменного языка. Мао Цзедун в ходе «культурной революции» в Китае подал пример лидеры красных кхмеров. Многочисленные «Дацзыбао», которые производили «хунвейбины» и «цзаофани», были крайне скудны по лексике и извергали потоки подросткового сознания, оформленные в маоистских идеологических штампах.
Возвратимся на какой-то момент к терминологии Ж. Деррида, но уже с учетом тех социокультурных реалий развития письма, о коем говорилось выше. человек, как бы рождается-в-текст. М. Фуко сказал бы, что в более широком смысле — «в эпистему" — исторически обусловленную систему правил и отношений, довлеющую над каждым индивидуумом, определяющую ту со совокупность знаний, умений, навыков, которой человек может воспользоваться. Но если эпистема для каждого рожденного является чем-то объективно предзаданным, то рождение-в-текст происходит уже в смысле усвоения формирующейся личностью конкретных книг, высказываний, догматов, прописных истин и т.п. А их содержание уже зависит от тех, кто формирует образовательную систему, начиная с самых её азов — с обучения конкретному письменному языку. Однако, да простят мне последователи деконструктивизма вольное обращение с их терминологией, с точки зрения юного ученика, сначала, все-таки текст рождается в нем. Несомые буквами или иероглифами смыслы входят в его поле сознания, подвергаются потом интериоризации, после чего и оказывают могучее влияние на дальнейшее формирование личности. При этом авторитетность преподаваемых текстов может подвергаться сомнению, их первоначальный смысл перерабатываться критическим творческим воображением — в особенности при условии, что для его развития создаются, пусть и не идеальные, но хотя бы достаточные образовательные условия. Следовательно, для объяснения феномена предельного сужения личного и общественного кругозора до уровня легко управляемого «винтика» социального механизма только лишь направленного формирования определенной образовательной письменной культуры, которая способна отсеивать неугодные власти смыслы,— всё-таки будет недостаточно. И в начале данной статьи речь совершенно не случайно зашла о синтезе «варварской» и «римской» цивилизации как основе для формирования национальных европейских культур. Новая письменность служила для того могущественным средством, но её введение и распространение Библии как метафизического текста, определяющего социальные судьбы многих народов — это один из необходимых моментов диалектического взаимодействия логического и исторического. «Исторически предшествующее»,— писал Э.В. Ильенков,— в ходе развития постоянно превращается в «логически последующее» и наоборот. Ранее родившиеся явления превращаются то и дело в формы проявления процессов, начавшихся гораздо позже. И начало (подлинное начало) новой ветви развития […] не может быть понято как продукт плавной эволюции исторически предшествующих форм». [1, 296] Поэтому тезис о предзаданности исторического развития — в какой бы форме он ни звучал, опровергается довольно странной игрой случая, на первый взгляд, внезапного, даже спонтанного свободного выбора. Однако, конкретно-историческая форма такой свободы обусловлена вполне объективными предпосылками, сформировавшимися в рамках предельно широко понятых производственных отношений (производство товаров и услуг, культуры, в целом, и/, наконец, воспроизводства человека своей эпохи и творения человека новой эры). Поэтому вожди и воины германских племён, силой более совершенного оружия и боевой организации покончившие с Римом, приняли на себя формальную христианизацию, но не сущностную евангелизацию. Новозаветная этика ненасилия была невозможна для тех, кому война стала воистину «родной матерью», и поэтому ветхозаветный «образ победоносного бога, исполненного мощи и величия» смешался с образом Христа, каковой стал «мерой и образцом воина». [2, 219] На Христа-Пантократора, верховного вседержителя и судию, а не на невинно умерщвлённого мученика, равнялись короли и князья Средних веков. Они свободно выбрали именно этот образ, вследствие того, что такова была объективная, подспудная логика исторического процесса.
Принятое же как на веру, так и на основании рациональных аргументов, учение о предопределенности не только лишает человека свободы выбора, но и подменяет логику объективных, конкретно-исторических изменений — внутренней логикой книги, текста, идеологической системы. Это и есть метафизическая подмена, прорастание метафизических сорняков в массовом сознании. Люди начинают действовать в соответствии с тем, как написано и представляется правильным, а не адекватно реальному ходу вещей. Так, на самом деле, работает прото-письмо, возведенное Ж. Деррида чуть ли не в качество, сотворившее человека разумного,— вследствие того, что философия постструктурализма наиболее последовательно и безоговорочно сформировала и поддерживает веру в древнее могущество так называемых «больших нарративов» — текстов, которые в те или иные эпохи оказывают определяющее влияние на массовое сознание. Но произвольно заданная логика текста определяет поступки уверовавших (или даже псевдо-рационально убеждённых) масс лишь тогда, когда последние не знают, как самостоятельно понять действительное положение вещей. Что общего у упомянутых нами выше процессов формирования начал средневековой европейской культуры в Y-YIII вв., тоталитарных политических режимов Китая и Камбодже в 70-е гг. ХХ в. и национальных письменных языков бывших советских республик в конце ХХ — нач. ХХI вв.? — То, что, невзирая на громадные разрывы во времени, пространстве и ментальности, им свойственны общие тенденции подмены логического идеологическим, когда понимание реального исторического смысла событий вытесняется предписанной с помощью нового языка моделью общественного развития. Фактически, все описанные эпизоды демонстрируют не только различные исторические формы подмены сущего должным, но и коммуникативные средства, с помощью которых эта симуляция осуществляется. Эта статья началась с упоминания постструктуралистской критики базовых теоцентрических текстов, с помощью которых моделировалось общественное сознание. Но, подняв критическое оружие на такую подмену сущего должным, Деррида и его единомышленники, кажется, обожествили средство создания текстов — письмо. Средство создания культурных кодов стало некоей «децентрализованной» целью истории, То есть лишило историю всякой объективно достигаемой цели. А это значит, что и человечество, как исторический субъект — бесцельно, а, следовательно его можно произвольно «кодировать», словно некий суперкомпьютер…
Таким образом, подмена принципа диалектического совпадения логического и исторического метафизическими по своей сути философско-методологическими и идеологическими моделями приводят к неадекватному пониманию истории как объективно-целесообразного процесса. Это приводит к деградации исторического сознания масс и увеличивает их управляемость социальными элитами.
Литература
Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении.— М.:РОССПЭН,1997.
Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства.— М.: Прогресс, 1987.
4.3. Былевский П. Г. Значение философского наследия Э. В. Ильенкова для исследований в сфере наукоёмких гуманитарных технологий (HI-HUME)
Введение
Философское наследие Э.В. Ильенкова является важным звеном, этапом в развитии общественной мысли, не только отечественной, но и мировой. В философии и смежных дисциплинах у него были великие предшественники и современники. Их достижения Э.В. Ильенков синтезировал и развивал, в свою очередь, его труды оказывались ферментом развития его коллег и последователей.
Именно поэтому в наше время идеи Э.В. Ильенкова актуальны не только в аспекте «ильенковедения», но и как продуктивная методология перспективных научно-исследовательских проектов. В ряде направлений они способны содействовать отысканию ключа к выходу из тупиков, в которые зашла современная научная мысль.
Позиционирование hi-hume в системе прорывных научно-исследовательских разработок
Примером служит ситуация с исследованиями в сфере высоких, то есть наукоёмких гуманитарных технологий, которые называют hi-hume. Это название дано по аналогии с hi-tech, высокими наукоёмкими технологиями на базе естественных наук. Наиболее наглядно достижения в сфере hi-tech проявляются в создании и широком внедрении автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) на базе компьютеризации, телекоммуникации и ряда других разработок. В своё время такой уровень развития производительных сил рассматривался классиками как адекватная материально-техническая производственная база коммунизма — «Однако, будучи включено в процесс производства капитала, средство труда проходит через различные метаморфозы, из которых последним является машина или, вернее, автоматическая система машин (система машин, являющаяся автоматической, есть лишь наиболее завершенная, наиболее адекватная форма системы машин, и только она превращает машины в систему), приводимая в движение автоматом, такой движущей силой, которая сама себя приводит в движение. Эта автоматическая фабрика состоит из множества механических и интеллектуальных органов, так что сами рабочие определяются только как сознательные её члены» [1].
АСУ ТП внедрены практически во всех важнейших отраслях — государственном управлении, в финансовой сфере, в промышленности, энергетике, на транспорте, в армии, в образовании, здравоохранении и т.п. Новшества, появившиеся на их основе, пронизывают повседневный быт: это интернет, в особенности мобильный, разнообразная «умная» бытовая техника.
В собственно гуманитарной сфере технические новинки, созданные на базе наукоёмких технологий, способствуют новой «культурной революции». Массово и повсеместно доступными стали достижения науки, произведения искусства — книги, музыка, живопись, скульптура, архитектура, театр, кино, живое исполнительское мастерство, в том числе в прямой трансляции. Массовые коммуникации также вышли на новый уровень, начиная с электронной прессы и заканчивая социальными сетями.
Таким образом, появились колоссальные возможности культурного развития личности. Причём такого, какое предрекали классики марксизма: «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» [2], и наоборот. Но, учитывая особенности современной общественно-экономической формации, эти новые возможности используются также для изощрённого манипулирования общественным сознанием в политических и коммерческих целях. Для провоцирования так называемых «цветных революций» и маркетинга малополезной продукции.
Темпы продуктивного развития hi-tech не могут не впечатлять. Жизненный цикл инновации «гипотеза — научное исследование — фундаментальное открытие — технические решения — бизнес-продукт — серийное производство — широкое внедрение в повседневный быт» в наше время зачастую исчисляется всего несколькими годами.
Ряд НИОКР прошли путь от «гаражных разработок», «стартапов» (от англ. startup) до глобальных компаний за кратчайшие исторические сроки. Рыночная стоимость корпораций Microsoft, Google, Apple и Facebook превысила полтриллиона долларов США. В то время как детище Стива Джобса было «зачато» в 1976 году, а Марка Цукерберга — всего-то в 2009-м году.
Динамика рынка инвестиций в тематику hi-hume
Рынок инвестиций в разработки hi-hume быстро растёт, хотя размеры его пока относительно невелики, динамика существенно обгоняет вложения в hi-tech отрасли. По данным аналитической компании CB Insights (США), этот рынок инвестиций стремительно растёт: объёмы ежегодно привлекаемых средств выросли за 2013 — 2018 годы более чем в 2,5 раза, с $300 млн. до $800 млн., установив своеобразный рекорд [3].
Причины понятны: инвестиционный рынок hi-tech отраслей уже стабилизировался, особых неожиданностей на нём не предвидится. Рынок вложений в hi-hume, напротив, может повторить стремительный рывок hi-tech, совершённый на рубеже тысячелетий. Чем сказочно и быстро обогатит тех, кто вовремя на нём вложился.
Однако на впечатляющем фоне впечатляющих успехов в сфере hi-tech результаты исследований в сфере наукоёмких гуманитарных технологий пока выглядят неизмеримо более скромными. Характерен пример британского миллиардера Джима Меллона, соавтора книги «Юность. Инвестиции в век долголетия» (2017 год) [4] и основателя компании Juvenescence Ltd (2016 год). Его компания ведёт самостоятельные исследования в сфере hi-hume, а также является оператором инвестиций в подобные сторонние исследовательские проекты.
По состоянию на конец 2018 года, Juvenescence Ltd привлекла уже $ 63 млн. международных инвестиций. Были профинансированы научно-исследовательские проекты в сфере продления жизни, ведущиеся в США компаниями AgeX Theraupetics (Калифорния), Insilico Medicine (Мэриленд), LyGenesis (Университета Питтсбурга). Джим Меллон вложил собственные исследования $12,3 млн., отдельно профинансировал AgeX Theraupetics на $10 млн, заключил несколько сделок с Buck Institute for Research on Aging (Калифорния). Запущен совместный с Insilico Medicine стартап для создания препарата, помогающего человеческому организму избавляться от безнадёжно устаревших клеток.
Низкая результативность ведущихся исследований
Однако достаточно высокие финансовые вложения в исследования перспектив омоложения и активного срока жизни человека пока не приносят ожидаемых впечатляющих результатов. Как признаётся сам Джим Меллон: «Я принимаю мини-аспирин три недели из четырех, и я ежедневно принимаю по 500 мг метформина (препарат для уменьшения уровня глюкозы в крови) — постепенно, в течение дня. Вы не заметите зримого эффекта от этого, пока вам не исполнится 90 или 100 лет. Так что пока я просто верю, что это помогает».
Подобные «результаты» в сравнении с поставленными задачами и объёмами финансирования выглядят мизерными, явно недостаточными. Инвесторы вкладывают средства в полноценное физическое омоложение, а получают всего лишь новые модификации фармакологических средств от обычных заболеваний,— аспирина, гепатопротекторов и т.п.
Эти достижения — лишь средства снятия симптоматики хронических, неизлечимых заболеваний при так называемых возрастных болезнях, включая болезнь Альцгеймера и другие поражения центральной нервной и сердечнососудистой систем, суставов и зрения. Может быть, было бы лучше, если бы их не было вовсе, нагляднее была бы иллюзорность, ошибочность применяемого подхода.
Подобное фиаско может не вызывать озабоченности лишь у финансовых спекулянтов, для которых исследовательские разработки в области hi-hume — всего лишь один из инструментов игры на рынках инвестиций. Для них безразлично действительное значение научного открытия и технического решения, их результативность и эффективность.
Для финансовых спекулянтов важна привлекательность бизнес-идеи, вокруг которой раздувается ажиотаж, производятся манипуляции с общественным сознанием посредством экспертов и прессы. Раздувается финансовый пузырь, который рано или поздно схлопывается, происходит простое перераспределение денежных средств от обманутых инвесторов в пользу операторов спекулятивной лихорадки.
Свежим примером подобной деструктивной активности на инвестиционных рынках hi-tech служит обрушение рыночных цен на криптовалюты в конце 2018 года, после десяти лет быстрого устойчивого роста. Спекулянты сказочно обогатились, массы инвесторов понесли серьёзные убытки. В то время как технологии распределённых реестров, включая блокчейн, на которых они освоены, никуда не делись. На их основе создаются и всё более широко применяются, в том числе в России, многие сервисы — платёжные, подтверждения авторства и имущественных прав, электронного голосования, государственного и корпоративного управления.
Примат естественнонаучного подхода — тупиковая методология для hi-hume
Для того, чтобы сделать научно-исследовательские разработки в области hi-hume по-настоящему результативными, необходима «работа над ошибками», а именно проверка правильности применяемой методологии.
В аннотации к уже упомянутой книге Джима Меллона [4] перечислены основные направления поиска решений, помогающих замедлить или даже обратить вспять главные причины старения: генная инженерия, терапия стволовыми клетками, иммунотерапия, искусственный интеллект. Таким образом, исследования ведутся преимущественно в сфере биологии, химии, медицины (фармакологии и физиотерапии), а также биотехнологий.
Обратим внимание, что методологической базой исследований выступает безусловный примат, если не сказать монизм естественнонаучного подхода к проблематике hi-hume. В рамках такого подхода человек выступает исключительно как биологический организм, и в этом качестве — только как объект преобразования: физического омоложения, продления жизни, обретения красоты, усиления физических и умственных способностей и т.п. Этому человеку-объекту остаётся только употребить разработанные для него средства, фармакологические или физиотерапевтические.
Высокие гуманитарные технологии, hi-hume, пытаются развивать, механически перенося подходы, эффективно зарекомендовавшие себя в hi-tech. Механический перенос методологии естественных наук, эффективных в своей области, в гуманитарную сферу без должного учёта её особенностей является ошибочным, непродуктивным, тупиковым. Исследования закономерно буксуют на месте, но учёные продолжают упрямо двигаться по ошибочному пути.
Отечественная методологическая школа и практика разработок
Тем самым игнорируются ключевые факторы, детерминирующие физическое состояние человека: общественно-исторические условия существования и, главное, его собственная субъектная деятельность. Напротив, в отечественных hi-hume примат принадлежит не естественнонаучному (преимущественно биологическому), а конкретно-историческому, «деятельностному» подходу к человеку.
«Чувства общественного человека,— писал Карл Маркс,— суть иные чувства, чем чувства необщественного человека… не только пять внешних чувств, но и так называемые духовные чувства,... одним словом человеческое чувство, человечность чувств,— возникают лишь благодаря наличию соответствующего предмета, благодаря очеловеченной природе. Образование пяти внешних чувств — это работа всей предшествующей всемирной истории» [6].
Такая методология изучения человека, общества и личности лежит в основе классической марксистско-ленинской философии, безусловная заслуга её философского развития в нашей стране принадлежит Э.В. Ильенкову [7, 8, 9, 10]. Особой его заслугой является выделение осязания как главного, самого практического чувства человека [11]. В таком качестве он не стоит обиняком одиночкой, а является продолжателем своих предшественников, коллегой-единомышленником других учёных из смежных наук, а также основателем направления современной философской мысли.
Конкретно-исторический, «деятельностный» подход к человеку, обществу, личности в нашей стране (сначала Российской Империи, потом СССР и нынешней Российской Федерации), представлен несколькими научными школами в разных научных дисциплинах, как гуманитарных, так и естественнонаучных. В таком русле работали естествоиспытатели И.И. Мечников, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, развивали философ М.А. Лифшиц, психологи Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев, педагоги А.С. Макаренко, И.А. Соколянский и А.И. Мещеряков, такие исследователи-разработчики как А.А. Микулин [12] и наш современник С.М. Бубновский [13].
Продуктивность отечественной методологии в hi-hume хорошо видна при сравнении её результатов с западными. С.М. Бубновский, закончив в Сургуте Институт физической культуры, во время службы в армии в автокатастрофе получил страшные травмы. 12 дней провёл в коме, пережил клиническую смерть, ряд сложных операций. Потом 27 лет передвигался на костылях, каждое движение вызывало острую боль. Вердикт врачей был безжалостным: пожизненная инвалидность второй группы, медленное мучительное угасание.
Но доктор С.М. Бубновский разработал собственную методику реабилитации, трудами тяжкими полностью преодолел инвалидность. На основе своей практики разработал новое направление медицины — кинезиотерапию, помогающее пациенту решить проблемы со здоровьем, принципиально не решаемые по-другому, в частности — фармакологией.
С.М. Бубновский не только создал опробованную на себе методику, но и разработал на её основе способы излечения многих заболеваний, возвращения здоровья и полноценной жизни, казалось бы, безнадёжно больным людям. И довёл дело до многопрофильного массового сервиса, в России сейчас действуют около ста медицинских центров, работающих по его методикам [13]. Вспомним улучшенный аспирин, который за несколько миллионов долларов США получил Джим Меллон, и, как говорится, «почувствуем разницу» [5].
Продуктивные перспективы разработок hi-hume
Методология, разработанная Э.В. Ильенковым, показывает принципиальную неплодотворность попыток разработки проблематики hi-hume в сфере факторов, внешних для личности — биометрии, мифологизированной «генетики», а также «социальной среды», понимаемой локально-механистически, в духе вульгарной социологии 1920-х годов.
Напротив, применение марксистско-ленинской методологии в тематике hi-hume диктует необходимость, незаменимость практически-деятельностного (самодеятельностного) понимания жизнедеятельности человека, анализа её конкретно-исторической, социальной детерминации. Как в отношении социально-поведенческой парадигмы, так и внутренней, органической человеческой личности.
Применение такого подхода позволяет уверенно прогнозировать намного более продуктивные hi-hume разработки. Например, ильенковская трактовка осязания как практического, а потому главного, первичного среди чувств открывает перспективы исследования так называемого «внутреннего» осязания, мышечно-тактильных образов объективной реальности, их комплексов.
Появляется возможность понимания иерархии различных уровней мышечной активности человека, начиная с нижнего, «движения абсолютного покоя», через «автоматизм» безусловных и условных рефлексов вплоть до высших форм — сознательной деятельности, творческого мышления.
Тем самым становятся возможными продуктивные научные решения в такой проблематике hi-hume, как полноценное физическое омоложение и продление жизни в формате активного долголетия. А также в ряде других направлений, вроде чтения мыслей и телекинеза, где топтание на месте, периодически дополняется откровенно мистическими, шарлатанскими решениями.
Для продуктивного развития в области наукоёмких гуманитарных технологий на смену безусловному примату, вплоть до монизма, естественных наук должен прийти баланс с рядом гуманитарных дисциплин. В первую очередь — с философией, в частности, с философской антропологией, теорией культуры. Такая методология полностью «перенацеливает» исследования в сфере высоких гуманитарных технологий, в том числе — перспектив физического преображения человека (омоложения, продления жизни и т.п.).
Выводы
Для продуктивных исследований в области высоких гуманитарных технологий необходима методология, учитывающая три фактора.
Во-первых, изучать человека не только на биологическом уровне (генном, клеточном, отдельных жизненных систем органов). В человеке эти «уровни» функционируют под решающим влиянием его внешней жизнедеятельности.
Во-вторых, рассматривать конкретно-исторические условия его жизнедеятельности как сущностный фактор.
В-третьих, применять деятельностный подход, рассматривая человека к нему не как объект, а как субъект преображения. Применительно к тому же омоложению вывод такой: человека так же нельзя омолодить без его деятельного участия, как невозможно извне сделать сильнее, добрее, умнее, талантливее.
Литература
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов. (Первоначальный вариант «Капитала») // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.— Т. 46, ч. II.— С. 203.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.— Т.4.— С. 447.
The Future Of Aging? The Startups And Innovations Working To Help Us Live Longer And Better. CB Insights Research. © CB information Services Inc. [Electronic resource.] URL: https://www.cbinsights.com/research/report/future- aging-technology-startups.
Jim Mellon, Al Chalabi. Juvenescence: Investing in the age of longevity Kindle Edition.— Fruitful Publications, 2017. [Electronic resource] URL: https://www. juvenescence-book.com.
Седлов Д. Бессмертие в портфеле: как миллиардеры инвестируют в продление жизни // Forbes, 10.12.2018 [Электронный ресурс]. URL: http://www.forbes.ru/ finansy-i-investicii/369867-bessmertie-v-portfele-kak-milliardery-investiruyut-v- prodlenie-zhizni.
Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.— Т. 42.— С. 122.
Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах.— М: Политиздат, 1968.— 319 с.
Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить.— МПСИ, 2009.— С. 6–55
Ильенков Э.В. Учитесь мыслить смолоду.— М.: Знание, 1977.— 66 c.
Ильенков Э.В. Александр Иванович Мещеряков и его педагогика // «Молодой коммунист».— 1975, №2.— C. 80–84.
Былевский П.Г. Прорваться к свету // «Завтра».— №15 (647) от 12 апреля 2006 г. [Электронный ресурс] URL: http://zavtra.ru/blogs/2006–04–1261
Микулин А.А. Активное долголетие.— М.: «Физкультура и спорт», 1977.— 112 с.
Бубновский С.М. Активное долголетие, или Как вернуть молодость вашему телу.— М.: Эксмо, 2015.— 524 с.
4.4. Большаков Б. Е., Шамаева Е. Ф., Гапонов А. А. Закон природы как фундаментальная основа для определения цели человечества
Многие знают о существовании законов исторического развития, но далеко не все умеют их использовать при решении практических проблем. Рассмотрим разные формулировки объективного закона исторического развития и попробуем установить единство закона, являющего себя в многообразии различных целей Человечества.
Закон экономии времени
Закон экономии времени не может относиться к понятию «астрономическое время»: мы не можем увеличить или уменьшить скорость вращения земли или скорость обращения земли вокруг солнца. Это означает, что если речь идет об экономии времени, то предметом экономии является не астрономическое время, а какое-то другое «время». Действительно, закон экономии времени говорит об исторической тенденции сокращения необходимого времени на удовлетворение одной и той же общественной потребности.
Единица измерения
Для получения количественного выражения времени на удовлетворение всякой потребности в естественных науках существует прием «нормирования на единицу». Примем в качестве «единицы» количество жителей в 1 миллион, а в качестве «единицы» времени — 1 год. Этот один миллион жителей в интервале времени, равном одному году, располагает бюджетом «социального времени» в количестве 8 млрд. 760 млн. Человеко-часов в год. Если это количество социального времени мы примем за «единицу», то любые виды расхода социального времени на удовлетворение как индивидуальных, так и общественных потребностей всегда будут выражаться долей от единицы. Не менее очевидно, что сумма долей во все времена остается равной единице, а по ходу исторического развития доли могут изменяться лишь количественно.
Бюджет социального времени
Полный бюджет социального времени делится на две части, сумма которых всегда равна единице (но сами доли могут изменяться), на необходимое и свободное социальное время.
Полное социальное время = необходимое + свободное, где необходимое и свободное время выражаются в долях от единицы. Необходимым социальным временем мы будем называть такую часть полного бюджета социального времени, которую общество расходовало, расходует и будет расходовать на восстановление того, что само астрономическое время разрушает. «Сохранение» или простое воспроизводство обществом самого себя всегда требовало, требует и будет требовать расхода социального времени на свое простое «воспроизводство». Социальное время, необходимое для простого воспроизводства, и называется необходимым социальным временем.
Очевидно, что во все исторические времена был, есть и будет избыток социального времени над временем простого воспроизводства. Этот «излишек» мы называем свободным социальным временем. Этим временем общество может распоряжаться по «своему произволу».
Определение закона экономии времени
Даже небольшое наблюдение за ходом истории показывает нам, что граница между необходимым и свободным временем постоянно перемещается в пользу свободного времени. Закон экономии времени гласит: доля необходимого времени по ходу исторического развития уменьшается, а доля свободного времени увеличивается. Это перемещение может осуществляться стихийно, а может быть управляемым.
Миллион человек и в древнем Египте, и в древнем Риме, и во времена средних веков, и в наше время и при устойчивом развитии будет обладать тем же самым бюджетом социального времени. Совсем другой вопрос: какая доля этого бюджета социального времени в различные исторические эпохи составляла долю необходимого времени, а какая именно конкретная доля составляла долю свободного времени?
Существуют два способа сокращения необходимого времени: 1) способ сокращения численности работающих; 2) способ сокращения продолжительности рабочего «года», т.е. Способ сокращения числа рабочих часов в течение года.
Закон экономии времени и есть тот закон, который прокладывает свой путь через хаос кажущихся блужданий, сокращая (экономя) необходимое время и увеличивая долю свободного времени. Именно этим путем совершается скачок из царства необходимости в царство свободы.
Закон роста полезной мощности
Наряду с тенденцией сокращения общественно необходимого времени существует и тенденция прямо противоположная — к увеличению необходимого времени. Ее порождает рост количества потребностей. Однако, несмотря на этот рост, выпуск продукции в единицу времени не уменьшается. Почему это происходит?
Система «Человечество—природа» объединяет в себе два сопряженных процесса: активное воздействие на окружающую среду и использование обществом потока ресурсов, полученных в результате этого воздействия. Эти процессы объединены понятием процесс жизнедеятельности или трудовой процесс (рис. 1).
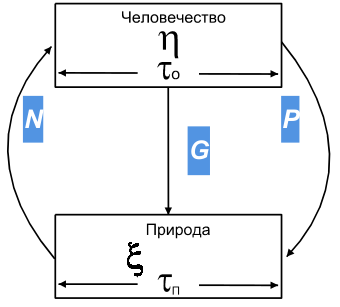
Затрачивая поток (мощность) p, общество по прошествии времени τ п получает в свое распоряжение поток ресурсов, измеряемый величиной n. Эти ресурсы общество использует в своей жизнедеятельности для производства материальных и духовных благ. Отношение p к n есть измеритель эффективности использования обществом полной мощности за время τ 0, обозначаемый 0 < η ≤ 1.
Отношение полной мощности n к затраченной на ее получение р есть измеритель потенциальной способности системы к расширенному воспроизводству, обозначаемый ξ > 1. Величина находящейся в распоряжении общества полной мощности n является определением потенциальных возможностей, величина р — мерой реальных возможностей оказывать воздействие на окружающую среду, а величина g — оценкой потерь.
Как связаны понятия потребности, интересы, намерения и цели социальных субъектов с величиной их реальных возможностей?
Обычная логика рассматривает понятия потребность и возможность как полярные противоположности. В то же время налицо их диалектическая связь, которая имеет следующий вид:
Всякая удовлетворенная потребность (или реализованный интерес, или достигнутая цель) есть новая или возросшая возможность, всякая новая возросшая возможность воспринимается как удовлетворенная потребность, интерес, цель.
Отсюда следует, что достигнутая цель (или реализованный интерес, или удовлетворенная потребность) не есть конечный результат, не есть конечное состояние, а есть промежуточный этап хроноцелостного процесса изменения темпов роста возможностей. Для заданного времени мерой возможностей является мощность, которой располагает в это время социальный субъект.
Мерой потребностей является возросшая мощность, которой субъект в данное время не располагает, но которую ему необходимо иметь для своего сохранения, роста и развития.
Каждый этап хроноцелостного процесса — это цикл с началом и концом. В начале цикла имеется пара: определенная «возможность» (имеющаяся мощность) и неудовлетворенная «потребность» (требуемая мощность). Эта пара: «возможность—потребность» — обозначает противоречие, или (говоря на языке системного анализа) проблему, как разность между имеющейся и требуемой мощностью. Разрешение этого противоречия, или решение проблемы, осуществляется с помощью идей, возникающих в головах людей.
Реализация этих идей обеспечивает разрешение противоречия, то есть минимизацию разности между имеющейся и требуемой мощностью, обеспечивает процесс удовлетворения потребностей и соответствующий рост возможностей.
На этом заканчивается один цикл хроноцелостного процесса. На следующем цикле процесс повторяется, но на другом витке с другими возросшими характеристиками возможностей и потребностей, другим социальным временем.
В целом процесс разрешения противоречий (решения проблем) представляет поднимающуюся спираль — возвышение потребностей, где на их удовлетворение требуется меньше социального времени. Конечно, описанный процесс является идеализированным. Однако, из кажущейся случайности интересов, намерений, желаний, потребностей отдельных индивидуумов и формируется естественно-историческая закономерность, которая приводит к росту возможностей общества как целого, который можно наблюдать по изменению его мощности (полной, полезной и потерь).
Таким образом источником исторического развития общества является противоречие (проблема) между его возможностями и потребностями. Это противоречие разрешается с помощью идей, реализация которых обеспечивает рост возможностей и удовлетворение потребностей человека.
Цель исторического развития общества — его устойчивое развитие как хроноцелостный процесс удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений.
Однако, далеко не каждая страна обеспечивает целостность сохранения развития — формирование и утилизацию идей, имеющих своим результатом неубывающий темп роста возможностей удовлетворять потребности в длительной перспективе.
В таком обществе, таких странах и регионах имеет место нарушение связей между прошлым, настоящим и будущим. В силу этого разрушается историческая хроноцелостность процесса, возникает перманентно-целостный процесс. Здесь имеет место ситуация, когда в течение одного исторического периода развитие сохраняется, а в течение другого — не сохраняется. Такую ситуацию мы связываем с понятием неустойчивое развитие.
Неустойчивое развитие
Развитие является неустойчивым, если оно не является исторически хроноцелостным. Здесь имеет место выполнение условий развития в текущее время, но не выполняются условия сохранения неубывающих темпов роста эффективности в будущем.
Стагнация, деградация, гибель
Исторический анализ показывает, что следствием неустойчивого развития являются стагнация социальной системы с последующей ее деградацией и гибелью. Невыполнение условия сохранения развития порождает ситуацию прекращения роста и развития, что приводит к стагнации. Дальнейшее уменьшение эффективности использования полной мощности приводит к деградации, а это в свою очередь порождает ситуацию неспособности за определенное время производить полезную внешнюю работу, что означает гибель социально-экономического организма. Отсюда следует, что причиной стагнации, деградации и гибели социальных систем является нарушение закономерностей хроноцелостного исторического процесса, которые и предопределяют сохранение или, другими словами, устойчивость развития общества как целого.
Уместен вопрос о причинах, которые препятствуют устойчивому развитию общества.
Чем объяснить существование объединений людей, интересы и цели которых находятся в противоречии с потребностями общества в целом?
Имеется много примеров возникновения таких объединений. Однако, они не привели к устойчивому развитию общества как целого, хотя и провозглашали далеко идущие цели. Дело в том, что цели ставятся людьми на основе их субъективного отображения мира.
Если субъективное отображение неадекватно объективному ходу хроноцелостного исторического процесса, то и сами цели могут приходить в противоречие с реальностью.
Существование личностей и объединений людей с целями, которые противоречат хроноцелостному историческому процессу, является следствием неадекватного отображения этого процесса в сознании социальных субъектов.
Можно выделить следующие типы целей, интересов и потребностей людей:
Тип № 1. Рост возможности личности — личные цели.
Тип № 2. Рост возможности некоторой общности людей — общественные цели.
Тип № 3. Рост возможности Человечества как хроноцелостного процесса устойчивого развития общества как целого.
Нетрудно видеть, что цель типа № 1 — может быть выражена через рост денег, имеющихся в распоряжении лица. Цель № 2, подобно цели № 1, тоже поддается выражению через деньги, как рост денег, имеющихся в распоряжении некоторой общности людей.
А вот цели типа № 3, которые приводят к росту возможностей Человечества, адекватно не выражаются через рост денег. Однако, они выражаются через неубывающий темп роста эффективности использования полной мощности не только в данный период времени, но и в исторической перспективе. Но такие цели и определяют хроноцелостный процесс перехода к устойчивому развитию Человечества. Острая практическая востребованность этого перехода является фактом, который подтверждается всем ходом эволюции живого на земле.
За 4 миллиарда лет живая природа выполнила огромную подготовительную работу, результатом которой пользуется каждый человек. Однако, на эту работу не было затрачено ни одного цента, но было затрачено колоссальное количество времени и свободной энергии. Тем не менее эти затраты были эффективными.
На протяжении 4-х миллиардов лет идет закономерный процесс роста свободной энергии и становления разума Человечества — его способности сохранять развитие системы в целом.
Долгосрочный прогноз критических ситуаций в отношениях Человечество—природа
К настоящему времени между Человечеством и природой сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны человек стал мощной геологической силой.
С другой стороны, происходит все большее загрязнение окружающей человека среды, что приводит к замедлению роста ее полезной мощности. Налицо рассогласование в темпах роста потоков свободной энергии Человечества и живого вещества (без человека). Если эта ситуация сохранится, то в будущем следует ожидать критические ситуации второго и третьего рода. Оценим возможные перспективы.
Логически возможны четыре варианта развития:
Вариант 1. Мощность Человечества продолжает возрастать, а мощность биосферы уменьшаться.
Вариант 2. Наоборот, мощность биосферы возрастает, а мощность Человечества убывает.
Вариант 3. Мощность биосферы и мощность Человечества убывают.
Вариант 4. Мощность Человечества и мощность биосферы возрастают.
Четвертый вариант предусматривает совместный рост полезной мощности биосферы и Человечества как единой социально-природной системы. Данный вариант развития в своей сущности является прогностическим выводом В.И.Вернадского, сделанным полвека назад,— о перестройке биосферы в качественно новое состояние — ноосферу, как исторически неизбежном планетарно-космическом процессе.
В чем же проявляется историческая неизбежность этого процесса? Ведь казалось бы это утверждение противоречит современным глобальным прогнозам, в соответствии с которыми существуют «пределы роста» возможностей Человечества. Если масштабы преобразования потребляемой обществом мощности в тепло, т.е. В поток отходов, останутся неизменными, это приведет к нежелательным климатическим последствиям, и в конечном счете сделает жизнедеятельность на земле невозможной.
Кроме того, развитие на Земле ограничено запасами энергоресурсов планеты. При существующих в настоящее время темпах роста суммарной мощности биосферы и Человечества и при условиях сохранения этих темпов в будущем, можно ожидать, что в XXII веке мощность системы «биосфера—общество» станет равной мощности солнца на поверхности земли. Эта ситуация названа рядом авторов «тепловым барьером», представляющим по существу критическую ситуацию, «особую точку», о которой было объявлено в конце XIX века.
Значит, пределы роста все же имеются? Не будем спешить с выводами. Дело в том, что если бы земля была закрытой системой, не способной обмениваться веществом и энергией с космической средой, то единственным средством продлить существование Человечества на земле было бы замедление темпов роста. Этого можно было бы достичь посредством прекращения экстенсивного роста и перехода на интенсивный путь, т.е. Посредством прекращения роста за счет увеличивающегося потребления. Благодаря этому можно было бы отодвинуть дату критического периода на сотни лет, но именно отодвинуть, а не устранить. Безусловно, интенсивный путь — мощное средство. Однако и он не обеспечил бы устойчивого развития Человечества, если бы наша планета была закрытой системой. Но Земля — открытая система, благодаря чему и существует жизнь и для выхода из критической ситуации Человечество вынуждено будет расширить пространственные границы жизни. Возможно, что при такой ситуации Человечество будет иметь дело со второй планетарно-космической особой точкой, в терминологии Тейяр де Шардена — точкой существования жизни на Земле, вторым качественным скачком в планетарно-космической истории живого.
По существу, это качественный скачок в развитии земной цивилизации — ее космическая эра. Человечество с естественно-исторической необходимостью выйдет в космос, образуя уже качественно новую социально-космическую целостность.
Человечество будет иметь дело со второй особой точкой неустойчивого равновесия в планетарно-космической эволюции живого.
Земля — открытая система, а жизнь — планетное явление космического характера. Для выхода из критической ситуации Человечество вынуждено будет расширить пространственно-временные границы существования жизни и перейти в новый класс систем с размерностью выше [L 5 T-5].
Все мы обитатели космического корабля по имени «планета Земля». Да, еще далеко не каждый в состоянии осознать себя элементом бесконечной цепи эволюции космоса, рожденного случаем с необходимостью закона. Мы полагаем, что выяснение смысла жизни и есть выяснение закона, который реализуется душой и разумом, как самого безграничного космоса, так душой и разумом каждой конкретной личности. В идеале — душа и разум личности совпадают с душой и разумом космоса.
Как тут не вспомнить пророческие слова К.Э.Циолковского: «Земля — колыбель Человечества, но не может же оно все время находиться в колыбели».
Право Человечества жить в гармонии с космосом
Человечество прошло большой путь и дорого заплатило за право жить в гармонии с космосом.
Около 4-х миллиардов лет тому назад на земле сложилась первая планетарно-космическая критическая ситуация.
Создались условия для протекания антидиссипативных процессов, способных производить полезную внешнюю работу. Возникла земная жизнь. Эволюционный процесс всегда сопровождался борьбой живых систем за лучшие условия существования, обеспеченные источниками мощности. В основе этой борьбы лежала неравномерность развития, обусловленная рассогласованием темпов их развития, темпов роста их полезной мощности.
Это рассогласование в темпах развития приводило к критическим периодам. В результате побеждали те системы, которые обеспечивали больший темп роста возможностей влиять на окружающую среду.
В мучительном и длительном процессе, длившемся миллионы лет, возник человек, сумевший создать орудие труда и благодаря этому обеспечить больший темп роста потребляемой энергии, чем любой другой вид. Благодаря труду в человеке стала развиваться способность мыслить. По мере развития научной мысли человек все больше начинал осознавать свое единство с природой и понимать, что окружающий мир и он сам — единый процесс, части которого взаимно связаны и закономерно развиваются. Становилось все яснее, что причиной различных проблем, конфликтов, кризисных ситуаций является рассогласованность развития частей единого целого. Эта рассогласованность или неравномерность развития частей целого и приводит к столкновению людей, государств, возникновению критических периодов, конфликтов и войн. Со временем возникло понимание, что природа и общество — также единое целое, но развитие частей этого целого не согласовано. Возникло понимание исторической необходимости согласовать все части социальной и природной системы в единый социально-природный процесс.
Вполне возможно, что Человечеству предстоит пройти вторую планетарно-космическую критическую точку. И оно должно быть готово взять на себя ответственность за сохранение жизни на земле, должно быть готово к выходу в космос. Но на это Человечество должно иметь право.
Здесь возникает совершенно законный вопрос: «Какими правами обладает Человечество в целом?»
О кодексе прав Человечества
Существуют права человека и это огромное достижение мирового сообщества и организации объединенных наций. Но человек и Человечество — понятия разные, хотя и имеют общий корень. Точно так же как законы природы и законы права имеют общее в слове «закон». Но законы права могут быть отменены, а законы природы отменить нельзя ни при каких обстоятельствах. Можно лишь уметь или не уметь ими правильно пользоваться. Точно также можно отменить права человека или одни права заменить другими. Право Человечества как целого сохранять развитие нельзя отменить, как нельзя отменить закон естественно-исторического развития Человечества. Но отсюда не следуют правовые нормы ответственности за судьбу будущих поколений.
В космическом корабле «планета Земля» невозможно обустроить «один отдельно взятый отсек», так как это очень напоминает строительство коммунизма в «одной отдельно взятой стране». Весь вопрос в том, как именно Человечество вступит в космический век, готово ли оно к решению тех проблем, которые возникнут у наших детей и внуков в рамках будущих программ освоения космоса?
С момента выхода человека в космос этот вопрос возник уже не только для тех «одиноких», которые задумались над ним ранее других, но и для тех, кто еще не стал, но становится личностью. Такая постановка вопроса обретает осмысленный вид, если мы задумаемся над тем, какие достояния культуры сохранятся нашими детьми и внуками в их космическом будущем? Само собою разумеется, что для того, чтобы жить — необходимо есть. И еще долго будут существовать люди, которые живут, чтобы есть. Но будет становиться все больше и больше и тех, которые едят, чтобы жить!
Жить, создавая то, что будут сохранять от разрушения наши потомки.
Только перед лицом подобной сверхзадачи можно ослабить совокупность конфликтов, раздирающих Человечество.
Но в рамках этой же сверхзадачи, но уже в качестве составной части ее, стоит задача обустройства и нашего корабля — «планеты земля».
Сказанное выше можно назвать осознанием космической миссии разума. Это осознание и дает общечеловеческий «масштаб» для всех видов человеческих деяний. И вопрос: «зачем, ради чего живешь?» будет становиться все более и более актуальным.
Система жизнеобеспечения для всех людей, населяющих нашу планету, нужна как ныне живущим, так и тем, кто придет после нас. Научный долг состоит в том, чтобы эта работа была начата. История содержит удивительные примеры подвигов и трагедий. Она содержит грозные предупреждения о возможном «суде народов» за преступления против Человечества. С другой стороны, наличие нового уровня понимания исторических судеб Человечества позволяет рассматривать проблему с позиций законов его развития.
В самой простой и обобщенной форме этот закон может быть представлен как неубывающий рост полезной мощности на душу населения: если полезную мощность обозначить «Р», а число людей земли «М», то их отношение M P и будет характеризовать полезную мощность на душу населения. Очевидно, что рост возможностей Человечества может быть обеспечен двумя путями:
либо за счет роста числителя, т.е. Роста полезной мощности;
либо за счет уменьшения знаменателя, т.е. Уменьшения численности населения.
Для того чтобы обеспечить рост числителя требуются идеи, а уменьшение знаменателя означает геноцид населения.
О «золотом миллиарде»
Можно очень просто решить все проблемы Человечества, оставив один «золотой миллиард». Не надо ума — достаточно избавиться от «лишнего балласта».
Таким «балластом» в настоящее время являются 5 миллиардов человек. Естественно, что сознательная ликвидация такого «балласта» является преступлением перед Человечеством. Однако Человечество не имеет защиты от такого рода возможных преступлений. Существуют права человека, но не существуют права Человечества как целого. Отсутствие таких прав означает незащищенность Человечества от возможного геноцида идола недоумков. Эти права необходимо разработать и принять на генеральной ассамблее ООН как основной закон сохранения Человечества.
Проблема стабилизации роста численности населения должна решаться не за счет уменьшения «знаменателя», а за счет роста «числителя» и под контролем неубывающих темпов роста полезной мощности на душу населения. Если общество в состоянии обеспечить такой рост не только в текущее время, но и в перспективе, в том числе и отдаленной,— оно устойчиво развивается, и нет необходимости «уменьшать знаменатель». Но для этого необходимы научные идеи и промышленные технологии, обеспечивающие рост «числителя».
Проблема ограниченности Земли и выход в космос
И тем не менее, не все так просто. Существует проблема ограниченности земли. При сохранении темпов роста населения нетрудно определить то время, когда вес человеческой популяции превзойдет вес земли, и она не выдержит такого груза. Кроме того, все ресурсы планеты ограничены, и она не сможет вечно кормить всех. Здесь и находится ключевое противоречие между устойчивым развитием Человечества и ограниченностью земли.
Казалось бы, ограниченность земли задает пределы существования Человечества. Это было бы так, если бы земля была не только ограниченной, но закрытой от внешней среды системой. Но это не так.
Земля является ограниченной, но не замкнутой системой. Земля является не закрытой, а открытой планетарной системой, непрерывно взаимодействующей с космической средой. И здесь находится ключ к разрешению указанного противоречия. Оно снимается в том и только в том случае, если Человечество продолжит свое существование не только на земле, но и в космосе.
Но это возможно, если творческий потенциал Человечества будет ориентирован и сконцентрирован на создание систем жизнеобеспечения для людей земли с использованием опыта создания таких систем для космических кораблей. Все люди земли находятся на космическом корабле, который называется «планета земля». И поэтому необходимо знать законы движения этого корабля, научиться их правильно использовать, а если необходимо — сконструировать или освоить новый космический корабль.
Сегодня в нашем распоряжении появился инструмент, который позволяет встать на курс концентрации и направленной реализации человеческого трудового и творческого потенциала в интересах космической эволюции жизни на нашей планете. Имя этому инструменту — Русское Космическое Общество.
Созданная в 2017 году, имеющая своей генеральной целью обеспечение условий для прорыва в ноосферно-космическое будущее, эта организация способна оказать решающее воздействие на характер процесса перехода цивилизации в эпоху ее космической истории.
С появлением РКО появилась надежда на то, что Человек способен преодолеть особый период эволюции биосферы, сопряжённый с «родами действительного разума» нашей планеты, с становлением ее ноосферы.
Выводы
- Существуют два взаимосвязанных фундаментальных закона исторического развития:
• закон экономии времени,
• закон роста полезной мощности.
В соответствии с законом — необходимым и достаточным условием непрерывного развития общества являются люди, способные выдвигать и воплощать в жизнь идеи, обеспечивающие рост возможностей общества, удовлетворение его потребностей как неисчезающих, так и новых.
Общество, способное использовать идеи, появляющиеся в сознании отдельного индивидуума, для роста возможностей общества как целого и, использующее рост возможностей общества для формирования индивидуума, способного генерировать новые идеи — будет обладать наиболее быстрым темпом роста возможностей.
Если в результате реализации идей общество обеспечит неубывающий темп роста эффективности использования полной мощности не только для настоящего времени, но и в будущем, то оно сохранит свое развитие не только в данное время, но и в перспективе.
Общество развивается устойчиво, если имеет место хроноцелостный исторический процесс: сохранение неубывающего темпа роста эффективности использования полной мощности во все времена.
Развитие общества является неустойчивым, если оно не является исторически хроноцелостным. Имеет место выполнение условий развития в данное время, но не выполняются условия сохранения неубывающих темпов роста эффективности в будущем.
Вполне возможно, что в обозримом в историческом масштабе времени, Человечеству предстоит пройти вторую планетарно-космическую критическую точку. И оно должно быть готово взять на себя ответственность за сохранение жизни на земле, должно быть готово к расширению своих пространственно-временных границ.
Следует осознать, что лучший способ сохранить свою Землю для будущих поколений заключается в формировании Человека, способного и реализующего свою способность к творчеству во имя развития Жизни на Земле и в Космосе.
Для реализации целей и задач, стоящих перед человечеством в целом, и нашей страной в частности, целесообразно использовать созданный в 2017 году организационный механизм — Русское Космическое Общество (www.cosmatica.org).
4.5. Гершунин С. А. Кризис в физике и борьба двух линий в философии
Определённый общий взгляд на природу, разделявшийся физиками в ту или иную эпоху её исторического развития, всегда внутренне был связан со специфичной для неё в ту же эпоху логикой исследования. Ввиду наличия этой связи, справедливо рассматривать мировоззренческие проблемы интерпретации физических законов и методологические проблемы познавательной, теоретической деятельности в их совокупности.
То, что природа едина в своём многообразии и есть развивающаяся материя,— эта идея диалектического материализма стала общим воззрением современной физики, которое находит отражение не только в её содержании, но и в её методологии и логике. Диалектический принцип развития и принцип единства природы современная физика плодотворно использует в поисках новых явлений и законов, и это не случайно. Ибо материалистической диалектике отводится особая роль: по своей сути — это единственно научный философский метод «… ибо только она представляет аналог и тем самым метод объяснения для происходящих в природе процессов развития, для всеобщей связей природы, для переходов от одной области исследования к другой» [1, c. 367].
Поэтому основная идея данной работы состоит в рассмотрении мировоззренческих и методологических проблем с точки зрения диалектики на примере революции в физике начала XX века, ибо именно ей обязано своим существованием всё современное естествознание.
Революция в физике породила глубокий кризис мировоззрения, который охватил не только всё научно сообщество, но также сказался на всей философской и политической жизни начала XX века. Начиная с 1895 года ряд выдающихся открытий: рентгеновского излучения, естественной радиоактивности, электрона; затем открытие кванта энергии, атома и его структуры; выявление квантованности света, и уже позже корпускулярно-волнового дуализма (не только света, но и элементарных частиц) радикально изменили классические представления о природе реальности. Феномен превращения вещества, понимавшегося как синоним материи, в энергию даже убеждённые марксисты интерпретировали как крах прежних базовых представлений и перешли в лагерь идеалистов. Среди большевиков только В.И.Ленин, а среди меньшевиков только Г.В.Плеханов твёрдо отстаивали принцип материализма. Как справедливо отмечал Э.В.Ильенков в философии «…как в семени, как в генах затаены ещё не развернувшиеся, но достаточно чёткие контуры и схемы будущих позиций (и разногласий) по конкретным животрепещущим проблемам, как сегодняшним, уже сформировавшимся, так и завтрашним, едва начинающим обрисовываться» [2, c. 14]. Определение материи (отделившейся от понятия вещества) как объективной реальности, данной в ощущениях, сформулированное В.И.Лениным позволило преодолеть мировоззренческий кризис и вернуть науку в лоно материализма.
С другой стороны, абстрагируясь от мировоззренческих интерпретаций, те методы и формы, которые использовались великими физиками век назад для преодоления кризиса и теоретического обобщения новейших научных достижений актуальны и сегодня. Хотя бы в силу того, что существуют базовые универсальные средства, которые А.И.Герцен метко назвал «алгеброй революции» и которые в силу этого и сегодня могут быть применимы в целях создания новых теоретических построений. Движение в науке происходило за счёт возникновения парадоксов. Так, к тезису добавлялся антитезис, и в результате диалектического снятия, иллюстрирующего закон отрицания отрицания, синтезировалось новое знание. Примером может послужить квантовая механика, появившаяся в результате разрешения «противоречия встречи» классической корпускулярной механики и классической волновой теорией. Другой пример, специальная теория относительности Эйнштейна, родившаяся в результате разрешения противоречия между принципом относительности Галилея и принципом независимости скорости света в вакууме. По словам Н.Бора, в каждом новом шаге физике, который, казалось бы, однозначно следовал из предыдущего, Эйнштейн отыскивал противоречия, и противоречия эти становились импульсом, толкавшим физику вперёд. По признанию Н.Бора, лишь благодаря диалектическим приёмам мышления ему удавалось в своих исследованиях преодолевать ограниченные рамки позитивистской философии.
Таким образом, диалектика — это неотъемлемое свойство всякого творческого мышления. Но мало просто знать, что такое диалектический метод мышления, необходимо освоить его, и освоить не в форме результатов нынешних достижений философской науки, а освоить их вместе со своим становлением. «… А для этого,— говорил вслед за Гегелем Ф.Энгельс,— не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения всей предшествующей философии» [1, c. 366]. В историческом развитии раскрывается сущность предмета.
Литература
Энгельс Ф. Диалектика природы // К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.20.— М.: Политиздат, 1961. 827 с.
Ильенков Э.В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. М.: Политиздат, 1980. 175 с.
Омельяновский М.Э. Аксиоматика и поиск основополагающих принципов и понятий в физике // Вопросы философии, 1972 №8, С.74–85.
4.6. Дроздов Б. В. Проблема искусственного интеллекта и природа мышления по Э.В. Ильенкову
Проблема искусственного интеллекта рассматривается в настоящей работе с позиции деятельности человека в производственно-экономической и организационно-управленческой сфере. Ведущим в этой области является инженерный взгляд на то, что в интеллектуальной деятельности человека в указанных сферах может быть эффективно выполнено техническими средствами, а что может и должно быть оставлено за человеком. Естественным представляется также то, что этот взгляд должен при выборе методологической позиции учитывать представления о таких высоких категориях, как интеллект, мышление, ум, рассудок, сложившиеся в научной философской среде. Одним из ведущих отечественных ученых философского направления, разработавших в своих трудах развернутые и убедительные представления об этих высоких понятиях, был Эвальд Васильевич Ильенков [1].
Наступивший XXI век получил название эпохи новых индустрий, цифровой экономики, связанных с широким внедрением так называемых систем искусственного интеллекта (ИИ). Широкое распространение термина интеллект (русского — Ум) на бытовом уровне привело к появлению таких понятий (наравне с применением прилагательного интеллектуальный), как «умный город», «умный дом», «умный» транспорт. Распространение этих понятий, в которых применяется прилагательное «умный» к различным объектам современной действительности, порождает много фантазий, мифов, иллюзий и необоснованных надежд, связанных с широким применением слов о цифровых технологиях и так называемых систем ИИ. Это в определенной степени оказывается результатом известного из лингвистики явления гипостазирования, когда какому-либо достаточно отвлеченному понятию придают смысл самостоятельного бытия. Как писал С.Г. Кара-Мурза «склонность к гипостазированию, т.е. к приписыванию реального содержания построенным в уме конструкциям,— худший враг логического мышления» [2].
В сфере научно-технической реальности цифровые технологии связаны с процессами сбора, передачи, хранения, обработки и представления информации. Эти технологии имеют отношение к данным, т.е. к сведениям, принятыми, понятыми и оцененными полезными человеком. Единственным субъектом в этих процессах (т.е. в процессах понимания и оценки полезности) является человек. Без человека смысл информации, ее хранения и обработки теряется. Но человек принимает, понимает и оценивает для себя полезность только той информации, которая представляется для него в естественной форме — т.е. в форме словесной (текстовой), звуковой, визуальной, графической. Принятые в цифровых технологиях представления данных (дискретные, квантованные по времени и по уровню, использующие двоичную системы кодирования) предназначены для передачи, хранения и обработки этой информации в технической среде комплексов средств передачи, хранения и обработки данных. Эти представления имеют сугубо технологический характер для систем связи и вычислительной обработки данных.
Давая оценку современному состоянию решения проблемы искусственного интеллекта и распространенным в массовом сознании представлениям о цифровой экономике, цифровых (т.е. «умных») городах, заводах и фабриках, исключительно актуальными являются сейчас высказывания Эвальда Васильевича Ильенкова о природе человеческого интеллекта и мышления. Они помогают внести в массовое общественное сознание ясность и трезвость представлений о том, что такое естественный, данный от природы человеку интеллект, что такое его ум и мышление. Эти высказывания полностью подтверждают современные представления отечественных профессиональных инженеров этой области [3]. Но ссылки на высказывания известного и авторитетного отечественного философа придают мнениям профессионалов больший вес и убедительность в публичной сфере.
Большинство ученых и инженеров, занимающихся проблемами ИИ, понимает, что интеллект, т.е. способность мыслить, рассуждать, думать,— есть уникальная способность человека, воспитанного в культуре социума и погруженного в этот социум. Эта способность воспитывается и развивается социумом в окружении интеллектуальных достижений этого социума. Такая способность, т.е. способность мыслить, не передается автоматически по наследству, а формируется окружающей человека культурой. Именно об этом и писал на эту тему Э.В. Ильенков [1]: «…не каждый — и даже весьма умный — понимает, что «ум», умение думать, способность умело мыслить,— это способность, которая вовсе не достается человеку даром, а есть умение, которое каждый человек может и должен сам в себе воспитать, развить, постоянно тренируя орган мышления — мозг — с помощью соответствующих упражнений».
И далее Э.В. Ильенков продолжает: «Однако мозг сам по себе, в том виде, в каком он был подарен нам матушкой природой, способен «мыслить» так же мало, как кусок мрамора — превращаться в статую».
«Мыслит не мозг,— рассуждает Э.В. Ильенков,— мыслит человек с помощью мозга, и способность делать это не только «развивается» (в смысле «совершенствуется»), а и возникает впервые только вместе с приобщением вновь пришедшего в мир человеческого существа к общественно-человеческой культуре, к знаниям, добытым трудом предшествующих поколений».
Именно так способность мыслить понимает и инженер, но только большой философ, такой авторитетный и всемирно почитаемый, как Э.В. Ильенков, может это так образно, доходчиво и убедительно выразить словами.
То, что делает инженер и работающий по его заданию математик-программист, пытаясь заменить выполнение некоторых функций человека компьютером (машиной),— это не создание искусственного интеллекта, это вообще не создание какого-то другого, отличного от человеческого, интеллекта. Это не производство инструмента (или механизма) для мышления или «думания»,— это создание и внедрение автомата, который должен делать то, что запрограммировано инженером в меру своего понимания выделенной им для автоматизации человеческой функции. Это вообще, с его точки зрения,— не мышление, это рутинные операции по воспроизводству запрограммированных действий. Т.е. человек, применяя свои способности мыслителя, вычленяет из своих собственных осознанных действий рутинные, а потом доверяет их машине, специально им созданному автомату. Но то, что выполняется уже этим автоматом, нельзя строго говоря, называть мышлением. Мышлением было то, что предшествовало созданию этого автомата. Ясно, что для того, чтобы обеспечить выполнение рутинных операций машиной, человек, занимающийся этим, должен предварительно много и напряженно думать. Программу действий пишет программист на основе разработанного инженером алгоритма. А этот алгоритм придуман инженером после выполнения установленной последовательности этапов. В состав этой последовательности входят следующие этапы [4]: концептуализация, технологизация, формализация, алгоритмизация, программирование. На каждом из этих этапов выполняется совокупность сложных интеллектуальных действий. До перехода к этапу алгоритмизации может возникнуть масса сложностей, которые преодолеваются за счет упрощения (намеренного или непреднамеренного, но допустимого искажения исследуемого процесса). Поэтому даже созданный в итоге автомат свои функции выполняет с определенной степенью приближения к изначально заданным. Этот автомат выполняет только так называемые рутинные функции, поскольку только такие функции технологизируемы, формализуемы и алгоритмизируемы. Таким образом, фактически то, что обыденным сознанием называется созданием системы ИИ, на самом деле есть рутинное подкрепление, автоматизация выполняемых человеком функций (процессов, процедур, операций). Рутинная часть работы здесь выполняется автоматом (машиной), а творческая остается за человеком.
На человека в конечном итоге возлагается выполнение множества интеллектуальных по своей сути функций. К ним относятся: контроль деятельности созданных автоматов, тестирование, наладка и техническое обслуживание, ремонт, реконструкция и развитие всего машинного и компьютерного хозяйства. Творческая часть работы человека-оператора сосредоточивается на мыслительной сфере, которая по своему объему, после произведенной автоматизации, только расширяется, раскрывая новые, до этого периода неизведанные им горизонты мысли.
Актуальной в итоге оказывается проблема оценки того, что качественно нового и полезного получилось в большой производственно-хозяйственной системе после широкой автоматизации, т.е массового внедрения систем ИИ, которые берут на себя выполнение рутинных функций. Становится ли при этом данная система более интеллектуальной, более «умной». Можно показать, что в ряде случаев система может оказаться и менее совершенной, менее интеллектуальной, если снизился в итоге уровень интеллектуальной поддержки (т.е. уровень поддержки естественным интеллектом) всего процесса функционирования этой системы.
Э.В. Ильенков совершенно справедливо, как философ, считает, что любой мыслящий, т.е. умный, другими словами,— диалектически мыслящий человек, всегда внутренне полемизирует сам с собой, выявляет и пытается разрешить выявленные противоречия [1]. Ничего подобного никакой так называемый ИИ не делает и делать этого не может, потому, что его этому не учили, а человек, который, образно говоря, должен его этому научить, сам не знает и не понимает, как все это делается.
Проблема создания ИИ упирается также в грандиозную социальную проблему того, какой интеллект выбрать для изучения с целью организации потом его машинного подражания (воспроизведения). Современный социум формирует интеллект как созидательный, так и разрушительный. Причем, до сих пор нет общего понимания того, где проходит граница между созиданием и разрушением. Все упирается во внутреннее устройство социума, в его критерии, ценности и идеалы. Некоторая часть социума, например, считает, что правильным, оправданным, показательным является стремление ликвидировать как можно больше «неверных», или освободить землю от так называемых «лишних людей»». В социуме борются две тенденции трансформации естественного интеллекта — тенденции (направления) его развития и деградации. Поэтому, возникает проблема выбора интеллекта для последующего его детального изучения, чтобы потом искусственно воспроизвести его отдельные функции для будущего человечества. Машинное выполнение отдельных функций естественного интеллекта является только воспроизводством уже ранее детально продуманных действий человека, сведенных к последовательности формальных операций. Учет всех тонкостей, нюансов, особенностей, не подлежащих формализации и не доступных для такой формализации, возлагаются на человека. При традиционной схеме действия (т.е. без автоматизации) рутинная и интеллектуальная составляющие деятельности психологически органично совмещается в труде отдельного человека или коллектива деятелей. Происходит органичное, естественное погружение в ситуацию оперативного управления. Рутинная составляющая деятельности специально не вычленяется, а часто наоборот,— тесно связывается с интеллектуальной. В случае водителя такси, работающего с навигатором, возникает соблазн довериться командам навигатора, потеряв при этом бдительность и ответственность. С другой стороны, массовое внедрение навигаторов понижает допустимый уровень профессиональной квалификации, что повышает риск неверных или даже опасных действий при нештатных ситуациях.
Всякая деятельность по созданию ИИ объективно упирается в естественные, объективные ограничения, так называемые пороги (преграды) автоматизации (рутинизации, интеллектуализации). Первая группа порогов (ограничений) автоматизации имеет методологический характер. Она возникают при прохождении создателем систем ИИ принятых технологических этапов при выполнении работ по автоматизации.
Первым из этих порогов создания ИИ является ограничения понимания создателем ИИ сущности самого естественного (природного) интеллекта. Все здесь начинается с концептуализации естественного (истинного) интеллекта. На этом этапе формируются начальный (предпонятийный) образ того, что здесь является интеллектуальным действием. Этот начальный образ должен далее получить строгое понятийное наполнение («шлифовку» понятия). Должен быть выбран, отработан понятийный аппарат и определена структура (т.е. состав и взаимосвязи понятий). Должен быть проведен семантический анализ всей совокупности понятий, сформированы смысловые метафорические схемы (концептуальные схемы). Но начального понимания (концептуального понимания — концептуализации) еще совершенно не достаточно для перехода к созданию ИИ.
Появляются новые ограничения при автоматизации. Они возникают на следующих (после концептуализации) этапах — технологизации, формализации и алгоритмизации. На этапе технологизации выделяется последовательность (и взаимосвязи) действий (включая предмыслительные и мыслительные действия). Эта последовательность обозначается в объективной, т.е. в зафиксированной, доступной для понимания, воспроизведения и обучения форме. Обозначенная технология (состав и взаимосвязи действий) далее должна подвергаться формализации. На этом этапе возникают новые и достаточно принципиальные ограничения. Здесь должен быть выбран, из уже существующего (наличного) или создан новый, ранее не существовавший, формальный инструментарий (формальный аппарат). С его помощью должна быть описана (зафиксирована в объективной форме) вся выявленная технология. Здесь принципиальным является качество формального аппарата, применяемого на этапе формализации, т.е его адекватность, полнота, однозначность. В качестве наиболее распространенного формального аппарата здесь используется аппарат математики. А таких математических аппаратов существует много разных, и каждый из них имеет свой уровень адекватности по отношению к отображаемым явлениям и процессам. На этом этапе могут применяться и другие инструментальные средства, например, когнитивная графика, в частности,— язык Форпост, процессные схемы системного анализа, сетевые схемы) [5].
Формально описанная схема технологии позволяет перейти к этапу составления алгоритма, на основании которого будет создаваться программа для ЭВМ. С учетом допущенных упрощений на всех выполненных этапах (концептуализации, технологизации, формализации и алгоритмизации) на долю созданного ИИ будет приходиться выполнение функции, которые должны быть отнесены к классу рутинных, т.е. выполняемых по определенной программе. Таким образом, работы по созданию ИИ, по своей сути, являются созданием рутинного подкрепления мыслительных функций, которые остаются за человеком.
После того, как на всех предыдущих этапах было сделано вычленение рутинных функций в мышлении, которыми ранее был занят человек, в этой сфере мышления для человека — разработчика ИИ потенциально открываются новые горизонты, другие просторы, до которых ранее (до этапа рутинизации) у человеческого интеллекта «не доходили руки». В идеале должны открыться глубинные горизонты человеческого сознания, в которые теперь должен погружаться человеческий интеллект. Таким образом, начальная автоматизация (создание ИИ) не облегчает человеческую интеллектуальную работу, а наоборот,— нагружает его более серьезной, более интеллектуально сложной работой. Передавая машине рутинные функции, человек не облегчает себе жизнь, а наоборот,— создает себе новые проблемы, решение которых оказывается более значимыми, более принципиальными для развития человеческой цивилизации. Автоматизация (т.е. рутинизация функций) потенциально только возвышает человека, продвигая к решению более значимых задач и проблем, потому, что ранее человек не мог освободиться от этой рутины. Она (выделенная рутина) его затягивала, отвлекала, не давала возможность, как традиционно представлялось, заниматься главным.
Какие еще естественные ограничения стоят на пути создания действенных, качественных и эффективных систем ИИ? Эти ограничения находятся в социальной сфере и они создаются такими субъектами работ по интеллектуализации (а на самом деле,— автоматизации), как заказчик, спонсор, финансист, собственник, разработчик, изготовитель и оператор искусственного интеллекта. Собственник, заказчик и спонсор (финансист) определяют для разработчика цель и задачи создания ИИ, предметную сферу человеческой деятельности, которая должна быть ареной разработки и применения ИИ. Они же определяют ограничения и запреты на сферу исследований и разработок, глубину и характер погружения в эту предметную область. Эти же социальные субъекты четко определяют для разработчика границы того, что принято называть «коммерческой тайной», за которую категорически запрещено заходить. Все вышеуказанные субъекты действия руководствуются собственными интересами, которые чаще всего не афишируются и официально не провозглашаются. Разработчики систем ИИ могут только догадываться об этих интересах и по складывающейся ситуации учитывать их при создании систем ИИ.
Например, за ситуацией широкого привлечения так называемых агрегаторов таксомоторного обслуживания населения может скрываться экономический интерес массового привлечения к работе в качестве таксистов иногородних водителей или так называемых гастербайтеров, представляющих для работодателей и арендаторов таксомоторного транспорта «дешевую рабочую силу». Существует также постоянный интерес расширения рынка продажи массово выпускаемых легковых автомобилей для больших городов. Негативным результатом удовлетворения этих материальных по своей сути интересов может быть рост загрузки улично-дорожной сети легковыми транспортными средствами, снижение профессионального уровня водителей легковых автомобилей, повышение аварийности на дорогах города и снижение качества и надежности обслуживания населения транспортными услугами. С формальной позиции внедрение ИИ в сферу таксомоторного обслуживания населения должно привести к созданию так называемого «умного» такси. Такое интеллектуальное такси управляется с помощью компьютерного спутникового навигатора. Этот автомат, который на основе введенной в него информации об улично-дорожной сети (УДС) и действующих правил дорожного движения (ПДД), данных о местоположении авто на основе полученных транспортным средством со спутников сигналов, решает формальную задачу выбора маршрута и движению по нему. Он не учитывает возможную неточность получаемой информации об УДС, реальную ситуацию на участке УДС, сбои в используемом оборудовании и многое другое. Можно ли в итоге считать такое такси «умным», а всю транспортную систему города (с ее заторами, пробками, проблемами) интеллектуальной? Следует при этом учитывать, что в этой интеллектуальной транспортной системе (ИТС) (т.е. считающейся «умной») реализуется не самая эффективная (т.е. «умная») система решения транспортной проблемы перевозки пассажиров в городе «от двери до двери». Она не гарантирует надежность и безопасность перевозки, минимизацию транспортных затрат, энергетических затрат и экологическую безопасность, включая минимизацию выброса в атмосферу вредных для человека газов, минимизацию транспортного шума, освобождения зеленых насаждений скверов и парков от стоянок вечно припаркованных автомобилей.
Что такое «Умный город» сейчас? Город заставлен на каждом перекрестке и перегоне камерами наблюдения, системами распознавания лиц и номеров автомобилей, фиксации и регистрации передвижений и стоянок, пересадок, покупок, снятия и перечисления денежных средств и счетов. А существует ли в этом «умном» городе, где все, как следует из его названия, должно быть организовано «по уму»,— умная система расселения, умная система воспитания, образования и трудоустройства. Существует ли в нем умная система сбора и утилизации мусора, умная система жилищно-коммунальных услуг?
Таким образом, за каждой созданной и внедренной в эксплуатацию системой ИИ скрываются интересы, профессиональная квалификация или ее отсутствие таких социальных субъектов действия, как разработчик, изготовитель средств ИИ и оператор. На качество и эффективность систем ИИ влияют и другие субъекты действия, такие как обслуживающий персонал технических средств систем ИИ от программиста и до уборщицы служебных помещений со своим интеллектом. Эта уборщица, неосторожными действиями своего веника или швабры, может нарушить всю систему электропитания комплекса интеллектуальных роботов, превратив их в груду металлического лома.
При создании и массовом внедрении систем ИИ в реальные области промышленно-производственной и социально-культурной деятельности необходимо проанализировать и реально оценить как позитивные, так и возможные негативные последствия такого внедрения ИИ для социально-экономической сферы. Очевидно, что системы искусственного интеллекта (ИИ), их качество и эффективность оказываются зависимыми, а иногда и прямо определяемыми сложившейся общей культурой социума. Определяющими являются такие социо-культурные качества этого социума, как дисциплинированность, ответственность, обязательность, пунктуальность, добросовестность, мобилизационная готовность, квалификация, опыт и многое другое. Могут проявиться также такие негативные, скрытые даже от сознания человека, качества, как безответственность, легкомыслие, невнимательность, безалаберность, безрассудство, безрассудная лихость и др. [6]. Внедрение систем автоматизации и ИИ в конечном итоге может приводить к негативным, никак не предусмотренным проектом этих систем и не ожидаемым, последствиям. Человек, который проектирует машину-автомат (так называемый ИИ), исходит из условия нормального, штатного, регламентированного инструкциями действия оператора данной системы. Он не всегда может предусмотреть ситуации, когда оператор этого автомата будет действовать неадекватно. Тогда ситуация реально может выйти из под контроля и даже привезти к катастрофе. Существует множество примеров того, когда из-за ошибок или неадекватных действий операторов автоматизированных систем происходят тяжелейшие техногенные катастрофы [7]. Существуют и противоположные примеры того, когда подобные катастрофы возникают по причине неадекватности (ошибочности) действий самих систем ИИ (например, автопилотов, авторулевых), тогда как действия живого оператора не могли бы привести к таким катастрофам. Характерным примером такого случая является авиакатастрофа, произошедшая с авиалайнером Боинг-737-Max 10 марта 2019 года в Эфиопии. Причиной катастрофы явилась ошибка программного обеспечения системы автопилота лайнера (т.е. дефект конструкции системы ИИ). Тогда погибли все, находящиеся на борту (157 чел., в т.ч. 149 пассажиров). Не предусмотренная проектом системы возможность отключения автопилота и перехода на обычное ручное управление позволила бы исключить данную катастрофу.
Особую опасность могут представлять ситуации, в которых автоматы, управляющие техническими комплексами (транспортными единицами), действуют одновременно и вместе с машинами, полностью управляемыми людьми (операторами, автоводителями). Примером может послужить система улично-дорожного движения, в которой «равноправно» участвуют автомобили-роботы («автодроны») и автомобили, полностью управляемые людьми. Условно говоря, «картины мира» этих роботов и реальных живых водителей принципиально не совпадает, они совершенно разные, в итоге могут возникать трудно предсказуемые катастрофические ситуации.
Особо большие проблемы возникают при внедрении систем ИИ в большие организационные системы, в которых действует, развивается и трансформируется то, что обозначается понятием коллективного интеллекта, коллективного ума. Здесь многое зависит от организации работы коллективного разума, от социально-культурной атмосферы социума. Исторический опыт показывает, что такая организация может обеспечить развитие и возвышения интеллекта, а может приводить и к росту невежества.
Бывают ситуации, когда концентрация на отдельно взятой территории большого количества индивидуально «умных» субъектов еще не гарантирует наличие большого ума во всем этом организационном образования.
Исторические факты свидетельствуют, что в социуме в процессе его исторического развития проявляются не только позитивные (в интеллектуальном смысле) явления и тенденции, но и негативные, деградационные, разрушительные. Могут развиться рецидивы одичания и озверения. Достаточно обратиться к событиям шестидесятилетней давности, когда в центре интеллектуальной мысли великой страны, на философском факультете МГУ [8].
Но как бы оценили наблюдатели той поры (60 летней давности) повсеместную клерикализацию нашего общественного сознания в сегодняшней России? Не использовали ли бы они такого определения как мракобесие для сегодняшней ситуации в современном мировоззрении?
Мы не знаем и можем знать, как через следующее 64 года (в 2083 году) наши потомки будут характеризовать все события с внедрением ИИ (интеллектуализацией, цифрофизацией) в нашу сегодняшнюю жизнь.
Таким образом, сфера исследования, разработок и внедрения ИИ в общественном сознании окружена плотным облаком фантазий, устойчивых и общих иллюзий, мифов и заблуждений. Вокруг проблемы ИИ иногда происходит прямой разгул фантазий на фоне роста невежества. Об этом Эвальд Васильевич Ильенков писал в своей книге «Об эстетической природе фантазии. Что такое зазеркалье», вышедшей в сборнике «Наследие мировой философской мысли» [9].
В заключении можно отметить, что только построив и внедрив системы искусственного интеллекта, человечество начинает понимать, как мало мы знаем о нашем интеллекте и мышлении, о природе человека и общества. И после осознания этого начинается реальное развитие человеческого интеллекта и всего социума, владеющего, порождающего и развивающего этот интеллект.
Как мудро высказывался Э.В. Ильенков «…философия давно установила — и это столь же бесспорно, как дважды два — четыре, что реальная жизнь с ее радостями и горестями все-таки важнее, чем знание о ней» [1].
Литература
Ильенков Э.В. Думать, мыслить… Сб. «Общество и молодежь», Москва, 1968, с. 258–279.
Кара-Мурза С.Г. Потерянный разум, Москва, ЭКСМО «Алгоритм», 2005. (стр. 37. Л. Фон Мизес «Склонность к гипостазированию, т.е. к приписыванию реального содержания построенным в уме конструкциям,— худший враг логического мышления»)
Интеллектуальные системы автономных аппаратов для космоса и океана и метод технико-биологическиз аналогий. М. 1997. РАН, ИПУ, ИПМ, Геологический институт, Ин-т почвоведения и фотосинтеза, Ин-т географии, Сибирское отделение РАН, Убсунурский международный центр биосферных исследований. Научный редактор проф. Бугровский В.В. с. 213.
Дроздов Б.В. Введение в проектирование организационных технологий.— М.: Компания Спутник +, 2005.— C. 136.
Беляев И.П., Капустян В.М. Процессы и концепты. Москва, 1997, ТОО «СИМС», с.396.
Дроздов Б.В. Социальные корни техносферных катастроф. Сборник «Культура. Народ. Техносфера», Выпуск 8, -М:, «Спутник», 2015, с. 136–149.
Беззубцев-Кондаков А.Е. Почему это случилось? Техногенные катастрофы в России.— СПб.: Питер. 2010.— с. 288.
Акт проверки отделом науки и культуры ЦК КПСС совместно с МГК КПСС идейно-воспитательной работы на философском факультете МГУ. 29 апреля 1955. Зав. Отделом науки и культуры ЦК КПСС. Румянцев А.
Ильенков Э.В. Об эстетической природе фантазии. «Панорама», 1967, с. 25–42.
4.7. Зайцев Е. А. Законы природы как законы ее преобразования: технические истоки понятия инерции
История науки, рассматриваемая не как перечень открытий, определивших ее современный облик, но как сложный, внутренне противоречивый процесс, может служить инструментом конкретизации ключевых тезисов диалектики.
Одним из таких тезисов является гегелевское положение о «снятии» противоречий предмета на последующих стадиях (уровнях) его развития. У Гегеля понятие «снятие» является настолько общим, что под него подпадает практически все: всякое подлинное развитие предполагает преодоление и одновременно сохранение его предпосылок. «Снятие означает сберечь, сохранить и вместе с тем прекратить, положить конец» [1, с. 99]. При столь широком толковании понятие снятия рискует остаться на уровне абстрактно-общего, т.е. быть, по сути, нерабочим. Чтобы придать ему конкретный смысл, обратимся к анализу реального развития научных теорий.
Реконструкция этого развития невозможна, однако, без обращения к материальной практике. Даже если мы восстановим противоречивый генезис научного знания, зафиксировав ключевые параметры «снятия» его предпосылок, этого будет недостаточно. Для вскрытия подлинных мотивов, определяющих характер снятия предпосылок развития научных теорий, нужно воспользоваться другим диалектическим тезисом, восходящим к молодому Гегелю («Иенская реальная философия») и Марксу, согласно которому, необходимым условием раскрытия всеобщего содержания природы является ее целенаправленное изменение человеком. Наиболее четко эта мысль сформулирована в афоризме Э.В. Ильенкова, согласно которому идеальное природы по существу сводится к идеальному содержанию процессов ее преобразования человеком: законы природы суть не что иное, как законы ее искусственного (технического) преобразования [2, c. 228]. Диалектическая традиция, однако, не останавливается на простой констатации этого положения, но существенно конкретизирует его, указывая на наличие материальных форм, являющихся носителями идеального содержания природы (= содержания ее преобразования). Носителями идеальных законов, по которым происходит преобразование природы, являются по Гегелю и Марксу материальные предметы особого вида — орудия труда, при помощи которых осуществляется преобразование природы. Именно в форме орудий, которые субъект помещает «между» собой и предметом труда, наиболее выпукло явлено идеальное ядро трудового процесса. На стороне субъекта и предмета труда идеальное содержание этого процесса трудноуловимо вследствие того, что и тот, и другой по окончании этого процесса оказываются существенно измененными. В отличие от них, орудие не подвержено изменению, оно есть константа процесса труда. Отсюда следует, что превращение законов природы в предмет научного знания обусловлено обретением орудиями этого преобразования подходящих форм. Для раскрытия логики развития науки необходимо покинуть область научно-философских спекуляций и обратиться к реальной практике преобразования природы, попытавшись обнаружить в этой практике такие действия или точнее, такие орудия, используемые в этих действиях, в которых — еще до всякой науки — уже состоялось воплощение идеального содержания природы. То, что обретает форму теоретического понятия, должно сначала предстать в форме вполне материального предмета — конкретного орудия труда.
Эти два тезиса задают методологическую канву, по которой можно вышивать самые разные конфигурации в зависимости от исследуемой области. Мы попытаемся конкретизировать их на примере теоретической механики — науки о перемещении твердых тел в пространстве. При этом мы ограничим рассмотрение ключевым периодом ее развития — эпохой становления классической механики в XVII в. В качестве конкретного сюжета будет рассмотрено формирование одного из важнейших понятий этой дисциплины — принципа инерции.
Свойства инерциального движения определены первым законом Ньютона, согласно которому тело, на которое не действуют силы, сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Если первая принципа инерции — о сохранении покоя — не вызывает сомнений, то вторая — о сохранении движения — напротив, представляется проблематичной. Повседневный опыт свидетельствует, что в отсутствии поддерживающей силы траектория движения искривляется, а само оно прекращается.
В современной механике закон инерции не подвергается сомнению по единственной причине: основанные на нем вычисления приводят к правильным практическим результатам. Однако, если принцип инерции a priori сомнителен, а его практическое оправдание сугубо апостериорно, то какими мотивами руководствовались творцы классической механики, сформулировавшие его в XVII в. в качестве общезначимого «закона природы»? Ведь настоящие аргументы в пользу принципа инерции появились только в XVIII в., когда на его основе были рассчитаны траектории движения планет. Очевидно, что за принятием принципа инерции стояло убеждение в его истинности, истоки которого ускользают при подходе к истории механики с позиции плоского позитивизма. Ибо последний не справляется с тем фактом, что развитие принципа инерции носит противоречивый характер.
Выражается это, прежде всего, в том, что непосредственными «предшественниками» принципа инерции в его классическом варианте были два инерциальных тезиса, которые ему формально противоречат.
Согласно первому тезису, которого придерживался, например, ранний Галилей, а также многие другие творцы новой механики, инерциальное движение имеет своей причиной действие некоторой внутренней силы, которая вложена в движущееся тело. По традиции, идущей от средних веков, эту силу нередко называли импетусом. Теория импетуса появилась в средние века в качестве альтернативы аристотелевскому представлению, согласно которому движение тела в отсутствии контакта с движущей силой осуществляется под действием окружающей среды. Этот вариант принципа инерции противоречит его классической версии, согласно которой инерциальное движение осуществляется в отсутствии силы. Равномерное движение в условиях действия силы также невозможно и по второму закону Ньютона, в котором говорится о том, что сила изменяет «форму» движения, вызывая его ускорение или замедление.
Второй исторический «предшественник» закона инерции — это положение о том, что движение по инерции может происходить не только по прямой траектории, но и по круговой (так называемая «круговая инерция»). Противоречие состоит в том, что в классической ньютоновской формулировке инерциальное движение осуществляется по прямой линии. Звучит парадоксально, но принцип круговой инерции разделяли практически все творцы новой механики — Дж. Б. Бенедетти, И. Бекман, Р. Декарт, П. Гассенди и даже сам И. Ньютон (в печатной версии «Математических начал натуральной философии», равно как и в подготовительных набросках, мы находим прямые указания на действие этого принципа). Любопытно, что Галилей считал, что инерциальным может быть только круговое движение, причем специального вида — движение-качение шарика по гладкой сферической поверхности, центр которой совпадает с центром Земли. Сходной точки зрения придерживался Т. Гоббс (подробнее о круговой инерции см. [3]).
Возникает парадокс. С одной стороны, положение о наличии внутренней силы, обеспечивающей инерциальность движения, и тезис о круговой инерции являются важными историческими источниками классического принципа инерции. С другой стороны, в окончательном варианте этого принципа обе эти предпосылки оказываются упраздненными. В классической механике инерциальное движение не требует силы, а движение по окружности не может быть инерциальным, ибо обладает (центростремительным) ускорением.
В конечном итоге представление о внутренней силе, поддерживающей продолжающееся движение, трансформируется в понятие механического момента (количества движения), который не причиняет движение, но является его следствием. Идея импетуса, как причины движения, тем самым упраздняется, но одновременно и сохраняется в виде представления, которое относится теперь не к силе, обеспечивающей движение, а к возможности действия, совершаемого находящимся в движении телом, например, при его столкновении с другими телами. В этом состоит снятие идеи импетуса.
Параллельно идет снятие идеи круговой инерции. С одной стороны, она отвергается указанием на то, что только инерциальным может быть только прямолинейное движение. С другой стороны, свойства, присущие круговому движению по инерции, оказываются впоследствии распространенными на инерцию прямолинейную. Важнейшим из этих свойств является то, что инерциальное движение не требует присутствия силы. Соответствующая идея «отрабатывается» сначала на круговом движении.
Обратимся к вопросу о том, в силу каких обстоятельств одни представления об инерции сменяют другие? Руководствуясь тезисом, что предпосылкой понятийного оформления всеобщего содержания природы является его материализация в орудиях труда, проанализируем некоторые виды технических, искусственно созданных движений. Наш основной тезис состоит в том, что появление идеи инерции стало возможным после и на основе практического освоения технических движений специального вида, обладающих ярко выраженными инерциальными свойствами. Речь идет о движениях-вращениях твердого тела вокруг неподвижной оси. В современной теории механизмов и машин такому движению соответствует определенная кинематическая пара — ось, вращающаяся в неподвижном цилиндре, или цилиндр, вращающийся вокруг неподвижной оси. Совершенно очевидно, что в природе такого движения не существует, оно целиком рукотворно.
Начнем с исторически первой теории инерции, сформулированной в терминах импетуса византийским схоластом Иоанном Филопоном и затем развитой средневековой схоластикой. В аристотелевской традиции, с которой полемизирует Филопон, вопрос о движении в отсутствии двигателя обсуждался на двух примерах: полет камня, брошенного рукой или пращой, или полет стрелы, выпущенной из лука. В обоих случаях причиной продолжающегося движения Аристотель называл воздух, которому рука или тетива лука сообщает необходимую силу. Филопон отверг эту точку зрения, указав на то, что движущая сила передается не среде, а непосредственно телу, т.е. камню или стреле. Это и есть теория импетуса. Характерно, что Филопон, будучи первым, кто поставил под сомнение аристотелевскую точку зрения, был одновременно первым, кто включил в перечень движений инерциального типа особый вид технического движения — вращение мельничного жернова. Этот ход имел ключевое значение для развития аргументации в пользу импетуса. Если в случае летящего камня или стрелы еще можно было поверить в опосредующее действие воздуха, то для массивного каменного жернова такое представление было совсем уж неправдоподобным (в средние века, в связи распространением водяных и ветряных мельниц, этот аргумент будут постоянно использовать средневековые схоласты, теоретики импетуса). Дополнительный вес контраргументу «от жернова» придавало то, что мельничные жернова снабжались плотно облегающими кожухами, препятствовавшими разбросу зерна. Между жерновами и кожухом воздуха практически не было. Другим примером инерциального движения, подтверждающим теорию импетуса, было вращение точильного камня. Указанные примеры свидетельствуют о том, что идея импетуса не была плодом одних лишь умозрительных построений, но опиралась на свойства искусственных движений, впервые по-настоящему освоенных в средние века. В Античности при обмолоте зерна использовалось не вращательное, но возвратно-поступательное движение — перемещение вперед-назад верхнего камня жернова относительно нижнего. При заточке оружия и инструментов также применялось аналогичное движение лезвия относительно бруска.
Расширение техники приводило к тому, что теория импетуса стала все больше ориентироваться на вращательные движения, свойства которых затем переносились на движения поступательные.
Следующий этап в развитии идеи инерции, на котором произошло снятие теории импетуса, относится к XV-XVII вв. Он связан с появлением новых технологий вращения, характеризующихся активным использование маховых грузов или колес [4; 5; 6].
Впервые на это обстоятельство, как это ни покажется странным, указал Э. Мах в работе «Механика. Историко-критический очерк ее развития» (1883). Анализируя проблему происхождения идеи инерциальной массы у Ньютона, Мах пишет:
«Множество данных опыта, достаточное количество которых находилось в распоряжении Ньютона, ясно свидетельствует о существовании определяющего движение признака, отличного от веса тела. Если привязать веревку к массивному колесу, перебросить ее через блок и потянуть колесо вверх, мы почувствуем вес махового колеса. Но если поместить это колесо на возможно более цилиндрическую и гладкую ось и возможно лучше сбалансировать его, оно не будет уже, благодаря своему весу, занимать определенного положения. При всем том мы чувствуем огромное сопротивление, как только попытаемся привести колесо в движение или движущееся колесо остановить. Перед нами явление, которое дало повод для провозглашения особого свойства инерции…» [7, c. 165].
По сути, Мах, сам того не подозревая, косвенным образом поддержал марксистский тезис о том, что предпосылкой теоретического оформления понятия является его практическое освоение.
Как отдельный элемент, призванный создать дополнительный момент инерции, маховое колесо начинает использоваться в XV в. Этот факт имеет принципиальное значение для прояснения вопроса об истоках идеи инерции. Он свидетельствует о том, что введению теоретического понятия инерции (в круговой форме!) предшествовал этап его практического освоения. В ходе технических экспериментов, скорее всего, путем проб и ошибок, при решении проблем практической механики, был обнаружен, точнее, сконструирован материальный «носитель» идеи инерции. На уровне практической интуиции инженер эпохи Возрождения понял, что путем равномерного рассредоточения тяжелой массы на максимальном расстоянии от оси вращения можно добиться решения целой серии важных технических задач. Среди них проблема аккумуляции кинетической энергии движения с целью последующего использования (постепенного или мгновенного) и проблема выравнивания угловой скорости вращения рабочего вала.
Проблема аккумуляции энергии. В XV–XVI вв. маховые колеса стали впервые использоваться в машинах, действие которых было связано с преодолением большого сопротивления. Действие этих машин было основано на постепенном расходовании кинетической энергии, накопленной вращением тяжелого махового колеса. Среди машин этого типа вороты для подъема тяжелых бадей с рудой из глубоких шахт, мощные нагнетательные и всасывающие насосы для откачки воды с больших глубин, массивные толчеи для измельчения металлической руды и компонентов пороховой смеси. В середине XVI в. тяжелые маховые колеса стали также применять в машинах, в которых требовалось мгновенное расходование накопленной кинетической энергии. Это — механизмы для штамповки медалей и чеканки монет (напомним, что Ньютон был «Мастером» Лондонского монетного двора).
Применение махового колеса для выполнения энергозатратных работ вело к формированию неверного с точки зрения классической механики, но правдоподобного с точки зрения практики представления о маховом колесе, как дополнительном источнике энергии. Вот что писал об этом Григорий Агрикола в трактате «О металлургии» (1556):
«Но если колодец (шахта) очень глубокий, ворот вращают три человека, а работу четвертого выполняет колесо. Ибо, как только барабан приведен в движение, быстрое обращение колеса оказывает помощь, облегчая вращение барабана ворота. Иногда к колесу подвешиваются свинцовые грузы, или же они крепятся к спицам. Когда колесо вращается, грузы давят свои весом на спицы и тем самым увеличивают движение» (цит. по [8, p. 43]).
Мысль о том, что маховые колеса способны увеличить мощность машины, высказывал также Фаусто Веранцио. В трактате «Новые машины» (1585) он писал об используемых в мельницах системах маховых грузов::
«Эти мельницы приводятся [в движение] одним человеком или двумя, и грузы, подвешенные к концу креста, увеличивают мощность. Вместо креста можно установить колесо и придать ему тот же вес, но крест легче сделать, а результат получается такой же…» (цит. по [8, p. 44]).
Выравнивание скорости вращения. Другой пример материализации идеи круговой инерции представляет собой использование маховых колес в паре с кривошипно-шатунным механизмом (последний служил для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное и наоборот). В данном случае маховые колеса служили для выравнивания неравномерностей вращения рабочего вала, вызываемых неритмичной работой двигателя или сопротивлением рабочих частей. Характерный пример такого применения маховых колес приводит в своем «Дневнике» И. Бекман:
«… (маховые) колеса служат там, где для выполнения работы требуется равномерность вращения. Особенно важны они, когда рука сама по себе не может двигаться столь равномерно, как это требуется или когда использование инструментов приводит к рывкам… Применение (махового колеса) является совершенно необходимым, например, в работе ткачей, которые ткут льняные ткани, используя одновременно 12 и более станков. Это — изобретение, которое несколько лет тому назад начал применять один голландский фермер … и которое с тех пор было значительно усовершенствовано…. В Дордрехте я видел маховое колесо в паре с кривошипом, установленном на таком станке…. В том же доме я видел другое маховое колесо, которое использовалось потому, что (в процессе ткачества) в ткани появлялась неровность, препятствовавшая (непрерывному) вращению (вала) и вызывавшая рывки. А это, в свою очередь, создавало трудности тому, кто вращал вал, и усложняло работу ткача. При помощи же (махового) колеса льняная ткань получалась ровной и гладкой» (цит. по [8, p. 62]).
Обращение к технологиям практической механики XVI-XVII вв. позволяет ответить на вопрос о происхождении исторических форм принципа инерции, сыгравших важную роль в становлении его классического варианта. В указанный период в ряде областей орудийной практики появились практические проблемы, решение которых потребовало введения в состав механизмов абсолютно нового элемента, которого не знала предшествовавшая эпоха — махового колеса. При проектировании машин и механизмов, снабжаемых маховыми колесами, инженеры-практики естественно учитывали и, главное, использовали эффект (круговой) инерции. Практическое освоение круговой инерции послужило предпосылкой формирования ее теоретического «двойника» — понятия кругового инерциального движения, которое, в свою очередь, способствовало рождению классического понятия прямолинейной инерции.
Литература
Гегель Г.В.Ф. Наука логики // Гегель. Сочинения. Т. 5. М.: Гос. соц.-эконом. изд- во, 1937. 715 с.
Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. 464 с.
Зайцев Е.А. Нелинейная история становления понятия инерции в XVII в. // Турбулентная история науки и техники. Труды семинара ИИЕТ РАН 2018–2019 гг. / Отв. ред. Ю.Н. Батурин. М.: ИИЕТ РАН, 2019. С. 119–140 (в печати).
Зайцев Е.А. Идеальное движение // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2016. Т.2. № 2(8). С. 34–42.
Зайцев Е.А. Всеобщее содержание природы в зеркале практической механики (от античности до научной революции XVII в.) // Научные ведомости Белгородского университета. Философия, социология, право. 2017. Вып. 41. С. 12–19.
Зайцев Е.А. Технологические предпосылки научной революции XVII в. // Э.В. Ильенков и проблема человека в революционную эпоху. Материалы XIX Международной научной конференции «Ильенковские чтения». М., 2017. С. 266–74.
Мах Э. Механика. Историко-критический очерк ее развития. Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2000. 456 с.
Buettner J. Big Wheel Keep on Turning // Galilaeana. 2008. Vol. 5. P. 33–62.
4.8. Крянев Ю. В. Философия и научная методология
Общеизвестно, что в творческой деятельности Э.В. Ильенкова значительное место занимает разработка логико-методологических принципов научного познания. Эти проблемы актуальны и сейчас.
Взаимоотношение понятий «методология», «философия», «наука» многозначны, их использование носит контекстуальный характер. Прежде всего, здесь акцентируется функциональность философии и науки (методология является одной из основных функций философии и науки).
Именно через функциональность выражается и актуализируется деятельностная составляющая философии и науки, их смысл и предназначенность. В результате создается (преобразуется) необходимый для определенной сферы объект (материальный или духовный).
Вместе с тем функциональность предполагает структурирование частей целого, комплексности и системности, их взаимосвязи, а также целого (философии и науки) к ее структурным частям (теоретическим, методологическим и др.). Единство всех функций философии и науки реализует их действенность, а сама деятельность служит основной характеристикой специфического способа человеческого бытия, принципы исследования жизнедеятельности (коллективной и индивидуальной), их взаимосвязи с природой.
С точки зрения системного подхода, функция представляет собой, с одной стороны, деятельность какого-либо объекта в рамках данной системы и роль, какую он там выполняет; с другой — вид связи между объектами, где изменения одного вызывают изменения другого. Это совокупность операций познания и действий для проявления сущности чего-либо. Функциональность выступает как свойство деятельности (предназначенности) и как вид деятельности (результативной ориентированности).
Деятельностная функциональность заложена в природе методологий. В целом, методология — это система понятий, способов, методов, организации и построения теоретической и практической деятельности. Методология как область деятельности, где создаются и совершенствуются интеллектуальные средства (категории, понятия, концепции), ориентирована на философию и науку. Вместе с тем философская методология — это учение о методах как комплексе процессов, приводящих к определенному результату: как выбор путей направления исследования и обучения.
Здесь акцент делается на путь достижения знания, направленность на внутренние механизмы, логику движения и организацию знания. Именно механизмичность как свойство системы позволяет согласовывать внутренние процессы для поддержания специфических качеств (особенностей) при внешних воздействиях, что актуализирует методологическую функцию философии. Она обеспечивает реализацию деятельностного подхода, его связи с другими подходами (специально — мыследеятельностный подход), способствует повышению роли философской функциональности в постановке и решении определенных задач.
К сфере методологии следует отнести анализ различных способов познавательной и практической деятельности человека (научной, эстетической, религиозной, политической и др.), а также описание и анализ различных исследовательских подходов и концепций (элементаристского, системного, типологического, синергетического и др.).
Таким образом, функциональность и другие, названные выше, подходы связаны с теоретико-методологическим обоснованием дисциплинарного и междисциплинарного структурирования науки. Это вызвано тем, что развитие науки характеризуется сложным взаимодействием внутри дисциплинарных и междисциплинарных связей, возникновением и переносом парадигмальных установок. На этапе функционирования классической науки господствовала предметно-дисциплинарное исследование; на неклассическом преобладающим стало проблемно-дисциплинарное исследование; на постнеклассическом приоритетными становятся междисциплинарные подходы.
Соотношение предметного (соотнесенность субъекта научной деятельности с частью выделенной им реальности) и проблемного (выявление и ограничение непознанного в предмете исследования) приводит к их междисциплинарному синтезу. Дисциплинарность (предметность — проблемность) переходит в междисциплинарность (комплексность — дисциплинарная интеграция через общую проблему).
В конце XX — начале XXI вв. возникает блок управленческих дисциплин. Лидирующей наукой здесь является управление качеством, имеющее определенный теоретико-методологический статус в дисциплинарной организации научно-технического и социогуманитарного знания, включая проблемно-ориентированные и системно-интегрированные принципы и подходы. Все это создает новые нормы и нормативы исследования и обучения, развитие комплекса других дисциплин данного блока (стандартизация и сертификация, квалиметрия, основы обеспечения качества, информационное обеспечение базы данных, статистические методы в управлении качеством, информационные технологии в управлении качеством и защиты информации, управление процессами, сертификация качеством и др.).
В то же время большое методологическое и операционное влияние здесь оказывают междисциплинарные и внутридисциплинарные механизмы (стандартизация, сертификация, катологизация, техническое регулирование). Возникает новая парадигмальная установка в теории управления качеством. Актуальным становится концептуальная конструкция ориентированная на качество управления [5. С. 561-562].
Следует иметь в виду, что в конце ХХ века методологию стали интерпретировать как относительно самостоятельный вид деятельности (системомыследеятельностная методология). Поэтому правомерно положение о наличии особого социокультурного свойства методологичности. Все это проявляется в особом методологическом мышлении, где актуализируется функциональность критериального обеспечения и обоснования рефлексивной деятельности. Сами же организационные критерии рефлексивности акцентируется в процессе специального методологического анализа. По мнению основателя методологического движения в нашей стране Г.П. Щедровицкого «… методологическое мышление является универсальной формой мышления, охватывающее все типы мышления, интегрирующее в сферу мыследеятельности, разрабатывающее схемы мышления, деятельности, мыследеятельности, внося их в пространство осуществления полипредметной и полипрофессиональной мыследеятельности, в организацию и управление, программирования, оргпроек-тирования, пребывая в мире принятия решений» [2, с. 456].
Здесь особый интерес, на наш взгляд, представляют идеи, воплощенные в докладе известного итальянского философа Э. Агацци на XXIII Всемирном философском конгрессе (Афины, 2013 г.). Изложив историю философского исследования метода, автор наметил основные направления работы в области методологии. В связи с этим он выдвигает понятие «методологического поворота» как характерной черте современной философии.
Углубление и расширение, интенсификация разработки «дает основание говорить о «методологическом повороте» как характерной черте современной философии. Сегодня многие философы принимают выражение «лингвистический поворот» как подходящую характеристику современной философии. Однако при более внимательном рассмотрении этот «поворот» выглядит как предложение нового метода философствования, состоящего в сведении философского рассмотрения проблемы к анализу языка, на котором эта проблема формулируется и обсуждается. Такой анализ может представляться вооруженным новейшими, самыми мощными и тонкими инструментами семиотики и формальной логики к применимым в принципе к любой области философского исследования — от философии науки до онтологии, метафизики, этики, философии права и так далее» [1, с. 62].
Вместе с тем, отметив рост внимания к методологии в ХХ в. ее развитие Агацци связывает это с исследованиями различных методов мышления: «надо признать, что методология на протяжении одного столетия привлекла к себе внимание и получила развитие большее, чем когда-либо в прошлом, и уже это представляет непосредственный интерес для философии. «Действительно, если отличительная черта философии — мышление (именно поэтому мы часто называем философов «мыслителями»), а одна из ее исходных целей состоит в различении правильных и неправильных «способов мыслить», то сразу становится ясно, что мы имеем в виду внутреннюю артикуляцию мышления». Такая артикуляция, однако, не совпадает с дихотомией правильного-неправильного, поскольку эта дитохомия кажется присутствующей внутри каждой из различных «форм мышления», которые составляют реальную «артикуляцию», мышления. Для каждой из этих форм мы можем попытаться определить, каков верный или правильный, способ действия, и мы можем назвать его методом, присущим этой форме, то есть конкретным методом мышления. Если рассмотреть теперь совокупность всех этих конкретных методов мышления и сделать их предметом особого исследования, мы тем самым определим область методологии, которая, таким образом, выглядит как исследование различных методов мышления. Разумеется, такое предприятие нельзя не признать имеющим первостепенный интерес для философии» [1, с. 63].
В тоже время специально обращается внимание на роль методологии в научном познании, на взаимосвязь науки и философии.
«Именно по этой причине бурный рост методологии в последнем столетии питался введением и развитием новых методов, как в философии, так и некоторых специальных дисциплинах, на основе очень плодотворной обратной связи. Например, типично философское понятие определения существенно обогатилось введением ресурсных определений и определений через аксиомы (или аксиоматических определений) в математике и математической логике. Последнее, в частности, оказало непосредственное влияние на семиотику и философию языка, дав прообраз понятия синтаксического значения и доктрины семантического холизма. Обратным примером мог бы служить тот факт, что теория эволюции и научная космология могут быть логически оправданы только при введении критериев, заимствованных из исторического метода, помимо обычных критериев физических наук» [1, с. 64] Поэтому результаты, получаемые в рамках применения отдельных методов мышления (феноменологических, семиотических, аксиоматических, дедуктивных, редуктивных, герменевтических, трансцендентальных, исторических), составляет совокупность подлинно философского знания.
При этом Агацци подчеркивает, что при анализе методов мышления нельзя отвлекаться от содержания мышления от проблем, возникающих в различные эпохи и в настоящее время: «Это происходит потому, что мотивация философствования исходит из желания рационально постичь мир, нас самих, нашу социальную и физическую среду, из поиска смысла нашего существования, и соответственно, ориентации нашей жизни. Философия — понимаемая в широком смысле — есть поиск мудрости, и от такого способа ее достижения за всю ее историю никогда не отказывались, и он, несомненно, выходит за пределы чистой методологии» [1, с. 64].
Введение и развитие множественности новых методов, характеризующих расцвет методологии, является естественным следствием сложности задачи описания реальности и знания. При этом различные методы выступают как взаимодополняющие, а не как противостоящие а открытие новых методов требует решения многих новых проблем (например, смысл и измерение вероятности гипотез), не говоря уже о старых проблемах, все еще ожидающих решения (такова проблема оправдания индукции).
Особо Агацци выделяет роль методологии в исследованиях рациональности, интеллекта в междисциплинарном контексте как позиция «интеллектуальной открытости и готовности использовать различные методы, выработанные исследованиями рациональности, уделяя подобающее место, например, фундаментальному вкладу феноменологического анализа в исследуемую область, так же как и тщательному лингвистическому анализу принятого дискурса, его смысла и условий истинности, и, наконец, серьезным образом, принимая во внимание вклады, внесенные в эту область соответствующими науками» [1, с. 64–65].
Итак, методология тесно связана с научным познанием. На эту связь научного познания и метода, метода и содержания мышления, их решающую роль в философских исканиях указывал Гегель: «Единственное, к чему я вообще стремился и стремлюсь в своих философских изысканиях,— это научное познание истины. Такое познание является наиболее трудным путем, но только этот путь может представлять интерес и ценность для духа, если этот последний, однажды вступив на путь мысли, не впал в суетность, а сохранил неустранимую волю к истине. Он вскоре находит, что только метод в состоянии обуздывать мысль, вести ее к предмету и удерживать в нем. Впоследствии обнаруживается, что такой методический путь сам есть не что иное как воспроизведение того абсолютного содержания, от которого мысль сначала порывалась уйти и уходила; но это воспроизведение в глубочайшей свободнейшей стихии духа» [4, с. 57].
Как видно, в системе методов особое место отводится научному методу. Здесь значительный интерес представляет анализ методологии науки в ее тесной связи с логикой (в том числе, и математической) данный в произведении американских философов науки и логиков М. Коэна и Э. Нагеля. Научный метод подчеркивают авторы: «нацелен на открытие того, каковы на самом деле факты, и его использование должно руководствоваться именно открываемыми фактами. Однако, как мы уже не раз отмечали природу фактов нельзя открыть без критического размышления. Знание фактов не может быть приравнено к непосредственным данным нашего чувственного восприятия.
Чувственный опыт ставит проблему знания, однако прежде чем можно будет получить знание, к этому непосредственному и окончательному опыту должен быть добавлен рефлективный анализ» [3, с. 528–529].
Поскольку каждое исследование происходит из ощущений наличия какой-либо проблемы, поэтому ни одно исследование не может начаться до тех пор, пока не будет проведена некоторая селекция предметной области. В связи с этим авторы обращают внимание на то, что любое исследование является специальным, когда оно решает определенную проблему и нахождение решения является концом исследования. Поэтому бесполезно собирать факты, если нет проблемы, к которой они должны относиться.
Способность формулировать проблему, решение которой будет также и решением для многих других проблем, является редким даром. Проблемы, с которыми все встречаются в обыденной жизни, могут быть решены, если они вообще решаемы, с помощью применения научного метода. Однако такие проблемы, как правило, не ставят масштабных вопросов.
Здесь акцентируется роль логической формы. Тогда исследование представляет собой суждения, для истинности которых есть достаточное основание. Следовательно, то, чем являются факты, должно определяться исследованием, а не случайными приемами. Более того, то, что считается фактами, зависит от того, на каком уровне проводятся исследования. Поэтому не существует строгого разделения между фактами и догадками или гипотезами. Во время любого исследования статус суждения может изменяться от гипотезы к факту или от факта к гипотезе. Следовательно, в случае каждого так называемого факта можно задаться вопросом о том, какими основаниями он обладает. Вместе с тем полное значение гипотезы открывается в ее импликациях, в том числе через научный метод.
Различные гипотезы предлагаются исследователю содержанием анализируемой предметной области, а также уже имеющимся у него знанием. Отсюда требуется наличие гипотез на каждой стадии исследования. В тоже время общие принципы или законы (подтвержденные в ранее проведенном исследовании) могут применяться в отношении текущего, еще не законченного исследования только с определенной долей риска, поскольку эти законы, на самом деле, могут оказаться неприменимыми. Общие законы любой науки функционируют как гипотезы, на которые опирается исследование на всех его стадиях.
Гипотезы могут рассматриваться как предложения возможных связей между реальными или воображаемыми фактами. Поэтому вопрос об истинности гипотез может не ставиться. Согласно данному подходу, необходимое свойство гипотезы заключается в том, чтобы ее можно было сформулировать в детерминированной форме, так чтобы с помощью логических средств можно было установить ее импликации.
Таким образом, существует потребность в методе выбора нужной гипотезы среди нескольких альтернатив и в методе установления того, что рассматриваемые альтернативы, на самом деле, являются различными гипотезами, а не только кажутся таковыми. Наиболее важной и лучше всего исследованной частью такого метода является формальное умозаключение, а также математические исчисления.
Дедуктивная разработка гипотезы — не единственная задача научного метода. Поскольку возможных гипотез много, задача исследования заключается в определении того, какое из возможных объяснений или решений проблемы наилучшим образом. Однако авторы, исходя из того, что соображения никогда не достаточны для установления материальной истинности какой-либо теории.
Абсолютная истинность не может быть доказана ни для одной гипотезы, в которой утверждается общее суждение. Поэтому в каждом исследовании, имеющем дело с фактами, применяется вероятностный вывод. Задача подобных исследований заключается в отборе именно той гипотезы, которая является наиболее вероятной в свете имеющихся оснований, задача же дальнейшего исследования сводится к отысканию других фактических оснований, которые увеличат или уменьшат правдоподобие такой теории.
Далее в основаниях науки — соотношения верификации и сомнения, истины и правдоподобия — авторы выделяют проблемы, вовлеченные в современную дискуссию. В рамках этой дискуссии подчеркивается, что основной чертой изменений в современной науке становится переход от аналитического способа мышления к синтетическому.
Научному методу всегда свойственно систематическое сомнение. Ни одно суждение, связанное с фактами, не является абсолютно несомненным, и не может иметь столь хорошие основания, что никакие другие возможные основания не способны увеличить или уменьшить степень его правдоподобия. Наука требует и ищет адекватные в логическом смысле основания для утверждаемых в ней суждений.
Вследствие этого наука всегда готова отбросить теорию, когда того требуют факты. Научная процедура, таким образом, в случае появления несовместимых с фактами теорий предоставляет собой сочетание готовности внести изменения и стремления придерживаться уже имеющихся теорий. Верификация теорий является лишь приблизительной. Она просто показывает, что в рамках экспериментальной погрешности эксперимент совместим с верифицируемой гипотезой. Из всего этого следует, мнению авторов, что метод науки является более стабильным и более важным для ученых, чем какой-либо отдельный результат, получаемый с его помощью.
В силу такого подхода научное познание подчиняется механизмам самоорганизации и саморазвития, является самокорректирующим процессом. «В силу этого метода, наука является самокорректирующим процессом. Она не апеллирует ни к какому специальному откровению или авторитету, который предоставляет несомненные и окончательные сведения. Наука не претендует на безошибочность, а опирается на методы развития и проверки гипотез для получения обоснованных заключений. Сами принципы научного исследования открываются в процессе критического размышления и также могут быть подвержены изменению в процессе изучения. Научный метод обусловливает установление и исправление ошибок посредством постоянного применения самого себя» [3, с. 534–535].
В качестве примера следует ссылка на применение метода повторного отбора выборок. Тогда изучаемые наукой суждения либо подтверждаются во всех возможных экспериментах, либо модифицируются в соответствии с новыми основаниями. Именно эта самокорректирующая природа позволяет оспорить любое суждение, но при этом она также дает уверенность в том, что принимаемые наукой теории являются более правдоподобными, чем все альтернативные теории. Не претендуя на большую достоверность, чему способствуют имеющиеся основания, научный метод добивается успеха в получении большей логической достоверности, чем любой другой из когда-либо изобретенных методов.
В тоже время в процессе сбора и взвешивания оснований имеет место непрерывная апелляция от фактов к теориям или принципам и от принципов к фактам. Поскольку нет ничего, что по своей природе было бы несомненным, не существует и абсолютно первых принципов, которые были бы самоочевидными или которые должны были бы предшествовать всему остальному.
Таким образом, делают выводы авторы, «по своей сути метод науки является цикличным. Мы получаем основания для принципов посредством апелляции к эмпирическому материалу, коим считается факт, и мы отбираем, анализируем и интерпретируем эмпирический материал на основании принципов. В силу данной тактики взаимных уступок между фактами и принципами все, что является сомнительным, тщательно исследуется либо с одной стороны, либо с другой» [3, с. 535].
Итак, научный метод тесно связан с эмпирическим материалом, с теоретическим анализом, с интеллектуальным качеством.
Литература
Агацци Э. Методологический поворот в философии // Вопросы философии. 2014. №9.
Анисимов О.С. Методология: сущность и события.— М.,2007.
Коэн М., Нагеля Э. Введение в логику и научный метод.— Челябинск: Социум, 2010.
Гегель Г.Ф.В. Энциклопедия философских наук. Т.1. Наука логики.— М.: Мысль,1974.
Крянев Ю.В., Кузнецов М.А. Междисциплинарное структурирование науки// Материалы 4-го Российского философского конгресса. Философия и будущее цивилизаций. Т.1.— М.,2005.
4.9. Майданский А. Д. Истоки и проблемы «Космологии духа»[2]
Эта рукопись, «Космология духа» — самый загадочный текст Ильенкова, стоящий особняком от прочих его работ. Написан он, предположительно, около 1955 — хотя не исключено, что и еще раньше. В архиве сохранились две старые машинописные копии, напечатанные на разных машинках, но не на ильенковской «Олимпии» (у этой привезенной из ГДР печатной машинки характерный, узнаваемый шрифт). Одна копия, на вид более старая, аккуратно переплетена (Ильенков свои работы не переплетал) и набрана совсем не в его манере: с отбивкой цитат, подчеркиванием слов и зачеркиванием ошибок «иксами».
Неизвестно, пытался ли Ильенков опубликовать «Космологию духа». Как он вообще относился к этой работе? Показывал он ее редко, даже друзьям, в отличие, скажем, от «Черного ящика» — памфлета, который Ильенков очень любил, и был немало огорчен, когда не удалось напечатать его в «Новом мире». Потом напечатал его трижды — в ростовской газете, в сборнике «Культура чувств» и в книге «Об идолах и идеалах». А «Космологию» — нет. Что помешало?..
Л.К. Науменко утверждает, что замысел «Космологии духа» Ильенкову подсказал Побиск Кузнецов. Но вот что пишет в своей книге С.Н. Мареев: «Побиск Георгиевич Кузнецов... утверждает, что Ильенков познакомил нас с текстом “Космологии” в его присутствии после того, как мы втроем, по его словам, порядочно “надрались”» [4, с. 177].
Эти строки увидели свет, когда Кузнецов был еще жив, и он их наверняка читал. «Надраться» же в компании с молодым Мареевым они никак не могли раньше, чем в 70-е. В таком случае не Кузнецов подсказал Ильенкову «космологическую» гипотезу. Ведь текст был написан в 50-е...
С трудом верится, что Ильенков так долго не показывал Кузнецову такую вещь, как «Космология духа». Они дружили с незапамятных времен, а Побиск занимался проблемами космобиологии, причем в «термодинамическом» разрезе. Ильенков привлек его к написанию важнейшей статьи «Жизнь» во втором томе «Философской энциклопедии» — кузнецовский раздел статьи озаглавлен: «Проблема жизни и второй закон термодинамики». Это 1962 год — к тому времени «Космология духа» была давно уже написана. А Ильенков страшно любил наблюдать, как друзья читают его рукописи. Постоянно «испытывал» свеженаписанные тексты и на жене и дочери. Садился рядом — иной раз на подлокотник кресла, в котором сидел близкий человек,— и следил за реакцией. Почему же он изменил своему обыкновению в случае с «Космологией духа»?
Сам Мареев точно не помнит, когда он впервые познакомился с рукописью, но зато помнит, как она выглядела. Это были «пожелтевшие от времени листочки» с пометками на полях, сделанными рукой Т.И. Ойзермана, у которого Ильенков был аспирантом. Это вроде бы говорит о том, что «Космология» написана в аспирантские годы (1950–53). На более поздних рукописях Ильенкова ойзермановских пометок — необычно крупными буквами без наклона — не обнаружено, за исключением одной поздней бумаги по поводу Украинцева (директор Института философии, если кто не знает).
Увы, тот пожелтевший оригинал рукописи утрачен, в архиве Ильенкова его нет...
Если согласиться, что Кузнецов непричастен к замыслу «Космологии духа», тогда что же натолкнуло Ильенкова на тему? Откуда, так сказать, дровишки? Не то от Вагнера, не то от Энгельса... Вопрос этот мучил меня давным-давно, еще с прошлого тысячелетия. И только пару лет назад я наткнулся, как мне кажется, на разгадку. Вот как это случилось.
Начну с небольшой преамбулы. Кто читал «Об идолах и идеалах», тот помнит, что Ильенков цитировал там строки Максимилиана Волошина. Семья Ильенковых любила бывать в волошинском Коктебеле, и мы точно знаем, что Ильенков читал заветную поэму Волошина, где тот намеревался дать «завершенную формулировку» своих взглядов на человека и культуру, «как они у меня сложились за 20 лет жизни на Западе и как они выявились в плавильном огне русской Революции» (из письма Вересаеву от 14 апреля 1922).
В один прекрасный день решил и я эту вещь почитать. Озаглавлена она «Путями Каина» (между прочим, «каиновым братством» поэт называл пролетариат). После этого я не раз возвращался к поэме, и у меня сложилось стойкое убеждение, что в ней дано лучшее, самое глубокое понимание революции, какое мне встречалось в художественной литературе.
Революция предстает здесь как космическое явление: «восстанье творческого духа», «творящий ритм мятежного огня». Поэма начинается строками: В начале был мятеж, Мятеж был против Бога, И Бог был мятежом. И всё, что есть, начáлось чрез мятеж.
А уже в следующей строфе мы сталкиваемся со вторым началом термодинамики: Из вихрей и противоборств возник Мир осязаемых И стойких равновесий. И равновесье стало веществом. Но этот мир, разумный и жестокий, Был обречен природой на распад.
В другом месте Волошин писал про «сомнительную вечность вещества, подточенного тлёю Энтропии». Человечество же мыслится им как антиэнтропийная сила: А человек упорно выгребает Противу водопада, что несет Вселенную Обратно в древний хаос.
Чтобы не дать материи изникнуть, В нее впилс сплавляющий огонь. Он тлеет в «Я», и вещество не может Его объять собой и задушить.
«Негэнтропийный» взгляд на человека образует краеугольный камень ильенковской «Космологии духа». Но самое интересное в этой связи мы находим в конце главы «Бунтовщик», где Волошин фактически излагает ильенковскую гипотезу о космической миссии человечества: Вы отреклись от солнечного света, Чтоб затеплть во тьме пещер огонь. Распады утомленных равновесий Истратили на судоргу машин. В едином миге яростного взрыва Вы истощили вечности огня: Вы поняли сплетенья косных масс, Вы взвесили и расщепили атом, Вы в недра зла заклинили себя. И ныне вы заложены, как мина, Заряженная в недрах вещества! Вы — пламя, замурованное в безднах, Вы — факел, кинутый В пороховой подвал! Самовзрыватель, будь же динамитом. Земля, взорвись вселенским очагом! Сильней размах! Отжившую планету Швырните бомбой в звездные миры! Ужель вам ждать, пока комками грязи Не распадется мерзлая земля? И в сонмах солнц не вспыхнуть новым солнцем — Косматым сердцем Млечного Пути?
Написаны эти строки в 1923-м, за год до рождения Ильенкова на свет. Легко убедиться, что Волошин описывает «конец света» в точности так же, как автор «Космологии духа»: мыслящий дух взорвет себя и Землю «вселенским очагом» и «вспыхнет новым солнцем в сонмах солнц». Подобно Ильенкову, Волошин мыслит это самоубийство духа как творческий акт — космическую революцию, мятеж человечества против всемогущей Энтропии.
Ну а в чем разница? У Волошина акт этот выглядит как апофеоз бунта — своего рода эсхатологический перформанс под девизом: «смертию смерть поправ». Мы рушим своды древних равновесий. Мы — зодчие. Ваяло наше — смерть, А глина — вихри собственного духа.
Мы дети Каина. Мы внуки Люцифера. Мы утверждаем Бога мятежом. Творим неверьем. Строим отрицаньем.
Для Ильенкова дело обстоит иначе. Мыслящий дух сжигает мир и самого себя не просто потому, что он по природе своей бунтарь и творец, и ему негоже смиренным барашком ждать неминуемой «тепловой смерти». А потому, что дух чувствует свой долг перед матерью-природой. Она дарит людям жизнь, и человечество должно отблагодарить ее тем же.
Как хорошо сказал Гегель, «не та жизнь, которая страшится смерти и только бережет себя от разрушения, а та, которая претерпевает ее и в ней сохраняется, есть жизнь духа» [1, с. 23].
Человечество столетиями культивировало идеал самопожертвования. Для чего — с какой целью? Что это, как не предчувствие жертвенной вселенской миссии мыслящего духа? Величайшие герои истории — люди, добровольно отдавшие жизнь за идею, за «идеальное»: Сократ, Христос, Джордано Бруно...
Мареев проводит глубокую параллель между Ильенковым и «блаженным дедушкой» Николаем Федоровым. Их роднит не ход мысли и не выводы, а чувство космической ответственности духа. Только у Ильенкова это — долг перед Природой-субстанцией, понятой по-спинозовски, как «Природа порождающая» — Natura naturans, а у Федорова — долг перед покойными «отцами». Космическая деонтология тут и там.
Хотя сильно сомневаюсь, что Ильенков всерьез читал труды Николая Федорова. Ильенков был, мягко говоря, невысокого мнения о русской религиозной философии — кроме одной книги Ивана Ильина о Гегеле. А Федоров представлял собой гибрид вульгарного материалиста с христианским мистиком, т.е. соединял в себе всё то, что Ильенков терпеть не мог в философии.
Сáмого крупного и влиятельного русского религиозного мыслителя, Владимира Соловьева, Ильенков обзывал «пошляком, которого читать не стоит, провинциальным и плохим учеником великих немцев» (строки из внутренней рецензии на статью о Соловьеве в пятом томе Философской энциклопедии, за авторством Асмуса, Хоружего и компании). К слову, Соловьев называл Николая Федорова «своим учителем и отцом духовным».
Напоследок я бы хотел обратить внимание почтенной публики на одно проблемное место в «Космологии духа». Читаем:
«Всю бесконечную Вселенную разрушить этот акт [искусственный взрыв], конечно, не может... Область мировой материи, захватываемая процессом, включаемая в цепь реакции, остается поэтому ограниченной какими-то пределами. Каковы эти пределы — сказать сейчас, конечно, невозможно...» [3, с. 447].
Итак: мыслящий дух взрывает не Вселенную целиком, а лишь какую-то ее конечную область. Спрашивается, можно ли таким образом спасти бесконечную Вселенную от «тепловой смерти»? Очевидно, нет — можно лишь на некоторое время отсрочить финал. Вернуть ей «огненную молодость» (пользуясь выражением Ильенкова) способен лишь новый «Большой взрыв». Локальные искусственные «очаги» проблему не решат. Так мировую энтропию не одолеешь. Если мыслящий дух не в состоянии запустить бесконечную цепную реакцию, значит его жертва напрасна: гибель матери-природы — лишь вопрос времени.
У Вселенной должны сойтись, совпасть начало и конец. А такое «тождество» может осуществить лишь новый «Первовзрыв» — Urknall, как его называют немцы. Змея бесконечности должна наконец сожрать свой хвост...
Ильенков изображает «малый» взрыв как «разрушение структурных единиц материи», т.е. как реакцию деления элементарных частиц, по типу процесса в атомной бомбе. Когда писалась «Космология духа», он явно еще не знал о ядерном синтезе, на основе которого создавалась бомба водородная. Искусственный синтез, ведущий к «сжатию» Вселенной до состояния сингулярности, выглядит куда более эффективным и перспективным оружием против мировой энтропии.
Помимо чистой «физики» здесь вырастает одна «лирическая» проблема, которую Ильенков почему-то обошел стороной (лично я ни за что не поверю, что эту проблему философ попросту не разглядел).
Дело в том, что в огне «мирового пожара» неминуемо гибнет не только сам зачинщик, но и ничего не подозревающие о его благородном замысле «субъекты», живые и мыслящие обитатели других планет. По отношению к ним добровольное самопожертвование оборачивается массовым убийством, напоминающим религиозное жертвоприношение. Конечно, можно утешиться тем, что «тепловая смерть» Вселенной все равно не пощадила бы никого, или что это убийство — творческое, дающее жизнь новым мирам и мыслящим существам. Однако надо называть вещи своими именами: убийство есть убийство.
В своей статье «Почему мне это не нравится» — в послесловии к «Черному ящику»,— Ильенков привел пример на близкую тему. В фильме по повести Тендрякова «Суд» председатель сельсовета «ради общего дела» решает пожертвовать другим человеком, старым егерем. Собой — жертвуй на здоровье, ответил егерь. «А меня — спроси сперва, согласен я али нет?».
«Конкретная реальность этого „общего дела“только в том и состоит, что я его делаю сообща, вместе с другим человеком. А если я ради „общего дела“решил пожертвовать другим человеком, то и превращается тотчас это дело в мое, в эгоистическое дело...»,— комментирует Ильенков [2, с. 43–44].
Конечно, ситуация в корне меняется, если ради «общего дела» человек готов первым пожертвовать собой. Но дает ли это ему моральное право пренебречь требованием старика-егеря: «А меня — спроси сперва, согласен я али нет?» Не знаю, не уверен, что дает. Возможно, не уверен в том был и автор «Космологии духа». Кто знает, не оттого Эвальд Васильевич не любил показывать свою рукопись друзьям?
Литература
Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000.
Ильенков Э.В. Почему мне это не нравится? // Культура чувств. М.: Искусство, 1968. С. 21–44.
Ильенков Э.В. Космология духа // Собрание сочинений. Том 1. М.: Канон+, 2019. С. 419–451.
Мареев С.Н. Встреча с философом Э. Ильенковым. М.: Эребус, 1997.
Науменко Л.К. «Наше» и «моё»: Диалектика гуманистического материализма. М.: Либроком, 2012.
4.10. Третьяков Д. В. Слияние этического и логического: методологическая революция Спинозы и диалектика самопожертвования
Логика развития идеи, находящейся в основании универсальной онтогносеологии такова, что с ее помощью охватываются предельные состояния бытия: жизнь и смерть. Отражая универсальные закономерности развития бытия, она отрицает небытие, иначе полагается предел ее абсолютности.
До той поры, пока эта логика, выражена в абстрактных понятиях, ее легко распространять и на «тот свет». «Тот свет» и создается, собственно, как отражение «этого», выраженного либо в универсальных логических формах, либо в рамках религиозной традиции — в абсолютистских религиозных догматах. Примерами такого отражения в чисто религиозном смысле изобилуют индуистская или буддийская концепция реинкарнации, и, вообще, любые развитые представления о загробном бытии. Под «развитыми» здесь мы подразумеваем, концепции жизни-после-смерти, которая детерминирована поступками, совершёнными на этом «свете». Логическая взаимосвязь здесь подвергается мощному влиянию этики. От совершённого добра или зла зависит райское или адское посмертное существование, либо (на востоке) перерождение в лучших или худших мирах, либо социальных слоях.
Такого рода этически обусловленная религиозная «логика» полагается в основу дальнейшего развития абсолютной идеи, идеи идей. Последняя была рафинирована для философского обращения еще Платоном. Великий философ создал образ божественного Творца-демиурга, который оказался весьма далёк от конкретных и «слишком человеческих» образов греческих богов. Будучи лишён «профанной» религиозности, этот бог Платона стал абсолютным духом, лежащим в основании всего совершенного мира идей. Плотин позднее предпринял титанический труд по описанию иерархического «нисхождения» высшей идеи в мир. То есть, «Энеиды» были, своего рода, феноменологией абсолютного духа, реализованные средствами эллинистической философии. М. Бахтин называл этот путь «интуитивным объединением познавательного с этическим». Через эпоху Возрождения он пролегает к философии Спинозы — и далее — к немецкому классическому — как субъективному (фихтеанскому), так и объективному идеализму.
Подчеркнем, что позиция Спинозы в этой эволюции имеет ключевое значение. В «Этике» он формулирует следующую теорему: «Бог составляет производящую причину (causa efficiens) не только существования вещей, но и сущности их» [5, с. 102]. Комментируя это положение, А. Майданский резюмирует: «Отдельно от своих состояний Бог не существует, как причина не может существовать без своего действия. Бездействующих причин не бывает. Создавая модусы, Бог создаёт не что иное, как самое себя» [5, с. 102–103]. Думается, во многом в силу подобной трактовки Бога Спинозу неоднократно называли «князем атеистов». При этом голландский философ, очевидно, не преследовал целей совершения атеистической революции в общественном сознании своих современников, недаром, например, «Богословско-политический трактат» он адресовал немногочисленному «читателю-философу», в противном случае, полагая его обречённым на неверную интерпретацию «толпой» и всеми, «кто подвержен тем же аффектам, что и толпа» [5, с. 10]. Бог Спинозы оказывается как бы разлит по вселенной, будучи целевой причиной и наполняя энергией все процессы в мироздании. Спиноза отсекает идею трансцендентного Бога, который оказывается за пределами многообразных процессов творения и разрушения, Бог становится полностью посюсторонним. В этических теоремах Спинозы не утверждает, что «того света» не существует, но качественно изменяется воззрение на его суть. Согласно учению об аффектах, ад и рай, предстающие в человеческом воображении — совершенно не соотносятся с какими-либо реальными сущностями. Фактически, исследования Спинозы лишают институциализированное христианство и подобные ему системы одного из базовых этических противоречий, благодаря которому вдохновлялись многие ключевые исторические события Средневековья и эпохи Возрождения. Таковым является онтологическое противопоставление добра и зла. Христианская версия объединения познавательного и этического, сконструированная отцами церкви в III–VI вв., отталкивалась во многом от положения Оригена о том, что «зло […] есть исключительно моральное зло или порок, впервые возникший в изначально благом универсуме в результате различного отклонения разумных существ от изначального совершенства, что стало возможно (хотя и не необходимо) благодаря наличию у них свободы выбора между благом и злом, представляющей собой субстанциальную характеристику самой природы духовных тварей» [4]. При этом Ориген наиболее точно оформил так называемую педагогическую концепцию физического зла и страданий, согласно которой демоны и грешники используются всемогущим Богом ради того, чтобы наказывать пороки субстанциально свободных существ. Фактически, насилие — это функциональная реакция на свободно выбранное злое поведение. Причём реакция эта пропорциональна прегрешениям. В рамках такого рода педагогики насилия во имя абсолютного искоренения порока действовали христианские государи Европы и, собственно, сама христианская церковь, невзирая на то, что оригенизм был признан ересью на вселенских соборах. Крестовые походы, инквизиция, деятельность ордена иезуитов, массовая насильственная христианизация с уничтожением всех несогласных — всё это легко было объяснить соображениями высшего блага, которое невозможно без активной борьбы с пороком.
Но подобный подход совершенно дискредитируется этической геометрией Спинозы. Поступая насильственно, люди, как правило, находятся под воздействие аффекта ненависти, они воображают, что сражаются с неким субстанциальным злом, которое, на самом деле, является плодом их идеологизированного воображения. Длившиеся сотни лет войны христиан с мусульманами, которые и на настоящий момент кровавой жатвой откликаются в террористической деятельности исламских фундаменталистов,— со спинозистской точки зрения, можно охарактеризовать как передающуюся из поколения в поколение традицию аффектированных массовых действий. Образ онтологического врага взывает к воображению, а оно вполне продуктивно порождает идеологию войны, оправдывающей зверства. Последняя издревле фиксируется в социальных институтах: рыцарских орденах, инквизиции, джихадистских организациях. Может меняться религии и идеология, но аффект как источник воинствующей морали сохраняется. Если такое положение дел становится традицией, которая фиксируется в социальных учреждениях, в особенности, в тех, которые обеспечивают функционирование государства, то выйти из этого порочного круга без достаточного уровня идеологически не зашторенного мышления очень трудно. Сам Спиноза вполне обоснованно сомневался, что в массе своей его современники — те, кто склонен разделять мнение «толпы»,— смогут адекватно воспринять его учение. Надо сказать, что эти сомнения мы можем вполне успешно адресовать и нашим современникам.
Тем не менее, философия Спинозы стала революционным взглядом на соотношение и совпадение этического и познавательного. В этом смысле, её можно назвать этико-методологической революцией Она позволила лишить этически оправданных тоталитарности и права на насилие идею абсолютного Бога, и связала представления об истинных (то есть не зависящих от субъективных аффектов)) добре, благе и наслаждении с познавательной деятельностью. В этом смысле, учение Ф. Бэкона о рациональном, очищенном от «идолов» знании как мощи (power), способной преобразить бытие,— достаточно близко учению об аффектах, но, на наш взгляд, не обладает, своего рода, этическим предохранителем. Вторая половина ХХ — начало ХХI века знаменательна разработками в области биоэтики, экологической этики, этики научного поиска и эксперимента. От того, какой нравственной позицией будет обладать учёный, способный своими открытиями дать толчок к уничтожению человечества, преобразованию его генетической природы, качественной трансформации экосферы, в принципе, зависит будущность человека как социально-биологического существа. Создание ядерного как и иного оружия массового поражения невозможно без аффектированного образа страшного врага. А ведь этот образ, невзирая на секуляризацию общественного сознания, закреплён в государственной идеологии, в конкретных военных и карательных социальных институтах, в реалиях внешней политики. Поэтому постановка Спинозой вопроса о том, каким содержанием должна обладать этика познавательной деятельности, позволила на критически-философском уровне разрушить идею единства сопряжения богопознания и педагогического насили-я-во-имя-добра. Средневековая форма единства познавательного и этического в свете «Этики» становится тенью массового аффекта, длинною в тысячелетия. Одновременно Спиноза задал вектор развития этики научного познания гораздо более полезный для стабилизации социальной эволюции человечества, нежели, например, концепция Ф. Бэкона.
И. Кант попытался противостоять новому, рационализированному объединению этического и познавательного. Но для Фихте и Гегеля его аргументация оказалась преодолимой. Характер и степень преодоления кантианского этико-методологического подхода, во многом определившего развитие позитивистской методологи, требует отдельного серьёзного рассмотрения. Философский труд Маркса продемонстрировал, что в основе союза Гнозиса и Этики лежат трудовые иерархические отношения, в ходе которых вырабатывается определённые представления о добре и зле. Вопрос об этике, формирующейся в рамках рабочего класса, как основании нравственных отношений в коммунистическом обществе, ставился Марксом, а после — В.И. Лениным также на принципиальном методологическом уровне — в силу того, что пролетарская мораль должна была преодолеть отчуждённый капиталистический макиавеллизм, в лучшем случае, рассматривающий человека как «ресурс», а учёного-исследователя — как ценный ресурс.
«Чем более какая-либо вещь имеет совершенства, тем более она действует и тем менее страдает; и наоборот, чем более она действует, тем она совершеннее» — гласит теорема 40 «Этики». Из этого следует, что свобода познавательной деятельности человека является важнейшим условием реализации им собственной сущности, или самоактуализации, если пользоваться терминологией А. Маслоу. «В той мере, в какой мы претерпеваем действие внешних причин, мы несовершенны, смертны, принуждаемы и бессильны»,— выводит А. Майданский заключение из 40-й теоремы. Таким образом, творческая деятельность в различных ее формах суть борьба со смертностью и несовершенством. Для человека мучительны инвалидность, нездоровье, которые не позволяют реализовать ему задуманное. Но даже и в таком печальном физическом состоянии возможна борьба как творчество. Достаточно, во-первых, развить продуктивное воображение человека, и, во-вторых, создать социальные условия для такой их реализации, которая бы позволила преодолеть физические недостатки. Мы знаем множество примеров такого героического преодоления. Но ни Карл Маркс, заканчивающий работу над «Капиталом», перенося заражение крови, вызванное карбункулами, ни слепоглухонемые воспитанники Загорского интерната, ни парализованный гениальный физик Стивен Хокинг не были лишены поддержки того, что Спиноза называл «более сильной человеческой природой», а мы в более привычных категориях можем определить как неотчужденную родовую сущность человека, каковая выражается в коллективе единомышленников, друзей, педагогов, товарищей по партии. Но в любой исторический период общественные отношения способны отчуждать человеческую сущность, и тогда «более сильная природа» оборачивается против человека действующего. В полном соответствии с часто встречающимся в «Капитале» термином «Entäuserung», что дословно значит «овнешнение» она становится той внешней причиной, которая ограничивает и обессмысливает познавательную деятельность человека, ведёт его к смысловой смерти [3, с. 103–104]. Такая гибель горше физической, хотя и может быть ее предвестником. Правда, стоит оговориться, что тотальное смысловое отчуждение особенно страшным может стать для творческого человека, для которого основные жизненные ценности определяются лишь в связи с процессом познания: от начала исследования — до претворения его результатов в общественную жизнь. Те, кто руководствуются «мнением толпы», обладают своего рода иммунитетом от смысловой смерти. Это обусловлено тем, что понятия, используемые обыденным сознанием, являются результатом смешения «идей разума» и «идей воображения» (а последние, по Спинозе, полностью зависят от базовых аффектов — богатства, славы и любострастия). Но тот, кто выбирает путь неаффектированного познающего действия, вступает на достаточно опасный путь. Пусть Спиноза и называл это «познавательной любовью к богу», реализуемой через объективное понимание «единичных вещей» и тем самым вызывающей «высшее душевное удовлетворение», отчуждающее влияние общественных отношений может быть очень велико. Познание ради познания, без активного внедрения в повседневную теоретическую и практическую деятельность, может стать тяжёлым крестом. В этом смысле, уместен образ социально детерминированного смыслового паралича, когда человек понимает сущность происходящего, но, будто бы рассказывает об этом на другом языке. А отчужденная «более сильная человеческая природа» только увеличивает бездну непонимания. И это в лучшем случае. В худшем, общественная реакция на «познавательную любовь» приобретает форму педагогически-исправительного насилия (реализуемого карательными органами), идеологию которого Спиноза подверг столь уничижительной критике. Для автора «Этики» понятие «Бог» было отнюдь не фигурой речи (хотя его абсолют за пределами досужего воображения, скорее, равнозначен разумной вселенной), а, следовательно, философ постоянно находится в плодотворном общении с высшей мыслящей сущностью. Фактически, это со-познание, со-знание истины, элемент единой самопознающей эволюции, единство высшей этики, необусловленной страстями, и познавательного восхождения от абстрактного — к конкретному. Но если Бог как объект познавательной любви (или во многом сходная с ним абсолютная идея) устраняется, то смысловой паралич, вызванный общественным давлением на исследователя, становится весьма обширным. Истинный король атеистов в агрессивном по отношению к нему отчужденном мире одинок, поскольку не испытывает иллюзий относительно Бога — даже в форме субстанциально-разумной вселенной, к вечному процессу самопознания и само-творения которой тем больше человеческая душа, чем больше она практикует охарактеризованную познавательную божественную любовь.
Какой же выход из такой ситуации возможен для человека, преодолевшего даже спинозовскую концепцию божественного и идеалистическую диалектику, но, в силу порабощения внешними обстоятельствами оказавшегося не в силах в полной мере осуществлять свою жизнь, в первую очередь, как процесс познания? Ведь крайне воздействие на него конкретной общественной морали может оказаться тотально репрессивным, ибо таковая, как правило, завязана на интересы эксплуататорских классов и страт и сводящейся к идее идей, абсолютной идее, которая опирается на наиболее мощные, определяющие состояние массового сознания аффекты, выдаваемые за онтологическое противостояние добра и зла.
На наш взгляд, в охарактеризованном выше, подобном спинозовскому (что не значит: одинаковом!), умном смешении логического и этического может быть найден определённый выход для истинного «князя атеистов». Задан он был ещё в весьма религиозные времена и в несекулярных формах. Да и путь это довольно узкий и опасный. Хотя, в известном смысле, неизбежный. Дело в том, что в форме союза абсолютной истины и абсолютного же блага, коренится, своего рода, отрицание отрицания абсолютной идеи. Самопожертвование Христа с целью «смертью смерть попрать» (каковой был в религиозном отношении далеко не первым — достаточно вспомнить египетского Осириса) представляет собой в реальном историческом времени акт соединения Истины и Блага, смешение в едином мистическом континууме до той поры жёстко отчужденных «того» и «этого» света, жизни и смерти. Этот же жертвенный посыл, но уже в философской форме мы находим у неоплатоников. И с тех пор, передача философской традиции самопожертвования — через мистицизм Средневековья — фактически, непрерывна.
Жертвенность революционеров — во многом отражение этой же традиции, но уже на уровне конкретного, философски обоснованного действия. Жертва ради идеи идей — это тоже восхождение от абстрактного — к конкретному. В «Космологии духа» Э.В. Ильенкова подобного рода жертва-возрождение вплетается в естественную циклическую историю вселенной, изображается естественной и закономерной. Э.В. Ильенкову было свойственно обострённое философское чувство охарактеризованной в данной статье традиции единства этического и познавательного, которая обусловливает возможность добровольного самопожертвования-ради-идеи. Такого рода расставание с жизнью — это предел логического восхождения от абстрактного к конкретному в форме всеохватной идеи — при том условии, что теория этого процесса детально и глубоко разработана. Г.В. Лобастов пишет, что «не только экзистенциализмом, но и внутри самой человеческой жизни ближайшим фактом, поставившим вопрос о смысле бытия, была смерть» [2, с. 104]. С одной стороны, добровольное прекращение жизни может лишить бытие смысла, способствовать дальнейшему распространению «смыслового паралича». Но, с другой стороны, это — последний акт тяжелейшей борьбы с репрессивной громадой отчуждающих социальных взаимосвязей. Действие это может не принести победы, может поставить крест на всех смыслах жизни, но может и, вопреки всему, стать действием силы, поскольку утверждает верность своим убеждениям. Это и есть последняя попытка вос-соединения этического и логического ради превращения в чистую, лишённую живого аффектированного субъекта, логику научного творчества, каковая потом вдруг трансформируется в возрастающий интерес к научным трудам, в формирование научно-методологической традиции. Думается, Э.В. Ильенков в единстве своего творческого и морального порыва осуществил указанную логику.
Литература
Ильенков Э.В. Космология духа.— URL: https://cilyenkov/texts/phc/cosmologia. htmlaute.tk/
Лобастов Г.В. Диалектика разумной формы и феноменология безумия.— М.: Русская панорама, 2012.
Никишин С,В. Отчуждение и революционность в современном мире (по материалам статей Э.В. Ильенкова) / Э. Ильенков и социализм. Сборник научных статей по материалам Ильенковскихстений — 2001 под ред. проф. С.Н. Мареева — М., 2001.
Скрипник П.А. Проблема зла у Оригена/ Проблема зла и теодицеи. Сборник научных трудов(Электронный ресурс. URL: https://azbyka.ru/otechnik/ bogoslovie/problema-zla-i-teoditsei/12)
Спиноза Б. Могущество разума: с комментариями и объяснениями / сост., предисл., коммент. А. Майданского — М.: издательство АСТ, 2019.
4.11. Макаров В. В. Значение логической концепции Э. В. Ильенкова для развития научного знания
Поводом к размышлению на тему, вынесенную в заголовок данной работы послужила статья Побиска Георгиевича Кузнецова под названием: «Роль работ Э.В. Ильенкова в разработке систем жизнеобеспечения» [2, с. 23–28]. Конструкторские разработки и теоретическое наследие П.Г. Кузнецова составляют не только значительный раздел современной отечественной космонавтики, но и являются серьезным подспорьем в развитии РКО (Русского космического общества), начавшего свою работу в 2017 году.
В год 70-летия Э.В. Ильенкова его близкий друг и единомышленник, ученый, разработчик космических систем безопасности решил вызвать, как он выразился в своей статье, одного из «Духов Великих Предков», а именно Г.В.Ф. Гегеля. Автор статьи приводит определенную часть ранней гегелевской работы «Кто мыслит абстрактно?» и далее предлагает дочитать читателям работу великого немца. «Именно с Гегеля история философии, резюмирует свою позицию П.Г. Кузнецов, стала считать истину только тогда истиной, когда она конкретна» [2, с. 27].
Понимание истины как высшей и всеобщей конкретности начинается, конечно, не с Гегеля, а, уже с Парменида, высказавшего мысль о том, что «бытие есть Единое», но без сомнения можно согласиться с тем, что именно с Гегеля это понимание (такой взгляд на истину) становится в некотором смысле общедоступным и необоримым. После него не знать об этом также неприлично, как, например, не знать о различии рассудочной и разумной способности познания для того, кто потрудился познакомиться с кантовской критической философией. Однако, иметь о чем-то представление и понимать то, что стало известным — не одно и то же. Это хорошо понимал и Побиск Георгиевич: «Пора Главным и Генеральным конструкторам узнать (как герою Мольера, обнаружившему, что он говорит «прозой»), что они в своих разработках пользуются методом Гегеля. Именно в методе восхождения от абстрактного к конкретному и состояло участие Эвальда Ильенкова при разработке «систем жизнеобеспечения, которые считались секретными».
В этой важнейшей для развития современного научного знания теме сам подход нашего выдающегося ученого и конструктора можно было бы несколько поправить, дополнив успешность его практической деятельности более глубоким взглядом на теоретическую сторону этой же самой деятельности, а именно: замысел Генерального конструктора только потому и оказался реализованным, а главное, успешным, что он изначально, в себе самом был конкретным. Куда отправили академика В.В.Парина, а вместе с ним и всю передовую советскую науку, занятую вопросами жизнеобеспечения наших космонавтов? — Устанавливать, ЧТО должно быть в системе и КАК именно в ней все можно устроить? Куда, а точнее, к кому отправился Побиск Кузнецов для решения, вытекающей из этой более широкой цели, конкретной задачи построения «дерева целей»? К настоящему философу своего времени — Э.В. Ильенкову! На уровне системы обеспечения эта задача с участием Эвальда Васильевича была решена. А если сейчас к ученикам и последователям Ильенкова придут наследники С.П. Королева, В.П. Мишина и П.Г. Кузнецова с подобными или еще более сложными задачами! Простыми разговорами об абстрактном и конкретном общему делу вряд ли можно будет помочь.
Переход из мыслимого в воплотившееся сам по себе еще не касается и не решет проблемы абстрактного и конкретного. Даже материала небольшой статьи Гегеля («Кто мыслит абстрактно?) достаточно, чтобы понять, что абстрактной может быть и сама практическая деятельность., процесс воплощения и опредмечивания задуманного и желаемого. Материализация как таковая, чувственная данность ровным счетом ничего не говорит о степени конкретности предмета. Где же источник и критерий конкретности мыслимого или его противоположности — видимого? Здесь опять на помощь приходят «азы» гегелевского понимания Дела настоящей философии: источник и критерий конкретности всего сущего находится в самой сущности, а если еще глубже и определеннее — в понятии этого сущего, каким бы оно ни было и в какой бы стихии себя не развертывало. Такой взгляд на вещи вытекает из гегелевского понимания Истины, не как соответствия нашего представления чему-то вне его находящемуся, тому, о чем наше представление, а соответствие самого предмета его собственной сути и его понятию, или, что то же самое: соответствие понятия тому,— насколько ему (понятию) удалось воплотиться в своей собственной предметной реальности.
В связи с этим нельзя не отметить, что так называемый «метод восхождения от абстрактного к конкретному» в том его виде, в котором он с легкой руки К. Маркса «кочует» из книги в книгу не имеет отношения к спекулятивному методу гегелевской философии. Последняя в такого рода упрощении и придуманном схематизме не повинна. Мышлению как функции высокоорганизованной материи или сознанию, пересаживающему в свою голову материальное и преобразовывающее его в ней же в идеальное, гегелевский метод, если можно так выразиться, даже не приснится.
В своем пленарном докладе на Ильенковских чтениях этого года «Философия и мировоззрение Э.В. Ильенкова» профессор Г. В. Лобастов совершенно правильно упомянул о тавтологии как серьезном моменте и форме аргументации, которой был не чужд и Эвальд Васильевич. К примеру (которых не мало), в очерке «Материалистическое понимание мышления как предмета логики» можно прочитать: «Маркс и Энгельс доказали, что логические формы и законы деятельности человека суть следствие (отражение) действительных, ни от какого мышления не зависящих законов предметно-человеческой деятельности — практики во всем ее объеме и развитии» [1, с. 228]. Аристотель сильно бы удивился такой постановке вопроса и, если бы отвлекался на «предметно-человеческую деятельность», то вряд ли оставил бы нам свою Первую философию и «Аналитики». На первый взгляд, в приведенном выше положении: человеческая деятельность (ума) зависит от человеческой деятельности (ума практикующего). Но на самом деле, главное содержание высказываемой мысли и позиции состоит в следующем: духовное, высшее, всеобщее зависит от практического, конечного и не ведающего себя! Помимо тавтологичности как приема, мы имеем здесь дело с обычным уверением, субъективной убежденностью. Теоретические предпосылки классического марксизма, к большому сожалению, не предполагают Логики как науки, в том виде в каком ее начал разрабатывать Аристотель, а завершил Гегель. Когда дело доходит у «классиков» до самого существенного — в ход идут частные примеры и отсылки к ограниченным сферам бытия: экономике буржуазного периода, историческим формам общежития, товарному фетишизму, сюртуку и «сапожной ваксе». То, что Э.В. Ильенков вынужден был придать своей «Диалектической логике» форму очерков тоже говорит о нерешенной в рамках «материалистической парадигмы» проблеме всеобщности и необходимости полученных им результатов.
Нельзя не согласиться с профессором Г.В. Лобастовым и в том, что для определенной точки зрения тавтологические положения являются предельными. Предельными они были и для логической концепции Э.В. Ильенкова. Но это, на мой взгляд, не ее достижение или преимущество, а существенный недостаток, который выразился в форме постулирования элементов определенной интеллектуальной позиции, «подпираемой», как правило, цитатами из «классиков».
Задавали ли сторонники так называемого «метода восхождения от абстрактного к конкретному» себе вопрос: почему таких определений как абстрактное и конкретное нет среди категорий, рефлективных определений или понятий гегелевской «Науки логики»? — Потому что абстрактным является Все, что не достигло полноты своего развития и существования. Конкретным является тоже Все, если оно определено в себе самом и развернуло свою реальность в соответствии со своей сущностью.
Все определенное в себе — противоречиво. Именно поэтому и возможно всякое изменение, движение, самовосхождение и развитие. Таким образом, «восходит» всегда и только Конкретное к себе самому из своего первоначального и поэтому (и в этом смысле) абстрактного состояния. Конкретное находится у себя самого в своем начале, в своем абстрактном моменте. Противоречие между исходным состоянием и целью развития и является движущей силой данного процесса. Как ложное есть момент процесса Истины, так и абстрактное является не самостоятельным и не самодостаточным моментом процесса самодвижения и саморазвертывания Контретного.
При всем критическом отношении к форме изложения и характеру аргументации в логических работах Э.В. Ильенкова в их теоретическом или практическом применении, как это видно по совместной работе с П.Г. Кузнецовым, несомненным является и следующий вывод. Величайшая заслуга Э.В. Ильенкова заключается в том, что он, несмотря на догматический гнет официальной идеологии, проблематизировал вопрос предмета и истинного метода философской науки и, как мог, попытался его решить, исходя из тех предпосылок, которые оказались для него доступными и приемлемыми. Эвальд Васильевич заповедывал своим ученикам и последователям: читайте Гегеля! К этому пожеланию выдающегося мыслителя советской эпохи можно добавить лишь следующее: следует не только читать, перечитывать, но и попытаться понять результаты классического периода развития философии.
Еще более грандиозной совместной задачей является воплощение такого понимания в более совершенную реальность, чем та, что мы имеем перед собой в настоящее время. Положение Э.В. Ильенкова о том, что «окончательный продукт всей работы в области философской диалектики — решение конкретных проблем конкретных наук» — остается безусловно в силе и как никогда актуально.
Литература
Ильенков Э.В. Философия и культура.— М.: Политиздат, 1991.
Кузнецов П.Г. Наука развития Жизни: сборник трудов. II Т.— Москва-Дубна: РКО, РАЕН, 2015.
4.12. Малашенко Ю. Н., Герасимов Ф. С. Диалектико-логическая интерпретация квантовой механики
Для периода классического естествознания было характерно понимание мира как определенного в своих свойствах, однозначного в своей процессуальности. При этом наука, опираясь на аппарат формальной и математической логик, успешно описывала определенные, строго однозначные изменения однозначно определенных свойств себетождественных объектов. С возникновением квантовой механики на первый план вышли процессы становления устойчивых структур микро- и макрореальности из чего-то, что этими структурами не является. Это означает необходимость использования логических средств познания возникновения нового, выработанных в диалектической философии, и прежде всего — метода восхождения от абстрактного к конкретному. В нашей статье предпринимается попытка, опираясь на работы Э. В. Ильенкова, Л.К. Науменко и В.А. Босенко, применить метод восхождения к материалу квантовой механики.
В интерпретации квантовой механики, ее понимании в последние десятилетия трудно заметить прогресс, если не считать таковым «разбавление» доминирующей позитивистской и инструменталистской методологии все более усиливающимся ее крайними идеалистическими разновидностями. Авторам неизвестны диалектико-материалистические интерпретации квантовой механики, основанные на идее становления. Но наука как творение социума умнее каждого из своих гениальных создателей. Ростки диалектики пробиваются сквозь логику позитивистской интерпретации квантовой механики, подкрепленную мощным математическим аппаратом. Обозначить контуры диалектико-материалистического понимания проблем квантовой механики (возможно — ошибочного) является целью данной работы.
Как введение в проблематику очертим ядро квантовомеханического описания (т.е. его математические и экспериментальные аспекты), понимание которого необходимо для проникновения в сущность микрообъекта и его свойств, раскрытия фундаментального вероятностного характера детерминации его поведения, таинственной пространственно-временной нелокальности отношений микро-процессов т. д. Таким ядром является непонятое до сих пор соотношение однозначно динамического изменения состояния квантовой системы, представимого суперпозицией базисных состояний, и неоднозначного, вероятностного разрушения суперпозиции, т. е. изменения пси-функции, ее мгновенной редукции к одному из базисных состояний квантовой системы в процессе измерения некоторой квантовой величины. Непонятность сущности микрообъекта заключается в следующем. Если микрообъект находится в суперпозиции состояний с определенным импульсом, то его координата неопределенна, но в ходе измерения микрообъект обнаруживается в состоянии с определенной координатой.
До сих пор диалектика квантовомеханического познания проявлялась в следующем. В ряде материалистических интерпретаций квантовой механики обосновывалось, во-первых, что состояние в ней отражает присущие микрообъектам объективные потенциальные возможности проявления свойств микрообъекта в определенных условиях, а во-вторых, то, что переход квантовых возможностей в некоторую действительность происходит в процессе разрушения суперпозиции. Авторы принимаю позицию тех ученых, которые считают, что разрушение суперпозиции, редукция пси-функции как переход квантовых возможностей в некоторую действительность есть отражение специфического взаимодействия, материального вероятностного физического процесса, отличного от однозначного изменения состояния квантовой системы, описываемого уравнением Шредингера.
Сказанное является значимым вкладом в раскрытие глубинной сути микропроцессов. Но важно, что такой подход не раскрывает сущности микрообъекта, ограничиваясь общими диалектическим рассуждениями о противоречивой корпускулярно-волновой природе микрообъекта. Представляется, что в подобных рассуждениях речь идет не столько о сущности микрообъекта и его свойств, сколько об общеметодологическим признании существования некоторого таинственного материального процесса и об эмпирическом проявлении этих свойств, в частности, в явлении перехода в ходе измерения микрообъекта из нелокализованного состояния в локализованное.
Авторы, пытаясь диалектико — логически осмыслить специфику микрореальности, опирались на принципы материалистической диалектики как методологии научного познания и логику развития физического познания в целом. В результате они пришли к выводу о возможности выдвижения соответствующей гипотетической идеи-идеализации. Суть её — существование истинно элементарных микрообъектов (фотонов, электронов, протонов, нейтрино и кварков) как локализованных отдельных образований, форм квази-макроконечности относительно к определенному физическому процессу, выражаемому редукцией пси-функции. В этой идеализации отражается объективный творческий характер определенной всеобщей микрореальности, процесс становления, возникновения в ее лоне исходных квази-макроскопических конечных образований, их мерцающий, мгновенный, случайный в определенном отношении способ бытия. Истинно элементарные квази-макроскопические микрообъекты являются конечной мерой исходной всеобщей микрореальности, определяясь ее самоограничением.
Идеализация относительности существования истинно элементарных микрообъектов близка вакуумной и реляционной интерпретациям. Логично поэтому обращение к анализу одного из основных понятий современной физики, к анализу понятия вакуума. Подавляющее число физиков придерживается следующего его понимания. Существует особая материальная среда, напоминающая эфир. Но с неклассическими свойствами. Этот эфир нельзя наделять некоторыми квазиклассическими частями, изменения которых прослеживаются во времени. К неклассическому эфиру нельзя применить и понятие движения в классическом смысле, т.е. определить скорость движения отдельного тела относительно эфира. Вакуум существует в пространстве и времени, т.е. он помещен в 4-х мерное пространственно-временное многообразие специальной теории относительности. Вакуум обладает фундаментальным свойством: в нем происходят непрерывные превращения, рождение и гибель так называемых виртуальных частиц. Рождение и гибель последних определяется соотношением неопределенностей для энергии и времени. Виртуальные частицы разнообразны. Они могут принимать форму виртуальных фотонов, электронов или других микрочастиц. Сказанное означает, что вакуум есть сложнейшая динамическая система, в которой непрерывно происходят процессы возникновения и гибели, характеризующиеся диалектикой бытия и небытия. Так в рациональность теоретической физики вошла иррациональная (казалось бы) идея небытия как мерцающего бытия, флуктуаций вакуума. Был создан определенный математический аппарат, описывающий возникновение реальных частиц из различных полей в нулевом состоянии.
Понимание вакуума не лишено существенных недостатков, которые во многом определяются тем обстоятельством, что оно основано на утверждении о существовании абсолютного четырехмерного непрерывного пространственно-временного многообразия. Отсюда вытекает и то, что это понимание не отражает присущей отношениям квантового мира нелокальности, установленной экспериментально. Поэтому мы придерживаемся взглядов тех ученых, которые считает необходимым существенно углубить нынешнее понимание сути физического вакуума или даже его радикально (в определенном отношении) изменить его. Подчеркнем, что в соответствии с содержанием диалектико-материалистической методологии мы не считаем вакуум некой первоматерией. Вакуум есть исторически возникшая уникальная форма отдельного конечного объекта, связанного с другими вакуумами. Вакуум как форма конечного отдельного объекта резко отличается от множества макроскопических форм отдельных конечных объектов, взаимосвязь которых составляет основу того физического макроскопического мира, в котором возникло и развивается человеческое общество. Главное в этом отличии — уникальные целостность и неделимость вакуума, в которых и проявляется его специфика как формы отдельного конечного объекта.
Отметим, что имеется доказанная теорема, объясняющая порождение дискретных структур и всех видов материи из вакуума, не обладающего дискретными выделенными элементами. В виду этого, методология познания микромира необходимо приводит к отказу от редукционистского дробления всех без исключения видов материальных образований.
В заключение анализа понятия вакуума выскажем замечание о его математическом описании. Углубление нынешнего понимания физического вакуума и его изменение требуют и соответствующего математического аппарата. Некоторые физики высказывают осторожное мнение, что уравнение Шредингера, описывающее временное изменение квантового состояния, пси-функции, содержит множество не раскрытых возможностей, что связано с несимметричным вхождением в него пространственных и временных координат. Напомним, что метод вторичного квантования, основанный на принципах специальной теории относительности, требует такой пространственно-временной симметрии. Эти физики понимают функцию состояния и ее изменения как отражение глубочайшей сути физической реальности. Они называют ее Мировой функцией, описывающей при соответствующей конкретизации многообразие квантового мира — от вакуума до макроскопических квантовых явлений. Мы согласны с такой позицией. Предлагаемая нами идеализация относительности существования истинно элементарных микрообъектов фактически базируется на понимании вакуума и соответственно пси-функции как отражения (приблизительного, одностороннего, абстрактного) происходящих в квантовом мире противоречивых процессов становления, возникновения нового и его гибели, диалектики бытия и небытия исходных микрообразований.
Идеализация относительности существования истинно элементарных частиц, связанная с понятием вакуума, органически соотносится с его пониманием как основного, базисного предмета изучения современной физики. Отсюда возникает необходимость диалектического понимания порождения из вакуума определенных уровней окружающего человека физического мира.
На основе данных современной физики можно выделить следующие уровни физического мира, связанные определенным образом с квантовыми эффектами: 1) уровень субмикромира — мир физического вакуума; 2) уровень микромира, в узком смысле слова — мир истинно элементарных микрообъектов — фотонов, электронов, протонов...; 3) уровень мезомикромира — мир атомов, молекул,...; 4) уровень макроскопических квантовых явлений; 5) уровень классического (не-квантового) физического мира — уровень классических макроскопических объектов и электромагнитного поля, существующих в пространстве и времени.
Раскроем диалектическое содержание схемы уровней квантового и классического миров, углубив одновременно диалектико-логическое понимание специфики квантовомеханического описания. При этом мы будем, естественно, использовать известные логико-категориальные структуры материалистической диалектики, уделив основное внимание диалектике отрицания отрицания.
Напомним, что мы рассматриваем вакуум не как некую первоматерию, а как уникальную форму конечного, отдельного объекта. Вакуум как любая форма конечности внутренне противоречив, он отрицает сам себя. Конечно, противоречивость вакуума, единство его противоположностей на данном этапе развития физики есть, так сказать, некая вещь в себе, т.е. есть совершенно таинственное, непонятое явление физического мира. Отражением противоречивости вакуума, с нашей точки зрения, является соотношение неопределенностей для энергии и времени. Но, подчеркнем еще раз, утверждение противоречивости вакуума является логически необходимым, ибо оно есть исходный пункт диалектического анализа функций вакуума как физического объекта.
Раздвоение единого физического вакуума, борьба снимающих его противоположностей есть его самоотрицание, т.е. отрицание в исходном пункте диалектического движения физической мысли. Диалектическое движение обязательно доходит до разрешения. Последнее выступает вторым отрицанием, т.е. отрицанием отрицания, которое содержит в себе возврат к обогащенному старому, т.е. к старому на новом более высоком уровне развития. Таким вторым отрицанием в физике микромира является возникновение мира истинно элементарных микрочастиц. Второе отрицание, отрицание отрицания есть переход физического вакуума в новое качество, в качество мерцающего, относительно независимого от вакуума бытия истинно элементарных микрочастиц. Это второе отрицание есть прерыв непрерывности вакуума, скачок, нарушение одной меры, меры вакуума, и создание новой меры, меры возникающего, мерцающего, квазиклассического мира истинно элементарных микрочастиц.
Углубимся далее в диалектику самоотрицания вакуума. Если диалектика утверждает, что превращение, исчезновение есть способ существования материи вообще, то мысль об отрицании вакуума как его абсолютной гибели не имеют смысла. В мире, где материя не исчезает и не появляется из ничего, абсолютное ничто, абсолютное небытие не существуют. Диалектик не сводит ничто вакуума к нулю, к чистому отрицанию, к бессодержательности, а видит в нем сущностное физическое содержание. Для диалектика небытие вакуума есть его бытие. Вакуум как уникальное движущееся физическое нечто только переходит из одной формы в другую, а не исчезает, выступает как конкретное определенное ничто, как ничто определенной конкретной формы движения. Т.е. ничто вакуума всегда является определенным ничто, и тем самым является физическим нечто, выступая необходимым моментом диалектически понимаемого самодвижения вакуума.
Переставая быть собой, вакуум как форма конечности, становится сразу определенной своей другой физической формой. Ничто в этом становлении, превращении, переходе успевает как бы промелькнуть как некоторое не-это по отношению к превращающимся друг в друга различным нечто. Эти различные нечто суть вакуум и возникающий мир истинно элементарных микрочастиц, т.е. суть взаимосвязанные формы конечности. С диалектической очки зрения, ничто вакуума выступает в единстве с его бытием, как некое единство бытия и не-бытия; в виде некоторой являющейся сущности, общности, необходимости; в виде закономерной связи, устанавливающей единство, общность переходящих друг в друга различных нечто — вакуума и возникающего мира истинно элементарных микрочастиц. С нашей точки зрения, такой являющейся сущностью, определенной закономерной связью являются, прежде всего, понятие амплитуды вероятности квантовых переходов, подчиняющейся определенным правилам, интерференция амплитуд квантовых переходов и принцип суперпозиции квантовых состояний. В этих понятиях схватывается мелькающая реальность превращающегося физического бытия, отражается тенденция (возможность) стать многим другим, устанавливается внутренняя связь со всеобщностью. Бытие и ничто, как элементы содержания понятия вакуума, должны рассматриваться как предполагающие друг друга, существующие друг в друге.
Далее. Для диалектика суть дела в том, что любое бытие и есть и не есть в одном и том же отношении; является собой и в то же время всем другим, не сведенным ни к одному определенному другому, ни к их сумме. Именно в этом смысле вакуум как форма бытия выступает как единство бытия и ничто. Понятие ничто вакуума обнимает, охватывает собой все определенное (вакуумное) остальное, с чем вакуум обязательно имеет связи. Это составляет некоторую внутреннюю противоречивость вакуума в одном и том же отношении в его всеобщих связях, позволяющей ему быть одновременно и определенной формой движения, данной вещью, и отрицанием этой формы — материей вообще.
Физический вакуум как форма конечности, будучи в каждый данный момент внутренне противоречивым как единство того, что он есть, и того, что он не есть, имеет возможность стать всем определенным другим и этим реализовать в этой возможности то, что он (вакуум) не есть. Но именно возможность, разрешить которую только предстоит в процессе движения вакуума. А пока — эта возможность заключается в вакууме в виде некоторой неопределенности, в форме неопределенного «не-это» (в форме понятий амплитуды вероятности квантовых переходов, интерференции амплитуд квантовых переходов, суперпозиции квантовых состояний), неопределенности, существующей как неразрывная сторона, противоположность некоторого «это», т.е. того, что вакуум есть, но содержащего свое отрицание как свое другое.
Свое разрешение противоречие бытия и небытия вакуума находит в категории становления, в становлении мира истинно элементарных микрочастиц. Именно в становлении этого мира реализует себя и обнаруживается непрерывность движения вакуума. Обнажение сущности этого момента вакуума происходит в процессе качественного его превращения. Здесь мы имеем одновременно не только некоторое «это» и «не-это» вакуума, где через последнее выражается определенное другое, в которое происходит переход, а «это», и одновременно «не-это» вакуума, но теперь уже без указания на конкретную определенность, скрывающуюся за «не это». В самом становлении как форме бытия вакуума, каковым является вакуумный переход, заключается не просто и не только утверждение чего-то, но и отрицание, а точнее, утверждение через отрицание. Суть превращения, становления заключена в преодолении им себя как данной формы, исчезновение как такового, отрицание себя и только таким образом становление другим. Отсюда — быть вакуумом — это не быть им.
Итак, неопределенностью — возможностью стать всем другим, т.е быть в суперпозиции состояний — вакууму предстоит быть до тех пор, пока не будет разрешено в процессе становления его внутреннее противоречие, и он не превратиться во «что-то». Но такое превращение и при этом разрешение данных противоречий, принадлежащих вакууму, может быть превращением только в определенное что-то, как некоторое другое «это», а не во все другое сразу. В своем движении, превращении вакуум, как и любая форма конечности, может сделать шаг только в одном направлении, что исключает все другие возможные направления. Этим как бы подавляется бесконечное многообразие и всесторонность, заключающиеся в возможности и неопределенности вакуума. Возможности исчезают, они редуцируются к одной возможности, переходящей в действительность.
Подчеркнем еще раз, что при становлении вакуума определенным другим происходит и обнаружение, установление общей его связи со всем другим, а не только с тем, в которое осуществляется переход. И схватывается эта сторона категорией ничто во всей ее неопределенной определенности.
Вернемся к диалектике отрицания отрицания, к связи этой диалектики с категорией скачка скачкообразного изменения вакуума, и связанным с последней категориями. Первое отрицание оставляет качество вакуума самим собой, не выводит вакуум за его пределы, за пределы присущей ему меры, данного единства борьбы противоположностей. Первое отрицание заключается во внутренней противоречивости отрицающего себя вакуума, в пределах одной и той же его сущности; выступает как лишь сторона данного единства присущих вакууму противоположностей, утверждающая через отрицание единство данного цикла, но не разрыв с ним, не переход в другое, не исчерпание цикла. Оно приводит к тем изменениям вакуума, которые, если рассматривать в плане категорий количество-качество, являются лишь количественными. Какими бы элементами нового ни казались эти изменения вакуума, они есть по сути само старое, в нем и для него. И в этом смысле всякие разговоры о так называемых крупинках нового, элементах, и т.п. в вакууме — несостоятельны.
Лишь второе отрицание обеспечивает выход за пределы данной меры вакуума, за пределы данной его сущности, оно разрешает существующее единство его противоположностей и создает скачком новое единство количества и качества новую меру, прерывает постепенность. При этом формируется новое единство мира истинно элементарных микрочастиц, тождество их противоположностей, которое после этого (как новая самостоятельная сущность) вступает во внешнюю межсущностную противоречивость, во внешние отношения с предшествующей сущностью вакуума. Второе отрицание как бы обрывает «пуповину» со старым вакуумом и обеспечивает новообразованию — миру истинно элементарных микрочастиц, родившемуся из вакуума, относительно самостоятельное существование. Таким образом, вакуумный скачок — это характеристика качественного превращения вакуума, это перерыв постепенности. Смысл же этого не в длительности, а в том, что вакуум, количественно изменяясь, в результате прибавления или убавления количества определенных качеств, составляющих своим единством меру данного качества, вдруг прерывает это изменение и превращается в нечто совершенно другое, в мир истинно элементарных микрочастиц, не похожий ни на то, что накапливалось в вакууме, ни на сам вакуум,. Суть скачка в одном — разрушение данного единства количества и качества (меры вакуума) и создание другого единства количества и качества — меры мира истинно элементарных микрочастиц.
Такое понимание вакуумного скачка не оставляет места редукционистскому, плоско эволюционному представлению о его развитии как о появлении в нем крупинок, элементов нового, которые якобы со временем начинают преобладать над старым вакуумом и вытесняют его. При таком метафизическом подходе остается неясным вопрос, откуда берутся эти крупинки вакуума.
Само то, что является вакуумным скачком, характеризует качественное превращение, разрешение противоречий вакуума, переход в противоположность как обнаженное единство бытия и небытия. Еще раз подчеркнем, что суть такого состояния в том, что это и уже не то, что было, но еще и не то, что будет. Это диалектика связи между еще движущимся, развивающимся вакуумом (тем самым — между некоторым определенным исчезающим ничто вакуума) и возникающим, но совсем еще слабым новым миром истинно элементарных микрочастиц.
Раскроем, далее, наше понимание и связи уровня микромира, в узком смысле слова — мира истинно элементарных микрообъектов — фотонов, электронов, протонов, … и уровня мезо-микромира — мира атомов, молекул.
Диалектика развития требует рассматривать мезо-микромир как мир становящийся, возникающий на основе мерцающего микромира истинно элементарных микрочастиц. Можно предположить, что взаимодействия истинно элементарных микрообъектов приводят в образованию других более сложных элементарных микрочастиц, таких, например, как К-мезоны. Возникают и первичные атомы, например атом водорода или атом гелия. Так, атом водорода можно в первом приближении рассматривать как дифракционное явление электрона, обладающего волновыми свойствами, и захваченного протоном.
Понимание важных черт микромира и мезомикромира невозможно без понимания сути соотношения неопределенностей для энергии системы и времени ее существования. Смысл соотношения «энергия-время» состоит в том, что неопределенность энергии системы в некотором состоянии связана с неопределенностью времени ее существования в данном состоянии. Соотношение неопределенностей «энергия-время» позволяет сделать вывод, что фотон излучается системой, например, ядром, находящимся в суперпозиционном состоянии с неопределенной энергией, в течение времени жизни этого состояния. Это еще раз показывает, что фотон не есть «частица света», а есть целостный процесс становления, возникновения фотона, проявляющего в определенных условиях свойства «частицы».
Далее, обратимся к частицам с очень коротким временем жизни, называемым резонансными. В соответствии с соотношением неопределенности «энергия-время» можно утверждать, что короткое время жизни резонансных частиц детерминируется, определяется энергетической неопределенностью их существования как специфического процесса становления, возникновения. Неопределенность энергии таких частиц составляет 20% их массы.
В ряде работ показано, что если энергия системы точно не определена и имеет неопределенность, то ее усредненные параметры будут изменяться за время, определяемое соотношением неопределенностей «энергия-время». Рассматривая конкретную задачу определения радиуса атома, находящегося в суперпозиционном состоянии с неопределенной энергией, можно найти зависимость радиуса атома водорода от времени и сделать вывод, что атом «дышит», расширяясь и сужаясь во времени.
Это означает, что атом представляет собой сложную систему, которая сохраняет свою определенность, воспроизводя существенные связи с той субмикрореальностью, из которой, в конечном счете, он возникает как система микрообъектов.
В отличие от истинно элементарных частиц, природа которых, с нашей точки зрения, непосредственно связана с диалектикой становления, атомы имеют явно выраженную корпускулярную природу. Было получено изображение атомов, показано построение их линейной цепочки. И тут возникает следующий вопрос: интерференция каких объектов может быть наблюдаема, если, формально рассуждая, можно вычислить длину волны де Бройля любого объекта?
Мы считаем, что утверждения некоторых ученых о том, что квантовая механика одинаково применима ко всем физическим объектам, является ложным. Оно есть типичное выражение редукционистских взглядов. Хотя мы не в состоянии провести точную грань между истинно элементарными микрообъектами и теми микрообъектами, в поведении которых при наличии квантовых эффектов начинает проявляться их макроскопическая природа, но считаем, что такая качественная грань существует.
С этой точки зрения взглянем на проведенные недавно эксперименты, в которых наблюдалась интерференция больших молекул, содержащих сотни атомов. Размер этих молекул на несколько порядков превышает длину волны де Бройля. Возникает вопрос: какой смысл может иметь в данном случае волновая функция? Согласно общепринятой интерпретации волновой функции получается, что вероятность обнаружения интерферирующих молекул отлична от нуля в области, много меньшей размеров самой интерферирующей молекулы. Если волновая функция описывает реальное положение молекулы, то это не имеет смысла. С нашей точки естественно, что на мезоуровне волновая функция не есть характеристика микрообъекта как такового. Но она не может быть и отражением не присущей крупным молекулам мерцающей природы истинно элементарных микрочастиц. Поэтому мы предполагаем, что волновая функция есть и характеристика сложных форм проявления субмикромира на более высоком уровне движения микрореальности, в частности, и на уровне крупных молекул, которые обладают выраженной макроскопической природой. Крупные молекулы представляют собой такую сложную систему, которая сохраняет существенные связи, отражаемые волновой функцией, с той субмикрореальностью, из которой, в конечном счете, они возникают.
Отметим еще одно обстоятельство, связанное с изучением прохождения крупных молекул через щели. Исследования показали, что молекулы не летят по прямой траектории как маленькие макрообъекты. Но в то же самое время, они суть себетождественные индивидуальные формы конечности. Тогда можно предположить, что в движении молекул проявляется нечто вроде спонтанного отклонения их движения по прямой траектории, напоминающее clinamen Эпикура.
Говоря о проявлении квантовых закономерностей на уровне макрообъектов, мы сталкиваемся с явлениями сверхтекучести и сверхпроводимости. Оказалось, что для объяснения сверхтекучести Ландау допускает, что в сверхтекучей фазе атомы, как индивидуальные объекты, как бы исчезают. Мы считаем возможным предположить, что здесь проявляется аналогия с относительностью существования микрообъектов. Другими словами, просвечивается логика возникновения нового и на уровне такого макроскопического квантового явления как сверхтекучесть. Аналогичные выводы можно сделать и на основе теории Гинзбурга-Ландау, описывающей сверхпроводимое состояние, в которой постулируется, что носители заряда как бы теряют свою индивидуальность. Т.е. атомы или носители заряда, не могут двигаться индивидуально. Вся сверхпроводящая физическая система — бозе-эйнштейновский конденсат двигается как одна большая частица.
Сказанное означает, что нет универсального понимания аппарата квантовой физики; что традиционная эмпирическая интерпретация поведения фотонов, электронов..., которая включает в себя определенное понимание суперпозиции состояний и их редукции, не применима к объяснению многих квантовых явлений; что конкретный анализ описания квантовых явлений требует конкретного понимания волновой мировой функции, объективное содержание которой в различных сложных формах проявляется в многообразных явлениях микромира. Т.о., мы поддерживаем мнение тех физиков, которые не считают, что традиционная эмпирическая интерпретация квантовомеханического аппарата применима к объяснению всех квантовых явлений, например, явлений при сверхнизких температурах. Развиваемое нами понимание квантовых явлений на основе идеализации относительности существования микрообъекта как выражения Логики возникновения нового полностью согласуется с антиредукционистской идеей неуниверсальности аппарата квантовой механики.
Сказанное выше позволяет очертить следующую исходную схему идеализаций квантовомеханического описания (в первом приближении).
Первая идеализация это идеализация квантовомеханических возможностей возникновения истинно элементарных микрообъектов. Она имеет определенную материальную, а не только логическую действительность; связана с природой вакуума как действительностью возможности возникновения микрообъекта; отражает не возможности микрообъекта, как традиционно считается, а возможности его возникновения как новой конечной, ограниченной формы из вакуума. Отражением возможностей возникновения, становления (и их действительности) микрообъекта являются, в первую очередь, функция состояния и уравнение Шредингера.
Вторая идеализация это идеализация двух видов взаимодействий, а вернее, двух расщепленных взаимосвязанных форм единого вакуумного взаимодействия. Один вид взаимодействия — это непрерывные (волновые, как их обычно называют) взаимодействия, описывающие изменения волновой функции, подчиняющиеся однозначно детерминированному уравнению Шредингера. Второй вид взаимодействия можно назвать корпускулярным, дискретным, в ходе которого неопределенные значения некоторых физических величин, становятся определенными (например, положение микрообъекта). Это взаимодействие описывается не-дедуктивным процессом, характеризуемым существенно вероятностными чертами — так называемой редукцией функции состояния. Редукция пси-функции есть выражение диалектики детерминистической определенности процессов становления, связи уровней физической реальности — субмикромира и микромира. Редукция есть отражение формы разрешения парадокса развития, парадокса возникновения нового, есть скачок, имеющий не-дедуктивный необратимый характер.
Третья ключевая идеализация — это идеализация относительности существования истинно элементарных микрообъектов — фотонов, электронов, протонов,...— как локализованных отдельных образований, форм квази-макроконечности к определенному физическому процессу, выражаемому редукцией пси-функции. В этой идеализации отражается существенный аспект объективного творческого характера материальной микрореальности, процесс становления, возникновения и гибели исходных квази-макроскопических конечных микрообразований образований, их мерцающий, мгновенный, их случайный в определенном отношении способ бытия.
Такая диалектика понимания специфики квантовомеханического описания предполагает, что между генератором микрообъекта в источнике (начало квантовомеханического эксперимента) и его становлением в ходе определенных процессов, связанных с детектором (завершение эксперимента), необходимо существует некоторое исходное материальное движение, возможно, мерцание микрообъекта. Становление микрообъекта как формы квази-макроконечности есть то новое, что рождается в соотносящихся материальных процессах; новое, которое не может быть формально-логически выведено и сведено к определенности исходного материального движения.
Очертим важное следствие предлагаемого подхода, касающееся сути корпускулярно-волнового дуализма. Традиционно считается, что микрочастицы нелокализуемы, т.е. они не существуют как имеющие пространственную определенность макроскопические образования, ибо обладают волновыми свойствами. В свете же охарактеризованных выше идеализаций, возникает возможность рассматривать наличие так называемых волновых свойств отдельного микрообъекта как выражение диалектики его противоречивого бытия, диалектики его существования и несуществования, которая скрывается под понятием нелокализуемости. Волновые свойства можно понимать как косвенное, опосредованное выражение специфических взаимодействий субмикромира, в ходе которых возникают первичные микрообъекты как формы квази-макроопределенности.
Наконец, последнее общее рассуждение. Теоретическое воспроизведение реальной конкретности физической формы движения как единства многообразного осуществляется способом восхождения от абстрактного к конкретному. Нам представляется возможным следующий аспект понимания этого восхождения. Единый объективный процесс восхождения от абстрактного к конкретному (в области физического познания) охватывает множество процессов, существенно отличных друг от друга как качественно, так и по количественным, пространственно-временным параметрам. Этот единый процесс содержит в себе следующие процессы. Во-первых, происходящие в вакууме процессы возникновения (в результате спонтанных нарушений симметрий различных форм вакуума) многообразных микрообъектов и их различных взаимодействий. Во-вторых, происходящие на «стыке» микромира и макромира, процессы возникновения формы (квази) макроконечности. И, в-третьих, процессы, происходящие с устойчивыми макроскопическими образованиями. Первые процессы изучаются с определенной степенью приближения теориями вакуума, квантовой ароматодинамикой, квантовой хромодинамикой и квантовой электродинамикой. Вторые есть предмет изучения квантовой механики. Третьи изучаются различными разделами макроскопической физики, а также химией, биологией, и синергетикой. Теоретические абстракции, вырабатываемые в перечисленных теориях в своем единстве должны быть выражены в форме восхождения от абстрактного к конкретному. Другими словами, восхождение от абстрактного к конкретному в сфере естественнонаучного познания должно быть реализовано через связь теорий как конкретного единства многообразного. Эта связь отражает исторически конкретную форму единого процесса саморазвития материи, движущейся к творению мыслящего Человека. Объективная относительность существования микрообъекта как локализованного конечного образования, формы (квази)макроконечности к определенному физическому процессу, взаимодействию есть существенная черта единой объективной физической реальности. Бесконечный процесс саморазвития материи приводит через становление формы макроконечности, макроскопической реальности к возникновению такого мира, в котором возникает Разумный Человек как высшая, потенциально бесконечная форма самой материи. Обретает более конкретный, как нам представляется, смысл мысль Э.В.Ильенкова о неизбежности принятия «нижнего предела» развития материи. Верхняя граница такого «нижнего предела» и фиксируется в идеализации относительности существования микрообъекта как формы (квази) макроконечности к определенному физическому процессу, взаимодействию.
Литература
Босенко В.А. Всеобщая теория развития.— К., 2001.— 468 с.
Гринштейн Дж., Зайонц А. Квантовый вызов. Современные исследования оснований квантовой механики.— Долгопрудный: Изд. дом «Интеллект», 2012.— 432 с.
Ильенков Э.В. Диалектика абстракного и конкретного в научно-теоретическом мышлении.— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997.— 464 с.
Науменко Л.К. Монизм как принцип диалектической логики.— Алма-Ата: Наука, 1968.— 328 с.
4.13. Морозов М. Ю. О значении диалектики в современном естествознании
Несмотря на многочисленные кризисы и споры внутри научных направлений [1, 2, 3], в современной естественнонаучной среде преобладает следующая точка зрения: диалектика не имеет практической пользы, её невозможно использовать как инструмент в научных исследованиях. Диалектический метод, следовательно, повсеместно объявляется устаревшим, ретроградным и попросту вредным. Соответствует ли такое убеждение действительности и в силу каких исторических причин оно могло сложиться, мы попытаемся разобрать в докладе.
Зачастую передовыми научными открытиями прикрывают свои самые дикие идеи отъявленные мракобесы [4, 5], последние достижения науки используются идеологами для продвижения наиболее реакционных теорий. Так называемый научный метод признается ими основным, как в теории познания, так и в описании окружающей нас реальности. Мышление человека сводится к той или иной абстрактной схеме, формализуется. Общие идеи такого подхода были объединены в философии определенным направлением, именуемым как позитивизм.
В 1840 году на пике популярности «Наука логики» Гегеля. Обратной стороной повышенного внимания к работе становится появление массового движения критиков таковой. Разбирая «Науку логики», эксперты делали это в рамках системы, построенной самим Гегелем. Другое дело — выйти за эти рамки, разобраться не только в отдельных идеях его философской системы, но и в способе их получения. Наиболее радикально к вопросу критики подошел Карл Маркс. В своих работах [6, 7] он показывает несостоятельность системы Гегеля с точки зрения материализма. Однако, несмотря на критику, направленную на идеалистическую сторону философии Гегеля, Маркс смог рассмотреть рациональное зерно в его диалектическом методе, сущности такового, тем самым положив начало его дальнейшей фундаментальной разработке.
Вторая половина XIX века. Во всем мире назревают революционные ситуации. Горнилом революционных течений становится вновь объединившаяся Германия, а ведущей идеей — социализм. На почве назревших в обществе противоречий, многие попытались разрешить таковые, предложив свой способ философского описания мира. Так появляется «Философия действительности» Евгения Дюринга. Говоря от лица современной науки, Дюринг низвергает авторитеты «устаревших» немецких философов, производя на свет собственные, передовые идеи «революции мышления». Несмотря на абсурдность мыслительных построений «революционера», лишь опошлившего и упростившего многие проницательные идеи классической немецкой философии, его идеи стали обретать популярность в среде пролетариев. Дать ответ «реформатору», навязывавшему реакционные теории рабочему классу, взялся Фридрих Энгельс. Не считая необходимым бороться с несуразной конструкцией Дюринга, Энгельс все же сумел рассмотреть большую угрозу, лежащую внутри неё. Результатом стала работа последнего «Анти-Дюринг», в которой автор последовательно проводит линию диалектического материализма, непосредственно опирающегося на диалектический метод. Энгельс демонстрирует нищету не только конкретной конструкции «революционного мышления» Дюринга, но и так называемого позитивистского подхода к мышлению в целом, его неспособность адекватно описывать происходящие в реальности процессы, не опускаясь до введения метафизической сущности (Бога).
Дальнейшее развитие противостояние получило в начале XX века в России, на исходе революции 1905–1907 годов. Разочарование от провала последней приводит её сторонников к отказу от диалектики — одной из главных, по их мнению, причин поражения. Необходимо было осмыслить произошедшее, разобрать основные внешние и внутренние процессы, приведшие к поражению и, в итоге, придти к правильным выводам — куда двигаться дальше. Часть видных деятелей революционного движения решила использовать для этой задачи передовые идеи современной философии — идеи Эрнста Маха и Рихарда Авенариуса [8]. Основным фундаментом новой философии вновь становится современная наука, передовые её достижения, низвергающие классический марксизм с его диалектическим методом в основании. Желая разрушить последний, махисты вызывают гнев тех, кто понимал его истинное значение. Таковым был Владимир Ильич Ленин. Подобно Энгельсу, он сумел рассмотреть нарастающую угрозу не в отдельно взятой конструкции махистов, а в их фундаментальном подходе к мышлению в целом. Ленин видел тупик, в который ведут философские инсинуации сторонников «нового метода мышления», и последовательно описал приводящие к этому причины в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм».
Более глубокое понимание заявленной выше работы Владимира Ильича, а также всего противостояния двух подходов к мышлению в целом приходит после прочтения работы Эвальда Васильевича Ильенкова «Ленинская диалектика и метафизика позитивизма». Последовательно излагая ленинское понимание диалектики, Ильенков развивает его и вступает в спор с современными сторонниками позитивизма, такими как Поппер, Витгенштейн, показывая несостоятельность их выводов об «устаревшем» методе марксизма. Переоценка значимости научных достижений для объяснения процессов, происходящих в развитии науки, и по сей день остается барьером для понимания истинной природы последней.
Во избежание дальнейшего непонимания, кратко обозначим, что мы имеем в виду, говоря «диалектический метод» или «диалектика». Диалектика есть логика научного мышления, природа мышления как такового [9]. Диалектический метод состоит в рассмотрении системы как живого, развивающегося организма, для исследования которого необходим объективный анализ всех его составляющих, а также исследование законов его развития и функционирования. Лишь многогранное исследование сущности самого предмета с его внутренними противоречиями может привести к истине, так жаждуемой учеными. И лишь человек, осознающий это, может прийти к пониманию сути диалектики. «Ибо единое есть то, что состоит из двух противоположностей, так что при разрезании пополам эти противоположности обнаруживаются» — мысль, сформулированная еще Гераклитом, и поныне наиболее точно описывает диалектическую логику мышления. Раздвоение единого и рассмотрение его противоречивых частей есть необходимое условие достижения сути предмета исследования. Здесь тождество противоположностей берется не как совокупность примеров, а как закон познания. Тождеством (единством) противоположностей является признание противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы. Познание человека не представляет собой прямой линии: это скорее кривая, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, спирали. И каждая её составляющая может внезапно превратиться в самостоятельную прямую, которая, без опоры на диалектику, ведет тогда к реакции, регрессу или топтанию на месте. Субъективизм и субъективная слепота — вот корни того, что мы критикуем [10].
Совершенно противоположное, деструктивное влияние на исследование мышления оказывает позитивизм, транслируемый из естественнонаучной среды в область философии. Несмотря на преобладание такового в общественном сознании наших дней, современные сторонники данного философского направления оказались в состоянии лишь повторять старые тезисы своих учителей, либо вводить «новые» — также сводимые к старым. Для последовательного проведения критики позитивизма, мы возьмем наиболее яркого представителя данного философского направления в лице Карла Поппера.
Очевидно, что для критики чего бы то ни было, необходимо для начала дать себе ответ, а действительно ли я правильно понял то, что собираюсь подвергнуть критике. В работе «Что такое диалектика» Поппер представляет миру своё понимание диалектики. Привыкший формализовать все в позитивистском ключе, он сводит диалектический метод к так называемой триаде: тезис-антитезис-синтез, производя осознанную подмену понятий (если, конечно, не позволить себе предположение, что «самый влиятельный философ XX века» [11] не смог понять суть диалектического метода). В дальнейшем, попытавшись обвинить сторонников диалектики в примирении с противоречиями (заместо борьбы с таковыми), автор окончательно дискредитирует свои познания в исследуемой области. Интересующемуся вопросом человеку становится очевидным, что диалектика ни в коем случае не приглашает ученого мириться с противоречиями, а, наоборот, вынуждает его разрешать, снимать таковые, получая в итоге решение более высокого порядка. Позитивистская же логика и теория познания подсказывают естествознанию лишь мнимые, чисто словесные способы разрешения противоречий, конфликтов, так как фактическое наличие противоречий позитивисты видят только в словесно-терминологическом оформлении знаний, а не в существе самого состава этих знаний. Без диалектики мы сможем рассматривать противоречия лишь поверхностные, игнорируя те, что находятся глубже в предмете — его сущности.
Так мы переходим ко второму пункту — игнорирование Поппером сущности предмета. Неспособность понимания столь важного свойства предмета приводит к весьма плачевным последствиям для науки в целом. Так, например, используя чисто наблюдательный характер исследования заводского рабочего как характерного представителя пролетариата, мы можем сказать, что его основными чертами являются: стандартная униформа, мозолистые руки, однотипный физический труд, потрепанный вид и.т.д. В противоположность ему берем рядового офисного рабочего, основными чертами описания которого являются: наличие костюма, свежий вид, многогранный интеллектуальный характер труда и.т.д. Будет ли последний в таком случае также явно принадлежать классу пролетариев, как и первый? Совершенно очевидно, что нет — ведь нет ни одного пересечения между описаниями данных групп людей. Ситуация кардинально меняется, если мы станем рассматривать сущность данных групп как предметов исследования. Мы увидим, что обе группы не имеют собственности на средства производства, находятся в подчиненном положении по отношению к капиталу, подвержены разделению труда и.т.д. Ошибка возникает вследствие невозможности применения отдельно взятого научного метода, верного для описания определенной области естествознания, как подхода к исследованию предметов действительности и исторических процессов в целом.
Анализ вышезаявленной проблемы приводит нас к следующему — коренному непониманию Поппером сути науки: ведь диалектику он рассматривает как вредный, носящий деструктивный характер инструмент, применяемый к науке. Наука по Попперу есть средство протоколирования фактов, на основе которых становится возможным дать верный прогноз, а научный метод есть единственно необходимый инструмент для получения результата. Начиная оперировать такими критериями, можно получить весьма абсурдные результаты. Например, по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга, люди прогнозировали бы будущие события. «Наука» эта называется астрология и, в определенном вероятностном пространстве, будет таковой без кавычек по определению Поппера. Так случается, когда с помощью научных методов строится абстрактная, чисто понятийная конструкция. Нельзя забывать, что наука есть поиск истины. Наука проникает в сущность явлений и учится управлять ими. Лишь в этом случае деятельность её становится конструктивной, прогрессивной. И лучшего, чем диалектика, союзника, в такой деятельности не существует.
Мы можем убедиться в этом на примерах из самой науки. Первой в истории научной работой с осознанным применением диалектического метода является «Капитал» Карла Маркса. Наиболее интересным примером использования диалектического метода в научном исследовании представляется «Теория функциональных систем» П.К. Анохина. В своей работе «Принципиальные вопросы общей теории систем» он, в том числе, исследует подходы к современному научному познанию. Анохин показывает вредное влияние распространения научных методов отдельных школ на плоскость познания в целом. Сама теория функциональных систем многократно пересекается с диалектическим методом в вопросах о месте результата в системе, степени его влияния на таковую. Исследования Л.С. Выготского о «высших психологических процессах», «Теорию планомерно-поэтапного формирования умственных действий» П.Я. Гальперина мы можем также занести в ряд примеров продуктивного сотрудничества науки и диалектики. Будучи различными по своим научным отраслям, эти примеры объединяет одно — сочетание диалектики в совокупности с научными методами, которое обусловило прогрессивный характер исследований, что в итоге привело к получению фундаментальных результатов.
Вернемся же к критике. Что может позитивизм предложить взамен устаревшего, лишенного практической пользы диалектического метода? Voi la, говорит Карл Поппер, и выводит на сцену метод проб и ошибок — основной, по его мнению, научный метод. С его помощью, говорит автор, мы можем не только создать истинную теорию познания, но и вывести закон всеобщего развития мира! Сложно спорить с таким заявлением, ведь метод проб и ошибок, все же, действительно уникален — он является врождённым эмпирическим инструментом познания каждого человека. И все же, перед тем как использовать этот волшебный инструмент в глобальных целях, попробуем протестировать его на животных. По Попперу, каждый член прайда, обитающего в пустынных саваннах Индии, при встрече с обрывом, должен бы был прыгнуть вниз и эмпирически узнать, какой результат его ждет. К несчастью для львов, автор лишил их такого инструмента познания, как расширение стимулирования. Грустный пример, не правда ли? Еще печальнее выводы из этого примера: позитивизм вновь демонстрирует свою неспособность верного описания даже простейших процессов, происходящих в реальности, при этом претендуя на статус природы мышления и логики науки в целом.
Не существует единого научного метода даже внутри отдельно взятой науки [1, 2, 3]. Примером этому может служить противостояние различных школ внутри отдельно взятой научной отрасли: спор между формалистами, конструктивистами и логицистами в математике; спор между номогенетиками, плюралистами и панадапционистами в биологии; в психологии — противостояние западных школ фрейдизма, бихевиоризма, гештальт-психологии и культурно-исторической школы Выготского, Леонтьева, Лурии (а впоследствии их учеников — Гальперина, Давыдова, Эльконина). Каждый научный метод имеет свои границы применимости, в рамках которых он может привести ученого к единственно верному результату — истине. Так, например, использование наблюдения в астрологии отнюдь не дает ей возможности получить сколь-нибудь значимые результаты. С другой стороны, лишь наблюдательное описание как научный метод, столь дискредитированный позитивистской школой, дает весомые научные результаты в исследовании шаровых молний [12].
Разобрав основные положения позитивистской школы, необходимо отметить общий для философии принцип партийности. Будучи беспрекословными профессионалами в области математики, физики, биологии и других естественнонаучных направлениях, те же самые профессора могут быть полными профанами в области философии, гносеологии. Хуже того, используя свои профессиональные знания, они могут намеренно исполнять роль приказчиков господствующего класса. Как распознать, сознательно или бессознательно вносит деструктивный характер в науку тот или иной её деятель? Здесь снова и снова на защиту нашего сознания встает диалектика. Рассматривая исторические процессы, с её помощью мы можем выявить классовые причины, стоящие за теми или иными действиями научных школ и их представителей. Оценивая объективность критики диалектики Поппером, примем во внимание тот факт, что популярность его идеи получили во время Холодной войны. Помимо этого, сам Поппер принадлежал к классу капиталистов, явно не имеющих интереса в упрочнении классового сознания в рядах угнетаемого класса пролетариев. Экономические и классовые причины налицо.
Изучая поставленный вопрос и проследив эволюцию проблемы, нами был пройден длинный путь сквозь историю к нашему времени. Последовательно рассмотрев противоречия противоборствующих сторон, мы показали, что диалектика и по сей день остается актуальной, а диалектический метод отнюдь не является той туманной игрой слов, каковой её пытаются представить. Диалектический метод будет принят, и, что важнее, востребован наукой лишь после отождествления его с принципом, природой мышления как таковым. Диалектика должна стать равноправным партнером науки, естествознания. Лишь при таком тесном сотрудничестве могут быть достигнуты небывалые прежде высоты развития научной мысли и раздвинуты горизонты возможного.
Литература
Пазухи свода собор святого Марка и парадигма Панглосса: критика адаптаци- онистской программы. Электронный ресурс http://www.socialcompas.com
Формализм и теоретико-множественные основания математики. Электронный ресурс http://www.telenir.net
Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса.— Эксмо, 2005. 90 с.
Кремо М., Томпсон Р. Запрещенная археология // Бхативеданта, 1996. 914 с.
Зеланд В. Трансерфинг реальности. Ступень 1–5. Отдельное издание, 2012. 1166 с.
Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство. Политиздат, 1955. 879 с.
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Политиздат, 1955. 689 с.
Очерки по философии марксизма. М.: Звено, 1910.— 329 с.
Ленин В.И. О значении воинствующего материализма // «Под Знаменем Марксизма» № 3, 1922. с. 5–12.
Ленин В.И. К вопросу о диалектике // «Большевик» №5–6, 1925.
Поппер, Карл.— https://ru.wikipedia.org.
Что мы знаем о шаровой молнии.— https://mipt.ru
4.14. Новикова Е. Л., Иванова Т. Д. Человек мыслящий как часть космоса
Космизм — специфическое мировосприятие космоцентрической ориентации, течение в философской и естественно-научной мысли. В России уже с середины XIX столетия вызревает уникальное космическое направление научной мировоззренческой мысли. В его ряду стоят такие философы и ученые, как Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский и многие другие. Среди русских религиозных философов космическое направление представлено в наследии В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, ПА Флоренского, Н.А. Бердяева. Именно в космизме ставятся проблемы о космосе и человеке, выдвигается положение о том, что конец этого мира, конец истории зависит и от творческого акта человека. В космизме проявляется принципиально новое качество мироотношения, которое является определяющей чертой российской мысли. Это идея активной эволюции, т. е. необходимости нового сознательного развития мира, когда человечество направляет его в ту сторону, в какую диктует ему разум и нравственное чувство. Речь идет о расширении прав сознательно-духовных сил, об управлении духом материи, об одухотворении мира и человека. Космисты сумели соединить заботу о большом целом — Земле, биосреде, космосе — с глубочайшими запросами высшей ценности — конкретного человека [2].
Одним из наиболее ярких мировоззрений является русский космизм. В нем отлично виден базисный принцип теологии: есть некий божественный абсолют, который существует вне природы и в определенный период ее развития соединяется с «мировой душой» — человеком. Но вся природа при этом стремится к соединению с Богом и посредником в этом стремлении, своеобразным проводником является человек.
Человек, по словам одного из главных идеологов космизма Н.Ф.Федорова, «вносит в природу волю и разум, порядок в беспорядок, гармонию в слепой хаос». Наука и философия, которые якобы всегда шли преимущественно путём разделения, расчленения, анализа, должны стать на путь собирания, сложения, синтеза всего разъединённого и разложенного. Такой подход уже предусматривает мир в таком «разложенном» состоянии, как совокупность некоего множества объектов.
Таким образом, осваивая космос, человек обретает какой-то новый, бессмертный, космический статус бытия: появляется «родственное сознание», преодолевается смерть, все земляне расселяются в космическом пространстве. В итоге человек, по Федорову, «сбрасывает свою нынешнюю тяжелую телесную оболочку и превращается в бессмертное духовное существо».
Итак, человечество развивалось, открывало все новые и новые законы, доказывало, что человек способен на большее, нежели быть «рабом Божьим», и вдруг, когда уже давно существует возможность освоения космоса и налицо все доказательства непростой и значительной роли человека в природном взаимодействии, философия как выражение передовых мыслей человечества, возвращается к религиозным формам.
Каким образом связаны человек и космос? Научное решение этого вопроса мы находим в работе Э.В. Ильенкова «Космология духа». Э.В. Ильенков в своей «философско-поэтической фантасмагории» без малейшего намека на мистику разворачивает грандиозную, и в то же время строго научную картину действительной связи между человеком и космосом. Человек, неразрывно связанный с обществом,— мыслящая материя — в системе мирового взаимодействия играет особую роль. Материя как субстанция, имея своим атрибутом мышление, не утрачивает его и не избавляется от него ни в какой из временных периодов, ни при каких обстоятельствах. Конечно, по отношению к каждой конечной форме существования материи, мышление существует не всегда. «Но по отношению к материи в целом, понимаемой как всеобщая субстанция...,— говорит Э.В. Ильенков в своей «Космологии духа»,— будет верным другое положение: не только мышление не может существовать без материи... но и материя не может существовать без мышления» [1].
Общественная форма движения материи — это высшая форма ее движения. Из этого следует, что дальше развиваться «вперед и вверх» невозможно. Но всеобщее развитие — это не только прогресс и движение вперед. Мировое движение происходит по спирали. И именно в отношении «возвращения» к более простым формам движения высшая форма играет роль «движущей»: «Высший продукт развития возвращается путем разложения в свои низшие формы, опять включаясь таким путем в вечный круговорот мировой материи. И этот грандиозный круговорот, не имеющий ни начала, ни конца, круговорот, в котором мировая материя не утрачивает ни одного из имеющихся атрибутов, не приобретает ни одного нового, заключает в себя, как кольцо, все возможные «конечные» циклы развития» [1]. И в таких «конечных» циклах именно человечество как мыслящая материя — это та форма, которая, уничтожая себя как такую форму, возродит новый круг жизни, в котором другие формы начнут свое развитие: «Конец мыслящей материи совпадает по времени и по обстоятельствам с началом нового цикла развития материи космических просторов — с пунктом, в котором происходит огненное возрождение умирающих миров» [1].
Таким образом, на обществе, как на высшей форме движения в нашей космической системе, лежит миссия рождения нового круга вечного круговорота. Именно так объясняя мир и его закономерности, мы объясняем его не только через конечные формы, пытаясь в них отыскать истину и нечто вечное, а также имеем дело не с дурной бесконечностью (как только при поступательном движении). Мир в виде вечного круговорота, который существует благодаря всеобщему взаимодействию,— показывает объективную роль мыслящей материи в системе этого взаимодействия: «История человечества предстала теперь как необходимый процесс саморазвития, движущие пружины которого находятся в ней самой, во внутренних противоречиях его развития, и которое не нуждается ни в каких трансцендентных или трансцендентальных целях для своего объяснения» [1].
Литературы
Ильенков Э.В. Философия и культура: сборник. М.: Политиздат, 1991. 462 с.
Русское Космическое Общество: официальный сайт. [Электронный ресурс].— Режим доступа: https://cosmatica.org/ Дата обращения: 10.04.2016.
4.15. Хидиятов Н. Б. К вопросу о подлинном теоретическом мышлении в свете научно-философского творчества Э. В. Ильенкова
Современной философской мысли явно не хватает методологически последовательной и выверенной реализации диалектико-материалистического подхода к исследованию узловых проблем современности. То, что блестяще исполнено Э.В. Ильенковым в его «Диалектике абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении», должно и далее практически, в качестве методологического и мировоззренческого инструментария, осуществлять себя в научном исследовании современной социальной и природной действительности и получать новое наполнение и развитие.
Философско-методологическое наследие Ильенкова как руководство к действию в теоретическом осмыслении действительности во всей своей глубине, значимости и методологической мощи еще не освоено, не воспринято научным мышлением. Научное мышление, по Ильенкову, отражает и теоретически воссоздает объективную конкретную всеобщность действительности. Э.В. Ильенков впервые системно и последовательно на методологически-содержательном уровне раскрыл существо теоретического, понятийного уровня диалектико-материалистического освоения действительности, логически и категориально развертываемого и единственного в своем роде. Всякое иное философское исследование, всерьез претендующее на теоретическое выражение действительности, неизбежно обречено на эклектическое смешение теоретических и эмпирических абстракций. При всей теоретической честности и прозорливости мыслителей иных направлений сам методологический и мировоззренческий подход к исследованию отношения мышления и бытия во всем объеме этого отношения приводит и будет с неизбежностью приводить к принципиальным заблуждениям в самом ходе и в конечных выводах данных исследований.
Характеризуя работу, проделанную Марксом в «Капитале», Ильенков подчеркивает важность в теоретическом плане того, что Маркс анализировал один, самый развитый случай капиталистической экономики — английскую экономическую модель, одновременно осуществляя этот анализ через критику классической политической экономии. Одно обязательно предполагало другое. «Столбовой дорогой его исследования все время оставалось исследование английской экономической действительности и конструктивная критика английской политической экономии»,— отмечает он, подчеркивая далее мысль о том, что «конструктивная критика предшествующих теорий для Маркса была вовсе не второстепенным, не побочным занятием, а формой разработки самой теории… Развитие теории всегда и везде совершается не путем непосредственного «обобщения» эмпирических фактов, а путем критического преодоления имеющихся теоретических представлений на основе новых эмпирически данных фактов, в свете этих фактов» [1, с. 241–242].
Соответственно современная социальная действительность получит полноценное теоретическое осмысление там и тогда, когда и здесь осуществится исследование «эмпирических фактов» в единстве и через критику той теоретической мысли, которая претендует на звание современной философской мысли. При этом, вслед за Ильенковым, нелишне напомнить: «Чем революционнее теория — тем в большей мере она является наследницей всего предшествующего теоретического развития» [1, с. 220].
Теоретическое раскрытие конкретной объективной всеобщности, представляющей относительно самостоятельную область объективной реальности, субстанциально единой и реализующей себя во внутренне необходимых связях, отношениях и взаимодействиях, происходит за счет того, что каждая абстракция занимает строго свое, логически и содержательно обоснованное место, обеспечивая восхождение мысли от абстрактного к конкретному. То, что реализовано в «Капитале» Маркса, до сих пор является в этом отношении образцом практического воплощения научно-теоретического мышления. Потому «именно «Капитал» представляет собой до сих пор непревзойденный образец сознательного применения диалектического метода, диалектической Логики во всем объеме ее содержания. Как таковой он показывает многим наукам их завтрашний день, показывает в классически четкой форме все те стороны метода, которые в других науках развиты пока лишь в виде намеков и не до конца выявившихся тенденций» [1, 241].
Ключевые логико-методологические положения в философии Ильенкова относительно теоретического мышления схематично состоят в следующем:
• восхождение от абстрактного к конкретному как всеобщий метод теоретического воссоздания объективной реальности;
• объективно-простейший всеобщий элемент как «клеточка» понимания исследуемой действительности как объективной конкретности;
• полнота и содержательность теоретической абстракции, обеспечиваемая ее строго определенным местом в теоретическом раскрытии исследуемой реальности как единства многообразного;
• логическое противоречие как всеобщая форма реализации теоретического мышления;
• единство исторического и логического методов исследования, когда исследование социальной реальности осуществляет себя через критику основных теоретических обобщений этой реальности в иных философских системах.
Обязательным принципом выступает совпадение диалектики, логики и теории познания.
Всякая вещь, явление не могут браться в своей изолированности как нечто отдельное и самодостаточное. Они должны быть поняты в своих непосредственных свойствах как проявление конкретно всеобщей системы отношений, внутри и посредством которой они возникли и осуществляют себя. Потому метод восхождения от абстрактного к конкретному есть единственно научный метод полноценного объективного теоретического исследования объективной реальности. «Любой другой способ не соответствует объективной природе предмета, который с его помощью духовно воспроизводится» [1, с. 235].
Литература
- Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении.— М.: РОССПЭН, 1997.— 464 с.
Раздел V. Ильенков и социально-политическая действительность
5.1. Бауринг, Уиллиам Скайлер (Билл). Ильенков и британский троцкизм
Bowring, William (Bill) Schuyler. Ilyenkov and british trotskyism.
The far (revolutionary) left in Britain has been dominated by three main Trotskyist groups, and, of course, that being the way of Trotskyists, many break-away groupings. My Birkbeck colleague Professor John Kelly has recently published a thoroughly researched scholarly work «Contemporary Trotskyism: Parties, Sects and Social Movements in Britain» (Routledge 2018), covering the period from 1950 to 1917. He explores how each of the three groups was led for most of this period by a revolutionary from Britain’s colonial periphery: Gerry Healy, born in Galway, Ireland in 1913 and died in London in 1989, aged 74; Tony Cliff, born in Palestine in 1917 to a Jewish family, as Yigael Gluckstein, moved to Britain in 1947, died in London in 2000, aged 83; and Ted Grant, born in 1913 in South Africa — his father had fled Tsarist Russia — moved to London in 1934, and died in London in 2006, aged 93. The Trotskyist parties founded by each of them continue in existence: the Workers Revolutionary Party (WRP, which expelled Healy in 1985), the Socialist Workers Party (SWP), and the Socialist Party.
I am sure Ilyenkov would not have approved, but in Britain it is the case that it has been Trotskyists who have paid the most attention to Evald Ilyenkov. Notably, Healy, and one of the current leaders of the SWP, Alex Callinicos, born in 1950 in what is now Zimbabwe — his mother was an English aristocrat, and his Greek father was active in the anti-Nazi resistance in Greece in WWII.
So far as I know, Evald Ilyenkov’s work first appeared in English in 1967, in a paper «From a Marxist-Leninist Point of View», which he was invited to present at an international symposium held at the University of Notre Dame in April 1966. The publication appeared in 1967. [1] Andrei Maidansky in his 2013 chapter «The Dialectical Logic of Evald llyenkov and Western European Marxism» [2] tells us (p.545) that «The Soviet officials did not let him go to the USA, but his (truncated, as usual) text was, nonetheless, sent and printed in the collection of the symposium papers.» In his original text Ilyenkov had insisted that alienation exists under socialism and Maidansky continues. «… such passages had no chance of passing censorship, so they were deleted from Ilyenkov's American paper. The organisers of symposium were informed that the author could not arrive because of his ‘hospitalisation.’”
This publication seems not to have reached the attention of Trotskyists in Britain. Their interest began with the publication in 1977 of the English translation of Ilyenkov’s 1974 Dialectical Logic: Essays on Its History and Theory. I had graduated in 1970 from the University of Kent with a bachelor’s degree in Philosophy, mostly British empiricists, Wittgenstein and Kant, and Ilyenkov’s book was a revelation for me, and the beginning of my interest in and love for Spinoza.
Gerry Healy must have read Ilyenkov’s book by October 1982, when he published his «Studies in Dialectical Materialism» in the News Line, the daily newspaper of the WRP. [3,] Neither Ilyenkov or Spinoza are mentioned in these Studies. However, in his polemic the following month against Healy, «A Contribution to a Critique of G. Healy's «Studies in Dialectical Materialism» [4], the American Trotskyist David North pointed to Healy’s statement that: «Substance as a dialectical category has proved to be a necessary condition, without assuming which it was impossible in principle to understand, the mode of the interaction between the thinking body and the world within which it operated as a thinking body.»
North wrote: «What is the source of this «innovation": the «thinking body"? The inspiration is to be found on page 60 of E.V. Ilyenkov's Dialectical Logic. There we find: «Substance thus proved to be an absolutely necessary condition, without assuming which it was impossible in principle to understand the mode of interaction between the thinking body and the world within which it operated as a thinking body.» This passage appears in Ilyenkov as part of a discussion about Spinoza. In Healy, the passage is just dropped in out of the blue, without bothering to mention Spinoza at all.”
North thus accused Healy of plagiarising Ilyenkov. He must have been reading Ilyenkov closely to find the unacknowledged quotation in Healy’s Studies.
In October 1981 Healy published in News Line «The Ass’s Ears of Soviet Philosophy A review of Fundamentals of Dialectics, by Yu. A. Kharin» [5], and cited Ilyenkov’s Introduction to Dialectical Logic, where Ilyenkov, referring to Hegel, wrote: «When dialectics is converted into a simple tool for proving a previously accepted (or given) thesis, it becomes a sophistry only outwardly resembling dialectics but empty of content.”
In 1982 the English translation of Ilyenkov’s 1960 The Dialectics of the Abstract and the Concrete in Marx’s Capital was published by Progress Publishers in Moscow. In 1986 Gerry Healy published three more articles in News Line, «Contradiction, reflection and cognition». In the third article, «Cognition of objective laws» [6], Healy cited Ilyenkov’s 1960 book (p.98): «Each separate element of any dialectically divided whole, expresses one-sidedly, the universal nature of this whole precisely through its difference with other elements rather than abstract affinity to them.» Such was the interest in Ilyenkov in the WRP that in 1982 by agreement with the Soviets the WRP’s New Park Publications published an English translation of Ilyenkov’s Leninist Dialectics and the Metaphysics of Positivism: Reflections on V.I. Lenin's Book, Materialism and Empirio-Criticism. [7]
Alex Callinicos of the SWP was certainly aware of Ilyenkov’s 1960 work by 2005 when he published «Against the New Dialectic» [8], referring to it on p.42.
In 2014 Callinicos, now also a professor at King’s College London, published a serious work of scholarship Deciphering Capital: Marx’s Capital and its Destiny. [9] This contains no less than 7 references to Ilyenkov, all to the 1960 book, in particular (pages 101–105) Ilyenkov’s suggestion [in Chapter 3] «that the differences between Marx and Ricardo are best understood in the light of Hegel’s critique of Spinoza.”
There is no similar interest in Ilyenkov among professional philosophers in Britain; but for serious scholars of Marx Evald Ilyenkov is ranked with Roman Rosdolsky and Isaak Rubin as authors of the outstanding commentaries on Capital.
Literature
In Marx and the Western World, edited by Nicholas Lobkowicz (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1967), pp. 391–407.
In Russian Thought in Europe: Reception, Polemics, Development, edited by Teresa Obolevich, Tomasz Нота, and Jözef Bremer (Badania, Krakow)
https://www.marxists.org/history/etol/writers/healy/1982/xx/studies.html
The ICFI Defends Trotskyism, 1982–1986. Documents of the Struggle against the WRP Renegades, at https://www.wsws.org/en/IML/fi_vol13_no2/fi_vol13_no2_full.html
http://www.gerryhealy.net/page91.html
https://www.marxists.org/history/etol/writers/healy/1986/07/3-cognition.html
https://www.marxists.org/archive/ilyenkov/works/positive/index.htm
Historical Materialism, volume 13:2 (41–59)
London, Bookmarks Publications, 2014
5.2. Ермолович Д. В. Об опыте разработки курса по философии для студентов с особенностями развития (глухота)
В 2018/19 учебном году набор семи студентов со знанием жестового языка глухих, фактически ставший первым в Республике Беларусь экспериментальным набором лиц с нарушением слуха на театральный факультет Белорусской государственной академии искусств, предполагает обучение и получение высшего образования с соблюдением текущего стандарта высшей школы по направлению специальности 1–17 01 01 01 «Актёрское искусство (драматический театр и кино)».
Однако общая образовательная характеристика принятых абитуриентов, обучавшихся по программе спецшколы, не предполагает достижение даже стандарта общего среднего образования, поэтому фактически полученное ими образование имеет множество пробелов.
С другой стороны, хотя высшие психические функции и не узколокализованы в головном мозге, и образуют комплекс функциональных зон мозга, обеспечивающих полноценную психическую деятельность [1, с. 110–166], но поражение или даже низкая активность слуховых центров мозга может привести к ригидности эмоционального поведения, рассеянности внимания, значительным трудностям с работой вестибулярного аппарата и памяти, распознаванием и пониманием речи и языка и др. Значительная часть этого списка возможных ограничений напрямую связана с профессиональными качествами избранной вузовской подготовки по специальности «Актёр тетра и кино»…
Если искать поддержку в разрешении подобных трудностей в авторитетном мнении Э.В. Ильенкова (одного из участников и разработчиков Загорского «эксперимента» — социальное и интеллектуальное развитие слепоглухих детей), который размышляет о тайне таланта и его потенциальной доступности для каждого, рассматривает обучение как процесс удовлетворения собственной потребности в знании, а диалектическое мышление как действительную логику специфически человеческого мышления [2], то обращение к опыту Ильенкова по развитию мышления и эффективной профессионализации в нашем случае имеет высокую ценность, станет подсказкой по многим вопросам применения развивающих методик …
Исходя из этих обстоятельств потребуется ввести в преподаваемый в осеннем семестре 2019/20 учебного года для 6-ти студентов, успешно выполнивших задачи первого года обучения, курс «Философия» (имеющаяся рабочая учебная программа дополнительно к типовым требованиям по содержанию курса включает раздел «Философия культуры») расширенный вводный блок по проблематике тождества бытия (бытие природы, бытие социума, бытие человека, бытие сознания / духа) и мышления, этики бытия и этики быта с целью определения единства оснований в понимании содержания курса, выделить главные темы (в соответствии с типовой программой), соблюдать целостность и общую логику изложения, а также применить набор сквозных (на протяжении всего периода обучения в вузе) методических приемов:
• визуализация ключевых моментов содержания курса, их образность (можно обратиться к педагогическому опыту Г. Гегеля: триада, спираль, логические линии, категориальная сетка…);
• мнемосхематика: ментальные карты (от категориальных сеток Аристотеля, Канта, Гегеля, Менделеева), опорные сигналы (В.Ф. Шаталов) и т.п.;
• этимологический (онтолого-лингвистический — М. Хайдеггер) анализ действительности, герменевтический опыт (Г.-Х. Гадамер);
• пошаговая структура разворачивания содержания по примеру математики с фиксацией основных моментов (Б. Спиноза: «теоремы», «доказательства» и т.п.; Л. Витгенштейн);
• обилие примеров, исходя из предпочтений житейской и формальной логики (древние греки: доведение до абсурда, парадоксальность; обращение к опыту сократической беседы, построенной на иронии).
Конечная цель курса — подвести к формированию навыка анализа, интерпретации и, наконец, понимания философских текстов, философской полемики, философского диалога (различение диалога и коммуникации, философской беседы и нефилософской)…
Основным средством достижения конечной цели курса «Философия» выступит методическая организация процесса преподавания, где деятельность (и студента, и преподавателя) будет восприниматься как настоящая (не виртуальная, ни дополненная) реальность, не взирая на абстрактный, во многом, характер содержания философской дисциплины.
Можно рассматривать следующий материал как пример применения одного из методических приёмов…
Проблемы, перед которыми сегодня стоит человек, диктуют новые требования ко всем формам его образования: практичность, надёжность, конкретность, непрерывность, комплексность. Особенностью современного образования становится ярко выраженная его гуманитарная направленность. Поэтому к специфическим чертам новых образовательных программ и технологий можно отнести: авторизованность и инновационность; вариативность; интегративность; открытая и расширяющаяся традиционность; конкретная, активная и результативная направленность образования; диалогическая, индивидуальная и мировоззренческая ориентированность отношений субъектов интерактивной коммуникации.
Для разрешения названных проблем или хотя бы для должного их понимания потребуется выявить некоторые культурологические основания, в свое время Аристотель устанавливает фазы (причины) процесса становления или изменения чего бы то ни было:
formal cause — формальная («установочная»);
material cause — материальная (инструментальная);
efficient cause — действующая («технологическая»);
final cause — конечная (целевая).
У Р. Декарта в процессе рационализации познания, а другого пути для разрешения психофизического дуализма Декарт не видит, образовываются четыре наиболее общих метода (требования): надежное основание, анализ, синтез, полнота. Причём если надёжное основание — условие начала рациональной практики познания, то анализ требует уже достаточной содержательной сложности изучаемого явления (у простых объектов, собственно нечего анализировать), синтез превращается в сознательную инициативу (у Ф. Бекона: знание — сила, у Б. Спинозы: знание — свобода), а полнота — та цель (требование, критерий, мера), которую устанавливает себе человек (по Декарту — «мыслящее существо»).
В завершении культурологического обоснования права человека на «мыслящее существование» И. Кант ставит четыре вопроса и определяет четыре группы категорий в своей философской системе:
Что я могу знать? (Количество).
Что я должен делать? (Качество).
На что я могу надеяться? (Отношение).
Что есть человек? (Модальность).
Поэтому рассматривая процесс образования как одну из сфер (или просто сторон) человеческой деятельности можно выделить несколько этапов последней [3, с. 34–35] (до завершения конструирования образовательной стратегии, предложенный конструкт остается идеальным):
- Информационный:
• содержание этапа: формирование устойчивого перцептивного (чувственного) образа;
• выполняемые действия: обнаружение, различение, опознание;
• влияющие факторы: сложность воспринимаемой информации, организация информационного поля, информационные характеристики.
- Оценочный:
• содержание этапа: формирование, посредством переработки имеющейся информации, оперативного (содержательного) образа;
• выполняемые действия: сопоставление заданных, текущих и имеющихся информационных параметров и характеристик системы субъект-объектных отношений; анализ и обобщение текущей информации;
• влияющие факторы: способы представления и динамичность информации, степень сложности информационных моделей.
- Целеобразующий:
• содержание этапа: принятие решения о содержании целесообразных действий на основе преобразования исходной информации;
• выполняемые действия: поиск, выделение, классификация и обобщение проблемной информации; построение концептуальных моделей; коррекция моделей; выбор или построение эталонной гипотезы; принятие принципа и программы действий; формирование профессиональных технологий; прогнозирование;
• влияющие факторы: класс решаемых задач, многовариантность решений, неформализуемость логических условий.
- Производительный:
• содержание этапа: реализация принятого решения, использование профессиональных возможностей для этого;
• выполняемые действия: преобразование принятого решения в систему последовательных целесообразных действий; организация управления процессом решения, посредством формирования необходимого числа обратных связей; профессиональная реализация плана действий;
• влияющие факторы: условия (социально-культурные, материально-технические, экономические, эргономические и др.) организации рабочего места, вертикальные и горизонтальные связи и отношения, совместимость индивидуальных и социальных ориентиров профессиональной реализации и др.
Таким образом, в соответствии с аристотелевской фазовой проекцией целеполагания и кантовской конструкцией категориальной системы антропологической ответственности (см. Таблицу) необходимо установить образовательную стратегию и из неё вытекающую методическую составляющую образовательного процесса, как в подготовке соответствующих специалистов, так и в понимании учебного предмета «Философия», т.е. ещё до создания контекста курса должна быть решена задача о месте / своей роли выпускников в процессе общественного производства-потребления, а потому сам контекст и будет определять позицию / стратегию деятеля (преподавателя, студента, заинтересованных лиц).
Таблица. «Дорожная карта» образовательного процесса
| Аристотелевские принципы | Формально-логическое соответствие | Кантовские группы категорий | Кантовские вопросы |
|---|---|---|---|
| Форма | Обратно пропорциональная связь | Количество | Что я могу знать? |
| Материал | Структура: объём — содержание | Качество | Что я должен делать? |
| Действие | Переход к предикату | Отношение | На что я могу надеяться? |
| Цель | Причина причины — первопричина | Модальность | Что есть человек? |
Методически система образовательного воздействия могла бы базироваться на толковании аристотелевских фаз процесса становления следующим образом:
Фаза первая (formal cause), знакомство (свыкание и привыкание) с формой: моноформа — Мир, Бытие, Дао, Человек как «мера всех вещей»…; бинарная форма — Инь/Ян, добро / зло, истина / ложь, он / она, парные категории…; триадическая форма — Троица, гегелевская триада, гоминидная триада...; квадрическая форма — четыре времени года, четыре аристотелевских принципа, четыре гиппократовских темперамента…; пентатрическая форма — пять элементов, пять органов чувств, пятикнижие…; другие, более сложные формы — шестое чувство, семь цветов радуги, восьмеричный путь спасения, девять жизней, десятеричная система исчисления, двенадцать апостолов…
Фаза вторая (material cause), знакомство со своими возможностями (психологическое и интеллектуальное тестирование), определение ресурсов развитости и развития мыследеятельности: от исходного уровня мыследеятельности — репродуктивность, реактивность, процессуальность до действующего (результативного, реализующего) уровня — продуктивность, активность, содержательность.
Фаза третья (efficient cause), действие как «превращённая форма» желаемого и возможного — направленная, но всё ещё не управляемая (т.е. ещё только рамочная) акция.
Фаза четвертая (final cause), единство целеполагания и спонтанности действий (собственно деятельность) — путь к профессиональной и личностной свободе.
Предложенные рекомендации позволяют предпринять их расширение на всё поле современной образовательной деятельности, ибо поколение обучающихся (преимущественно поколение-Z) накопив ряд амбивалентных социально-психологических качеств, не только отрицательных: наглость, нарциссизм и эгоцентризм, отрицание иерархии, падение концентрации внимания, ослабление долговременной памяти, снижение аналитических способностей; нейтральных: сетевая и «экранозависимость», фильтрация информации, следование за кураторами, конформизм, прагматичность и практичность; но и положительных: например, созидательное удовольствие, индивидуальное предпринимательство, социально-ролевое разнообразие, взаимоотношения, строящиеся на личных чувствах,— стоит у истоков беспрецедентной трансформации педагогических технологий. Именно обучающийся («и дети станут нашими учителями») подведёт к необходимости конструирования «поля» взаимодействия, создания среды «диалога» — изменение мер ответственности для реализации «свобод» обеими сторонами образовательного процесса, соблюдения закона «ближайшего развития» (Л.С.Выготский) — субъект может эффективно взаимодействовать с объектом не превышающем его по сложности, мотивационного самоопределения и самоактуализации.
Однако вклинивающиеся в решение образовательных задач на современном этапе межпоколенческие отношения, определенно потребуют установления приоритетности в исполнении своей «исторической» роли. Но, например, лидерство (от непосильного уже «титанизма») уходит в разного рода презентативность, представленность и даже присутственность (необязательно свидетельствование: «Кто свидетель? — Я, а что случилось?»). В свою очередь исполнительская культура потребительского толка: потребляй! — потребляю (нет ни социального, ни психологического конфликта) приводит к установлению бесконфликтного первенства (не лидерства) как в Средневековье — по «праву рождения» (сейчас это в основном та или иная форма номенклатурной элитарности). Таким образом, отсутствие конфликта поколений — это либо субъекты отношений находятся в разных плоскостях (измерениях: реальность — виртуальность) действительности, либо ими преследуются разные цели (интересно какие), либо имеются разные средства и отсутствует возможность обмена опытом пользования этими средствами. В результате потребительская культура лишает новое поколение (поколение-Z) объективной возможности роста, ведет к пользовательскому самоотчуждению, т.е. предполагается удовлетворённость имеющимся (всегда избыток средств, всегда отсутствие целей), искажение (виртуализация) реальности (что вижу, то и реальность).
Возникает не только движение от доктринальности классической науки к плюрализму неклассической (плюрализм гипотез, но не истин), вместо философии культивируется филодоксия (любовь к мнению), но и вопрос о необходимости сохранения классических форм усвоения информации при обучении в современном вузе, оправдания гуманитарной составляющей, как формы классического образования: герменевтика, смысловой и аксиологический поиск, формализация, не сводимая к алгоритму, формализация как символизация, образность, та или иная степень абстрактности и обобщения, синтез — не только анализ и программирование…
Литература
Лурия, А.Р. Этапы пройденного пути: Научная автобиография / А.Р. Лурия.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.— 184 с.
Ильенков, Э.В. Учитесь мыслить смолоду / Э. В. Ильенков.— М.: Знание, 1977.— 64 с.
Ермолович, Д.В. Связь гуманитарности и образования / Д. В. Ермолович // Адукацыя і выхаванне.— 2001.— № 1.— С. 31–36.
5.3. Ерошенко Т. И. Идеология и социальные науки
Любая социальная теория заряжена стремлением включиться в программирование действительности, осуществляя социальное проектирование. Идеологические конструкты, созданные социальными науками представляют собой целую подсистему общества, так или иначе выстраивающихся конфигураций ценностей, а также соподчинение нормативных образований. Смена политических и экономических ориентиров с неизбежностью дезорганизует систему ценностей, порождает различное восприятие происходящих изменений. Причем этот процесс не ослабевает, а напротив, усиливает темп, проявляется в самых различных формах, чаще всего в форме «ложного сознания», когда объективные картины мира отражаются искаженно, предвзято и тенденциозно. Например, синдром искажения как исторических так и современных событий, который ярко проявляется в ряде стран на постсоветском пространстве и находит отражение в героизации пособников фашизма, в принижении роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии.
Социальные науки вносят громадную лепту в программирование поведения масс людей посредством идеологии. Поэтому история социального познания есть и история создания идеологий всех направлений на основе предельно общих платформ, черпающих свои доводы из науки, прежде всего социальной. Они (идеологии) превращают социальную методологию в орудие социального проектирования, через апелляцию к объективным законам, создают модель человека и общества. Если в до-научные времена проекторы человеческих обществ обращались к мифологии, религии и философии, то в настоящее время к научным исследованиям. Согласно П. Бергеру и Т. Лукману влиянию идеологического контекста подвержено все человеческое мышление, за исключением математики и некоторых областей естествознания [См.: 1, с. 22].
Идеология, с нашей точки зрения, выступает в виде системы воззрений на мир, общество и человека, системы, определяющей ту или иную ценностную ориентацию и линию поведения. Ее отсутствие ведет к утрате координат, позволяющих человеку ориентироваться в обществе, и, как следствие, социальная реальность может оказаться лишенной смысла, а будущее выглядеть неопределенно. Ф. Энгельс в письме к Ф. Мерингу пишет: «Идеология — это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие силы, которые побуждают его к деятельности, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом» [3, с. 83]. Таким образом, речь идет о специфической функции идеологии воспроизводить социальной группой иллюзии о самой себе, дающие ей определенные ценностные ориентации, образы мыслей и мировоззрение. Именно социальные науки, снабжают идеологию обширной информацией о разных сторонах общественной жизни, принципах ее функционирования и путях ее познания. Без учета этих знаний никакая идеология длительное время не может существовать и оказывать реальное влияние на происходящие в общественной жизни события.
Социальное познание нами рассматривается под углом зрения различных способов получения знаний об обществе, описания и объяснения жизни человека и общества, причем оппозиция между научным дискурсом и повседневным мышлением утрачивает абсолютный характер. Например, в современной социальной феноменологии хорошо показано, что регуляция поведения осуществляется с помощью «повседневных теорий», которые концептуализируют ценности и интересы. Поэтому возможна «идеология повседневности» наряду со «специализированными идеологиями», придающая нормативно-ценностный характер институциональному порядку [См.: 2]. Следует отличать идеологию как духовное бытие вообще, от политической в частности. Тем более от содержательных интерпретаций её идеологем или связей. Под идеологией или «метаидеологий» мы будем понимать не столько четкие политические программы, сколько мироощущения, мировоззрения, смысловые ориентации более общего характера, в ко торых на первый план выходят наиболее общие идеалы и культур ные принципы. Эти основные ценности обусловили коренное измене ние в массовых социальных и политических воззрениях и легли в основу многих национальных идеологий и идеологий обслуживающих ту или иную властную структуру.
Таким образом, основная функция социальной науки заключается в исследовании общественной жизни под углом зрения мировоззренческих проблем, центральное место среди которых занимают проблемы смысла жизни и целей существования общества в целом и отдельных людей, его движущих сил и закономерностей развития. Цель методологи социального познания заключается в обеспечении условий накопления знаний для составления реалистических проектов совершенствования жизни человека и общества. С одной стороны, социальное можно рассматривать как особого рода упорядоченную структуру, воздействующую на людей и в то же время относительно независимую, представленную совокупностью правил поведения, обычаев, норм, регулирующих отношения между людьми, и составляющими основу политических, экономических и культурных институтов, трансформирующихся в результате совокупных социальных действий и взаимодействий. С другой стороны, в социальное можно погрузить любое событие индивидуальной жизни людей, изменить его и обобщить, представить это обобщение в виде концепции общества и конкретного человека, исходя из идеи конструирования социальной реальности.
Господствующая в обществе идеология во все времена влияла на познавательную деятельность, особенно ярко эти процессы проявили себя в СССР в период советской власти. Именно через социальные механизмы науки, как составной части культуры идеология глубоко изменяет общество, даже если в этот момент провозглашается «деидеологизации общественной жизни». Последнее невозможно никогда, потому что есть внутренняя определенность идеологии, которая по отношению к каждой ее специфической форме остается безразличной. Однако данное обстоятельство не отрицает временного бытия идеологии, т.е. исчезновения ее отдельных исторических форм, ее конкретных концепций, идейно-теоретических систем. Но реализуется идеология только тогда, когда приобретает форму социальных проектов, реализуя свою наличность под влиянием аксиологических и культурно-исторических фактов.
Впервые провозгласили конец идеологии Д.Белл и С.М. Липсет. Позднее они вынуждены были отказаться от своих предсказаний. «Теория деидеологизации» на Западе, возникшая в начале 60 –х гг., продержалась не более десяти лет, сменилась «теорией реидеологизации». В настоящее время во всем мире существует множество идеологий и тенденция их количественного роста: «повседневная идеология», «экологическая идеология», «феминистская идеология», «гендерная идеология», «идеология виртуального капитала», «идеология блогосферы» и т.д. Это свидетельствует, прежде всего, о многовариантности определений самого понятия «идеология» и ставит вопрос о существовании некоего множества источников генерирования идеологии в обществе, идеологического проектирования социальной реальности.
Литература
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.
Попова И. Повседневные идеологии, /http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ Sociolog/Article/pop_povs.php
Энгельс Ф. Письмо Ф.Мерингу // Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Т. 39. М.: Госполитиздат, 1955.
5.4. Исайчиков В. Ф. О дискуссии Э. В. Ильенкова И Я. А. Конрада о понятии «стоимость»
Обращение к научной дискуссии полувековой давности [1] не представляло бы интереса, если бы за это время проблема была решена. Однако нерешённость проблемы оправдывает возвращение к дискуссии по одному из ключевых вопросов политэкономии.
Автор солидарен с подходом Ильенкова по выявлению не случайных ошибок, а общих нерешённых проблем, который он ясно сформулировал во время обсуждения работ В.П.Шкредова:
«Подспудной сутью наших споров является одна из труднейших и актуальнейших проблем политэкономии именно социализма — проблема удельного веса, роли и функции товарно-денежных категорий в организме социалистического народного хозяйства, в системе социалистически организованной экономики. Проблема, по которой десятки лет идут споры как в теоретическом, так и в практически-политическом плане. Этим, видимо, и объясняется тот накал, который то и дело прорывается в … выступлениях. … Если бы речь шла только о тех или иных оттенках понимания товара и товарного производства, изложенного в «Капитале», то дискуссия … протекала бы в виде академически вежливого пререкания…
Но ведь дело-то как раз в том, что разница в толковании «Капитала» здесь неизбежно приводит к серьезнейшим разногласиям в отношении роли товара при социализме и в отношении исходных категорий политэкономии социализма» [2].
Проблеме товарного производства и стоимости при социализме по существу и посвящена дискуссия Ильенкова и Кронрода. Ответ на статью Кронрода [3], в которой тот критиковал якобы ошибочное освещение «вопросов марксисткой экономической теории» в книге «Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» К.Маркса», Ильенков предваряет предположением, что Кронрод в форме критики книги «старается упрочить свою собственную версию «методологии «Капитала», ту самую версию, которой он обязан серьезной путаницей в проблеме товарного производства и стоимости при социализме». Кроме того, Ильенков признаёт, что некоторые отмеченные Кронродом фразы из книги «не совсем точны и корректны» [1]. Кстати, в приведённой цитате о работе Шкредова Ильенков тоже не совсем корректен, когда говорит о товарно-денежных категориях в организме народного хозяйства — в народном хозяйстве могут быть товарно-денежные отношения, а категории — это философское понятие.
По мнению автора, как и в вопросе стоимости, так и в более общих вопросах политэкономии оба дискутанта рассматривали вопросы недостаточно глубоко. В разработке ключевых проблем политэкономии они не только не продвинулись вперёд относительно Маркса, но и не всегда верно понимали то, что написано Марксом. Но поскольку этот недостаток присущ практически всем исследователям после Ленина, то вменять это в вину именно Ильенкову или Кронроду было бы ошибочным; в то же время разбор их заблуждений имеет до сих пор научное значение.
Анализ дискуссии проведён на основе рассмотрения четырёх политэко-номических работ Ильенкова: «Ответ Я.А. Кронроду («Капитал» К. Маркса и проблема стоимости) 5 апреля 1961» [1]; «К вопросу о товарном производстве» [2]; «К выступлению у экономистов 24.II.65» [4] и «О переводе термина «Wert» (ценность, достоинство, стоимость, значение)» [5].
Следует отметить, что из них только первая работа имеет законченный характер и подготовлена к публикации Ильенковым, а остальные — незавершённые записи или наброски, предъявлять к которым строгие требования некорректно (в этом автор полностью согласен с В.Вазюлиным: «…Чем в меньшей степени труд, изображающий процесс развития, подготовлен для печати, тем менее он пригоден для исследования его с точки зрения объективной логики. Идеальным объектом объективно логического рассмотрения является абсолютно завершённое мысленное воспроизведение предмета» [6, с. 336]). Однако из-за ограниченности материала исключать их из рассмотрения было бы неверным. Кстати, по логике Вазюлина легко придти к выводу, что при исследовании некоторого явления его логику можно выявить только после завершения этого явления (процесса). Подход формально безупречен, но кому нужна логика развития человечества, когда человечество исчезнет? Но вот относительно черновиков и незаконченных работ этот подход продуктивен; классический пример неосмотрительного отношения к черновикам — это гимн Российской Федерации, найденный в черновиках Глинки, который оказался выпиской из нот польского автора.
Возражения Кронроду Ильенков начинает с опровержения приписываемого ему тезиса «согласно которому Маркс, якобы, начинает свое исследование анализом «не товара, а стоимости». На это я могу сказать только, что такого тезиса в книге нет. Там, наоборот, разъясняется не раз и не два, что научные определения «стоимости» образуются Марксом как раз в ходе анализа товара и обмена товаров (см. с. 183, 185, 209, 213, 245 и т.д.)» [1]. В данном возражении Ильенкова имеется неточность не столько относительно понимания положений Маркса, сколько относительно понимания самого экономического процесса. Проблема в том, что в первом параграфе первой главы первого тома «Капитала» в анализе Марксом понятия «товар» (товарный обмен) имеются сложности семантического характера, вносящие путаницу в понимание текстов Маркса. Это отметил Ильенков [4]; кроме того, о точности переводов Маркса Ильенков беспокоился в одном из своих писем в ИМЛ [7].
Камнем преткновения при переводе этого параграфа большинство авторов считают перевод термина «wert». Русские переводчики, начиная с Лопатина, Даниэльсона и Струве разделились на два лагеря: большинство переводят этот термин как «стоимость», а меньшинство (начиная со Струве), как «ценность».
Причиной спора является как ограниченность немецкого языка, в котором оба понимания (стоимость и ценность) различаются лишь по содержанию контекста, поэтому выбор вариантов сделать иногда сложно, так и глубокими политическими выводами. Дело в том, что сторонники перевода «wert» как «ценность» пытаются перевести это понятие в морально-этическую плоскость, дабы на следующем этапе подменить научную трудовую теорию стоимости ложной «теорией предельной полезности» (или другими вывертами лженауки «экономикс»). Кстати, битва «тупоконечников» и «остроконечников» не завершена; последний перевод «Капитала», сделанный Чеховским [8], вызвал критику в первую очередь, из за перевода термина «wert» как «ценность» [10].
Ильенков тоже выразил сомнения по переводу этого термина, закреплённого к тому же административным запретом использовать в научной работе иные переводы текстов Маркса (этим официальным переводам автор ранее дал своё определение — «канонические» [11]): «В переводах экономического термина [wert] у нас с некоторых пор прочно утвердился один — «стоимость». Этим достигается строгое выделение политико-экономического смысла термина, его отличие от морально-этического и т.п. аспекта слова «ценность». … Ни в одном из европейских языков, на которых думал и писал Маркс, такого разведения «ценности» и «стоимости» нет, и русский перевод поэтому часто обрывает важнейшие смысловые связи, несомненно имеющиеся у Маркса» [5]. Сомнение Ильенкова имеет основание, но вот обоснование у Ильенкова хромает.
Слово «ценность» в русском языке имеет не только морально-этический аспект, но и экономический; ценность при этом не только является синонимом (неполным) материального богатства, но и синонимом полезности. И если в смысле богатства слово не вошло в политэкономию и не может заменить или дополнить слово «богатство», то в смысле полезности это слово более точно отражает политэкономический смысл в термине «потребительная ценность».
Следует отметить, что Ильенков напрасно утверждал, что «Ни в одном из европейских языков, на которых думал и писал Маркс, такого разведения «ценности» и «стоимости» нет»; автор не знаток всех «европейских языков, на которых думал и писал Маркс», но в английском и французском языках «разведение» понятий имеется.
Примеры:
По-английски:
cost — стоимость, цена; стоить, обходиться;
value — ценность; оценивать, ценить, величина (мат.); стоимость (эк.).
valuable — ценный,
По-французски:
valeur — ценность, стоимость;
cout, prix — стоимость, цена.
Маркс не только дал недвусмысленное определение потребительной ценности: «Полезность вещи делает её потребительной ценностью» [12,44], но и в примечании к этому предложению обратил внимание на особенности различения понятий «потребительная ценность» («worth» — термин XVII века) и «меновая стоимость» («value») в английском языке. (Во французском языке «разведение» понятий выражено не так явно).
Смешение понятий «ценность» и стоимость» является одной из особенностей немецкого языка, и трудности перевода связаны именно с этим; если в эскимосском языке есть 32 различных слова для различных видов снега, то перевод с эскимосского на русский — дело простое. А вот обратный перевод на эскимосский — дело крайне сложное, ибо переводчик должен домысливать, исходя из контекста, какое слово следует употребить; для полноты картины следует добавить, что в эскимосском языке отсутствует обобщающее понятие — снег вообще.
Ильенков верно отмечает, что в русском языке стоимость связана с ценой, а не с ценностью: «Между тем передача «Wert» как «стоимость» как раз и сближает это понятие с понятием «цены» — «Preis»,— ибо в лексиконе русского языка — в отличие от немецкого, английского, итальянского и т.д.— «стоимость» непосредственно производится от «стоить» в смысле только «цены»,— и в этом плане четко противостоит «ценности», как более широкой категории, которая может выражаться и не только ценой — т.е. в деньгах.»
Однако в следующем предложении Ильенков сам путается в понятиях и пишет: «Для капиталистического рынка характерно превращение «цены» — денежной формы ценности [выделено мной] — в универсальную и высшую норму выражения и измерения ценности вообще, а не только ценности товара», то есть, вместо слова «стоимость» употребляет слово «ценность». Аналогичную путаницу Ильенков продолжает и в нескольких последующих предложениях. Причиной неудачи является то, что Ильенков не сумел вырваться из дилеммы «или-или» и пытается подспудно провести формально-логическую связь там, где её нет (любой живой язык не подчиняется формальной логике).
Особенно ярко это проявляется в следующих абзацах, где Ильенков, в поисках диалектического противоречия в понятии стоимости как абстракции, существующей в мыслях, в представлении и «в самих вещах», путает понятия цены и стоимости. На эти ошибки Ильенкова не стоило бы обращать внимания, если бы не фраза, которая подчёркивает его формально-логический подход: «Так что в переводе, во-первых, вопиющее формально-логическое противоречие…». Формально-логическое противоречие — это свойство любого перевода, что особенно ярко проявляется в переводах художественной литературы.
Поскольку докладчик, рассматривая точность перевода другого произведения Маркса, попутно рассмотрел перевод заголовка первого параграфа первой главы «Капитала», то им был предложен другой вариант перевода, отражающий сущность и экономического процесса, и его изложения Марксом: «Два свойства товара: потребительная ценность и стоимость (понятие стоимости, мера стоимости)» [11].
Подход автора в корне отличается от переводов «остроконечников» и «тупоконечников», поскольку не только переводит «wert» и как стоимость, и как ценность (в зависимости от смысла текста), но и переводит на русский язык те слова, которые переводчики «Капитала» фактически не перевели, подменив их похожими иностранными словами «субстанция» и «факторы» с иным смыслом (то есть, исказив смысл содержания данной главы). Кроме того, поскольку в этой главе говорится именно о мере стоимости, а не её конкретной величине, то в заголовке слово «величина» из канонического перевода заменена на слово «мера».
Маркс, раскрыв понятие «меновой стоимости», в дальнейшем пользовался сокращённой формой этого термина — «стоимость», полагая своих читателей нормальными людьми, а не схоластами-логиками.
«Wert» как «ценность» переведено автором лишь в понятии «потребительная ценность», ибо оно отражает реальное содержания этого понятия как ценности для обмена (и, между прочим, в этом смысле староанглийское слово «worth» как потребительная ценность, очевидно, имеет общий корень с немецким словом «wert»).
Ценность (потребительная ценность) продукта является предпосылкой для обмена; если продукт не имеет для участника обмена ценности, не удовлетворяет какой-либо его потребности, то обмен не состоится. Потребительную ценность вещь, продукт имеют до обмена, вне обмена, и могут иметь даже вне человеческого общества. Банан на ветке является потребительной ценностью не только для человека, но и, например, для обезьян; он удовлетворяет потребность в пище и человека, и мартышки. Потребительная ценность вещи, продукта не является сама по себе экономической категорией; она становится экономической категорией лишь тогда, когда включена в обмен и становится товаром. При этом политэкономия не занимается изучением свойств потребительных ценностей — этим занимается товароведение: «Потребительные ценности товаров составляют предмет особой дисциплины — товароведения» [12, с. 44].
Если же обратиться к сути спора Кронрода и Ильенкова, то она идёт не столько вокруг абстрактного понятия «стоимости» (понимаемого обоими дискутантами неверно), сколько вокруг конкретного понимания роли товарно-денежных отношений при социализме. Именно это и вскрывает в своём анализе воззрений Кронрода Ильенков: «Согласно тов. Кронроду «товарное производство имманентно социалистическим производственным отношениям», и «социалистическое производство в целом представляет собой товарное производство» [см.: цит. изд., с. 142, 149]. Товарное производство вместе с выражающими его категориями «не привносится извне, не порождается «недоразвитостью» отношений социализма. Оно внутренне присуще развитым, последовательно социалистическим отношениям производства» [там же, с. 142].
Поскольку социалистическое производство в целом трактуется им как товарное производство, т.е. как разновидность товарного производства вообще, постольку перед тов. Кронродом сразу же встает щекотливая задача — как быть с тем пониманием стоимости, которое развито в первой главе «Капитала»? … Тов. Кронрод вынужден рассуждать так. Понимание стоимости у Маркса было, де, получено на основе обобщения тех фактов, которые были известны Марксу. При этом, де, Маркс не учитывал и не мог учитывать «опыта социализма», как разновидности товарного производства. А отсюда прямо возникает задача — подправить теорию стоимости Маркса с таким расчетом, чтобы она могла охватывать также и «опыт социализма» (См.: цит. изд., с. 149).»[1]
Соглашаясь с критикой Ильенковым воззрений Кронрода на характер социалистических производственных отношений, автор не может согласиться с оценкой этой ревизии марксизма как с ошибочной: «Здесь обнаруживается с очевидностью, что тов. Кронрод ошибочно толкует вопрос об отношении категорий товарного хозяйства вообще»; «Тов. Кронрод… не замечает при этом, что он зачёркивает не просто «одно из» положений теории стоимости Маркса, а саму суть этой теории, всю теорию от начала до конца...
А получается это по совершенно «естественной» методологической причине. Вместо того, чтобы конкретно исследовать процесс коммунистического обобществления народного хозяйства на стадии социализма — то есть на той стадии, где коммунизм еще не успел до конца преодолеть все остатки и последствия прежних форм разделения (или «объединения») общественного труда — в том числе и различия между городом и деревней, между квалифицированным и неквалифицированным трудом, и т.д. и т.п., которые и не дают нашему обществу возможности уже сегодня навек распрощаться со «стоимостью»,— тов. Кронрод стал на путь «исправления определений понятий» [1].
На самом деле это не ошибка учёного, а позиция приспособленца, поскольку тезис Кронрода является фактически выражением другими словами идеи Сталина о «товарном производстве особого рода» при социализме [13].
Показывая неверность положений Кронрода и верно указывая, что необходимо сделать: «Вместо того, чтобы конкретно исследовать процесс коммунистического обобществления народного хозяйства на стадии социализма» — сам Ильенков ограничивается анализом текстов Маркса. И в этом он уступает приспособленцу Кронроду, который вслед за Сталиным, обнаруживая расхождения между практикой социализма и теоретическими положениями Маркса, не стесняется «поправлять» Маркса. То, что ни Кронрод, ни Сталин не понимали сущности советского социализма, не имеет значения; важно то, что они пытались согласовать теорию и действительность. А вот Ильенков (и не только он — можно вспомнить и работы В.А.Вазюлина) оторваться от текстов Маркса не пробуют, выступая в большей мере как толкователи «священных текстов», а не исследователи реального мира.
Толкуя Маркса, Ильенков вполне может обнаружить логические ошибки у других толкователей. Более того, он может выделить действительно важные моменты рассмотренных Марксом отношений (в этой части можно отметить анализ Ильенковым диалектики «частных работ» и частнособственнических отношений [1].
Однако анализ текстов не позволяет их толкователям найти нечто новое, поскольку новое появляется и проявляется в реальной жизни. А в реальной жизни ни Ильенков, ни Вазюлин, ни прочие не обнаруживали ничего принципиально нового. В данном случае к самому Ильенкову можно отнести его же верные слова: «Весьма многие экономисты, прекрасно знающие — чуть ли не наизусть — «Капитал», сразу же теряются, как только от пересказа «Капитала» приходится переходить к процессу применения его метода — к анализу другой, а именно социалистической — системы общественных отношений между людьми.
Здесь, увы, слишком часто оказывается, что формальное знание «Капитала» это одно, а понимание метода, в нем примененного,— это совсем-совсем другое дело» [4].
Самый большой упрёк советским учёным в том, что они не решили важнейшего вопроса политэкономии социализма — не вскрыли его классового характера. Они либо слепо следовали идеям Сталина о СССР как государстве диктатуры пролетариата (Ильенков в том числе), либо выдумывали умозрительные конструкции о СССР как о «деформированном рабочем государстве» (Л.Троцкий); как о государстве государственного капитализма (Т.Клифф); приклеивали пустые этикетки «мутантный социализм» (А.В.Бузгалин) или «ранний социализм» (В.А.Вазюлин) и т.п.
Если Ильенков не дожил до краха советского мелкобуржуазного социализма, то у других специалистов не только были в распоряжении годы после Августовской контрреволюции, но они оказались неспособными воспринять уже готовое решение проблемы, сделанное автором доклада. Концепция советского социализма как мелкобуржуазного социализма — неустойчивой, промежуточной формации — была опубликована ещё в 1995 году [14], и в дальнейшем не раз уточнялась и расширялась [например,15].
Почему учёные и политики оказались невосприимчивыми к тому, о чём в книгах Маркса ничего не сказано — вопрос особый. Но опять же — это не личная проблема отдельных учёных, а отражение классовых интересов непролетарских классов.
Литература
Ильенков Э.В. Ответ Я.А. Кронроду («Капитал» К. Маркса и проблема стоимости) 5 апреля 1961 www.culturedialoge.org/drupal/ru/node/2532
Ильенков Э.В. К вопросу о товарном производстве www.culturedialoge.org/ drupal/ru/node/2518
Кронрод Я.А. Закон стоимости и его использование в народном хозяйстве СССР М.: Политиздат, 1959, 527с.
Ильенков Э.В. К выступлению у экономистов 24.II.65 www.culturedialoge.org/ drupal/ru/node/2533
Ильенков Э.В. О переводе термина «Wert» (ценность, достоинство, стоимость, значение).— http://amaid.tk/ilyenkov/texts/daik/wert.html.
Вазюлин В.А. Логика «Капитала» Карла Маркса. Москва, СГУ, 2002, -390с.
Ильенков Э.В. Письмо в Институт марксизма-ленинизма / В книге Э.В. Ильенков «Философия и культура» М., Политиздат, 1991, с. 448–449.
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии Т.1./Под ред. В.Я.Чеховского. М.: РОССПЭН, 2015.
Бузгалин А.В., Васина Л.Л. Претенциозная игра в новации (о неудавшейся попытке нового перевода ряда терминов «Капитала») / Альтернативы, №3, 2016, с. 155–167.
Исайчиков В.Ф. Загадки «Тезисов о Фейербахе» / Просвещение, №1, 2014, с. 25–37.
Маркс К. Капитал, т.1, М, Политиздат, 1983,-905с. с. 44
Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР М., Информационно-методический центр РКРП по рабочему движению, 1997, с. 17.
Исайчиков В.Ф. О причинах поражения социализма / Просвещение, №1,1995, с. 6–19.
Исайчиков В.Ф. Советский социализм как частный случай мелкобуржуазного социализма / Просвещение, №2, 2009, с. 27–36.
5.5. Котов Ж. В. К вопросу философского обоснования идеи социализма
«В виде идей всегда выражают себя реальные потребности, созревшие внутри социального организма…Идея это и есть «придуманный», «увиденный» человеком… возможный выход за пределы сложившейся противоречивой ситуации — за рамки существующего положения вещей и выражающих его понятий» (Эвальд Ильенков) Каждое историческое время требует своего обоснования идеи социализма.
К. Маркс обосновывает идею социализма в середине Х1Х века как «исторически назревший способ разрешения реальных классовых противоречий, как революционный способ разрешения материальных, объективных противоречий между пролетариатом и буржуазией». Философское обоснование идеи социализма дано в «Экономическо-философских рукописях 1844 года», а научное в «Капитале». Э.Ильенков обосновывает идею социализма в условиях победившего социалистического государства, сложившегося в условиях крайне неразвитых цивилизационных предпосылок и находящегося во враждебном капиталистическом окружении.
В наше время необходимо обоснование идеи социализма, во-первых, в ситуации поражения социализма в СССР, во-вторых, в условиях общецивилизационного кризиса.
Для России крайне актуальной даже в чисто практическом плане оказывается проблематика возможности социалистического обновления в ближайший исторический период. Ибо если российская цивилизация не подвергнется уничтожению внешними силами то для нее два пути: либо движение в сторону общества потребления, увлекающий общество на тупиковый путь (как это видно по странам Западной Европы), либо путь социалистического обновления, выводящий на магистральный путь общецивилизационного развития. Соответственно, в чисто теоретическом плане оказывается крайне актуальной осмысление жизнеспособности идеи социализма для российской действительности. Причем речь идет о теоретическом осмыслении не с позиций мелкобуржуазного или буржуазного социализма, а с позиций научного социализма Карла Маркса, «не боящегося собственных выводов и не страшащегося столкновения с власть предержащими».
И первостепенная задача в плане осмысления данной проблемы это теоретическое осмысление причин поражения социализма в СССР. Подчеркиваю, что не идеологического осмысления, при котором автор фактически ищет обоснование заранее имеющейся у него точки зрения, а подлинно теоретического, направленного на поиск истины — на выявление объективных, субъективных и объективно-субъективных причин поражения. Именно такого осмысления причин поражения реального социализма в СССР, на позициях которого находился В.И.Ленин, анализируя причины поражения революции 1905–1907 годов. Он требовал серьезного теоретического осмысливая «всех тех глубоких — во многом еще не ясных, еще не окончившихся — сдвигов, которые произошли и продолжают происходить в социальном организме страны, в системе противоречивых отношений между классами и их фракциями, между основными социальными силами и представляющими их интересы партиями в результате трагически завершившегося катаклизма … Ведь прежде чем решать, что делать партии дальше, необходимо до конца проанализировать свершившиеся события и их результаты, извлечь все уроки из драматического опыта проигранного сражения, поставить четкий марксистский диагноз, учесть сложность новой обстановки, расстановки классовых сил, помочь революционным силам изжить все те политические иллюзии, предрассудки и утопические надежды, которые принесли столько вреда, внесли разнобой в действия и лозунги»[2, с. 19].
Если рассматривать проблему анализа объективных предпосылок поражения реального социализма в СССР, то встает вопрос: согласно аутентичного марксизма тот вариант социализма, который был реализован в СССР, мог ли он продержаться до начала общецивилизационной социалистической революции? Полагаю, что в теоретической концепции Маркса можно найти отрицательной ответ на этот вопрос. Что касается Эвальда Васильевича, то полагаю, что имплицитно он также склонялся к данной точке зрения. Если рассматривать проблему объективно-субъективных предпосылок поражения, то одна из важнейших причин в том, что в условиях реального социализма в СССР у представителей официального марксизма в одеждах марксизма фактически был представлен не диалектический материализм, а позитивизм. «Вопрос по-прежнему стоит так,— пишет Э.Ильенков,— как поставил его в 1908 году Ленин: либо последовательный (диалектический) материализм — либо беспомощные плутания в теории, плутания, чреватые печальными, а то и трагическими последствиями. Начинаясь в отвлеченных, казалось бы, сферах, эти плутания рано или поздно заканчиваются на грешной земле» [2, с. 6]. В условиях господства в России мелкобуржуазной стихии даже ближайшим сподвижникам Ленина в лице Богданова и Луначарского не удалось самостоятельно удержаться на позициях последовательного материализма. Что и говорить о ситуации после ухода Ленина?! К субъективным предпосылкам поражения социализма в СССР можно отнести, в частности, характер генсека СССР — Сталина (о чем и говорит Ленин в «Письме к съезду»), приведший к многократному усилению репрессивного аппарата и сужению возможностей демократии (демократия — одно из важнейших условий движения к подлинному социализму). В то же время ошибочно и преувеличивать роль личности Сталина в тенденциях жесткого развития реального социализма в СССР. Говоря о роли исторической личности в истории, Энгельс отмечает, что направленность исторического развития она изменить не может, но на сам характер конкретных исторических событий неизбежно накладывается отпечаток характера личности, стоящей во главе движения.
Попытаюсь ниже показать, что согласно концепции социализма (и коммунизма) Маркса первичные социалистические революции при всем своем всемирно-историческом значении носят локальный, исторически ограниченный характер. Их предназначение в том, чтобы, во-первых, показать, что социалистическое обновление мира не утопия, а реальная возможность, реальная перспектива человечества, во-вторых, дать мощный толчок созданию материальных и духовных предпосылок для победы социализма во всем мире. В концепции социалистической революции у Маркса имеются в наличии как бы два аспекта осмысления действительности: общетеоретический, касающийся фактически проблематики общецивилизационной социалистической революции, и практически-теоретический, касающихся перспектив и возможностей социалистической революции в развитых капиталистических странах Западной Европы. Общетеоретический подход представлен учением об общественно-экономических формациях и соответственно о социализме как периоде перехода от буржуазного общества к коммунистическому. А также концепцией развития личностного потенциала индивидов в ситуации перехода от господства общественных связей, основанных на отношениях личной зависимости к общественным связям, основанным на отношениях личной независимости и вещной зависимости и далее к ситуации утверждения ансамблей свободных индивидуальностей. Согласно концепции Маркса ни одна общественно-экономическая формация не погибнет пока, во-первых, полностью не исчерпает возможности своего развития, во-вторых, не создаст материальные предпосылки для своего самоотрицания. Каковы же эти предпосылки и были ли они в период революционных ожиданий самого Маркса? Во-первых, должна возникнуть ситуация, когда развитие общественных производительных сил начинает тормозиться наличным разделением общественного труда и соответствующим ему профессиональным кретинизмом индивидов и в качестве важнейшей оказывается потребность перехода к рациональному разделению видов деятельности между всесторонне развитыми индивидами, способными без личных трагедий свободно переходить от одного вида деятельности к другому. Во-вторых, в обществе должно уже производиться достаточное количество материальных благ с тем, чтобы уже переход к формально-юридическому обобществлению собственности позволял создавать нормальные условия жизни, труда и образования для подавляющего большинства населения (должна уйти в прошлое ситуация звериной борьбы за существование). В-третьих, должны быть хотя бы в зачаточной форме уже созданы в общества социальные связи, открывающие для индивидов возможность жить жизнью не животной, а социальной. Что касается предпосылок социализма для личностного развития индивидов, то согласно Марксу именно в условиях общественных связей, основанных на личной независимости индивидов и их вещной зависимости «впервые образуется система всеобщего общественного обмена веществ универсальных отношений, всесторонних потребностей и универсальных потенций» [3, с. 105]. Именно вторая ступень создает условия для третьей: «Свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и на превращении их коллективной общественной производительности в их общественное состояние [3, с. 105]. Имели ли место быть такие предпосылки социалистической революции как во времена Маркса в Западной Европе, так и во времена Ленина в России?!
В основе теоретического осмысления проблематики революционного преобразования мира идей у Маркса положен принцип: «не выдумывать связи из головы, а постараться понять действительное движение и стать сознательным выразителем этого движения», что оказывается для Маркса возможным благодаря разработке как материалистического понимания истории, так и метода материалистической диалектики. В то же время Маркс понимает, что «всякое научное изображение… представляет собой так или иначе схематизированное отображение окружающего мира» [1, с. 356] и не схватывает всей сложности и многообразия путей общественного развития, что практика богаче теории. Поэтому, он одновременно отмечает, что если в реальной жизни Западной Европы в данный исторический период возникает революционное движение, направленное на утверждение социализма, то значит, имеют место быть и сами предпосылки для социалистической революции: «фактически, если люди начинают сам переход, то это и уже свидетельствует о том, что предпосылки уже налицо». Эти предпосылки он усматривает, во-первых, в неготовности буржуазии идти на уступки рабочему классу даже своих стран (именно нищета и бедность народных масс поднимала их на революцию); во-вторых, в периодически повторяющихся при жизни Маркса (раз в десять лет) экономических кризисах; в-третьих, для Германии Маркс связывал возможность победы социалистической революции с ситуацией дополнения революционных выступлений немецкого пролетариата крестьянскими восстаниями.
Концентрированное философское обоснование идеи социализма в условиях утвердившегося в СССР реального социализма Э.Ильенков предлагает в статье: «Маркс и Западный мир». 30 марта 1965 Комитет по международным связям Университета Нот-Дам (США) направил в СССР приглашение Э.Ильенкову прочитать доклад на тему «Марксистские возражения против современных западноевропейских и американских интерпретаций Маркса». Представим себе мысленно, какие бы вопросы посыпались к нему от оппонентов, если бы ему удалось лично присутствовать на конференции. Обращение к нему: «Вы являетесь сторонником и последователем учения Маркса, в то же время вы представляете Советский Союз, страну, в которой предпринята практическая попытка реализации идей Маркса, воплощение их в жизнь путем коренной перестройки всего общественного строя России. Мы полагаем, что Маркс романтик и утопист, являющий собой досадное исключение западной культуры, а ваши революционеры и строители социализма не более чем беспринципные авантюристы и даже более — злодеи, ибо, посягнув на принцип вечности и священности буржуазной частной собственности, они ввергли мир в череду бед и катастроф. Сопоставим, что обещал Маркс и что у вас реально получилось. Согласно Марксу у вас должно быть общество, в котором «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». А в ваше стране имеют место такие неприятные вещи как культ личности, отчуждение человека от человека, анархия «частных» (местных и ведомственных) интересов и тенденция к формально-бюрократической регламентации и т.д. Кстати, как заявлял в свое время Ленин, народные массы поднялись на революцию в России под влиянием «нищеты и бедности народных масс», но преодолена ли она у вас? Наш общий вывод. Социализм в СССР это трагическая случайность в развитии общечеловеческой цивилизации, а «Карл Маркс не более чем предтеча сталинского террора» [см.1. с. 454]. Внимательный читатель найдет в докладе Эвальда Васильевича обоснование абсурдности, выдвигаемых против идеи социализма обвинений, в нем представлен вариант не просто идеологической, а подлинно научной защиты идеи социализма, включающей в себя элементы самокритики реального социализма. Он предлагает.
Во-первых, рассматривать идеи Маркса как таковые, в их первозданно-оригинальной форме, строго абстрагируясь при этом от всех позднейших интерпретаций и практически-политических приложений этих идей [1, с. 156]. Во-вторых, учитывать суть основного принципа доктрины Маркса: «движение «частной собственности» своим имманентным движением «снимает» само себя в составе «общественной формы собственности» [1, с. 168]. В-третьих, учитывать то обстоятельство, что критика реального социализма в СССР фактически направляется «не на принципы коммунизма, которых она совершенно не касается, а прежде всего направлена на те явления, которые представляют собой не преодоленное еще «наследие» мира отчуждения, мира частной собственности»,— на те черты, «грубого» и непродуманного коммунизма, который «еще только рождается из мира частной собственности и потому еще носит на себе следы своего рождения» [1, с. 169]. Самокритика реального социализма представлена у Э.Ильенкова его утверждением о том, что ошибочно полагать, будто построение социализма исчерпывается формально-юридическим обобществлением собственности. Согласно же Марксу, формально-юридическое «обобществление собственности», учреждаемое политической революцией, есть всего-навсего первый (хотя и необходимо первый) шаг, есть лишь первый этап действительного «обобществления». Подлинная же задача, составляющая «суть» марксизма, только тут и встаёт перед ним во весь свой рост, во всём своем объеме, хотя на первом этапе эта задача может вообще ясно не осознаваться. Эта задача — действительное освоение каждым индивидом всего накопленного в рамках «частной собственности» (т.е. «отчужденного от него») богатства. При этом «богатство», которое тут имеется в виду,— это не совокупность «вещей» (материальных ценностей), находящихся в формальном владении, а богатство тех деятельных способностей, которые в этих вещах «овеществлены», «опредмечены», а в условиях частной собственности — «отчуждены». Превратить «частную собственность» в собственность «всего общества» — это значит превратить ее в реальную собственность каждого индивида, каждого члена этого общества, ибо в противном случае «общество» рассматривается еще как нечто абстрактное, как нечто отличное от реальной совокупности всех составляющих его индивидов». По Ильенкову получается, что в СССР был реализован вариант «грубого и непродуманного» коммунизма, который полагает, что коммунизм исчерпывается превращением частной собственности в собственность «общества как такового», т.е. безличного организма, противостоящего каждому из составляющих его индивидов и олицетворенного в «государстве». В то же время Э.Ильенков подводит нас к мысли, что социализм — это не здание, которое можно построить, ибо в основе его лежит, живое творчество масс по преодолению отчуждения, социализм — это движение по преодолению частной собственности общественной собственностью, и если это движение останавливается, то исчезает и сам социализм.
Реальный социализм в СССР, продолжая традиции Парижской Коммуны, выполнил свою великую историческую миссию. Но поражение социализма временно. Полагаю, что в наше время «действительное движение» для России состоит в том, чтобы на основе сохранения и укрепления российской государственности выявлять, поддерживать и развивать предпосылки подлинного социализма, ориентированного на утверждение «новых форм общественной жизни, нового отношения человека к человеку и к самому себе» Полагаю, что современное буржуазное государство в России при определенных условиях оказывается вынуждено решать фактически задачи создания предпосылок для социалистической революции. Подлинная альтернатива состоит в том, чтобы, с одной стороны, критиковать государственную власть за непоследовательность в решении самых насущных проблем российского общества, с другой стороны, проводить активную теоретическую и практическую работу по активизации самодеятельности народных масс, направленной на подготовку предпосылок социализма. Сложность ситуации в том, что главное в марксизма материалистическая диалектика, а «диалектика в ее действительном понимании — и прививается только на почве определенного исторического движения, соединяющего работу рук с работой головы, научно-просвещенного движения пролетариата, а на всякой другой почве вырождается» [4, с. 163].
Литература
Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: Издательство политической литературы. 1991.
Ильенков Э.В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. М.: Политиздат. 1980.
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861г.г. М.: Издательство политической литературы. 1980.
Ильенков Э.В. Гегель и герменевтика http://caute.ru/ilyenkov/texts.html
5.6. Некрасов С. Н. Дефетишизация и возврат вещных образований на их место: идеи Э. В. Ильенкова и целостность философско-мировоззренческих взглядов социального учёного и чеовека
В ходе изучения — теоретического и эмпирического одновременно — феномена фетишизма философы-марксисты к моменту завершения исторического существования социализма в СССР пришли к широкому пониманию этого термина. Выяснилось, что он охватывает системы специфической социальной деятельности, и фетишистские идеологии с их генерализированными абстракциями, и иллюзии массового сознания, и предметные образо вания фетишистских культов современности, и артефакты — объекты фетишизма, ставшие таковыми из внешней логики движения субъектов фетишизма. Разрушение фетишизма и дефетишизация, поэтому, предполагают, как считал еще Д. Лукач, в первую очередь возврат вещных образований на их место в человеческой картине мира [1, с. 317]. Добавим, что для этого сам человек и его отправления — языковые, властные и другие — должны быть дефетишизированы практически, то есть, говоря словами К. Маркса, люди «эмансипированы», а «экспроприаторы экспроприированы». В широком смысле, полагает Д. Лукач, т. е. в отличие от «фетишизма экономической жизни капиталистического общества», понятие фетишизма охватывает «те возникшие в различных социально-исторических условиях и получившие в общем представлении самостоятельное бытие объективации предметного мира, которые реально ни сами по себе, ни в их отношениях к человеку не имеют самостоятельности» [1, с. 316].
Ранее он отмечал: «Однако было бы неверно, особенно исходя из предмета нашего исследования, ограничить явление фетишизма экономической жизнью капиталистического общества. Хотя в «Капитале» Маркс рассматривает фетишизм лишь в этом разрезе — правда, в его универсальном значении,— он недвусмысленно указывает на то, что речь идет о свойстве отражения общественной действительности и что его специфически определенная для капиталистической экономики и идеологии форма не отрицает его действия в течение всей истории человечества. С этой точки зрения заслуживает внимания, что в главе о товарном фетишизме Маркс упоминает о родственности такого искажения действительности религиозным представлениям» [1, с. 316].
Как эмпирически-чувственно выглядит фетишизм, понятый в широком смысле, и как он представлен в буржуазном мире? С.Б. Лавров и Г.В. Сдасюк так описывали его ощутимое присутствие: «Одним из главных следствий «сокращения» мирового пространства считается стандартизация — гомогенизация потребительских вкусов. В этом процессе, как и в самой пропаганде идеалов общества «потребления», заинтересованы, в первую очередь империалистические государства и ТНК. Мир стандартных вкусов, создаваемый мощными средствами современной информации, рекламы, моды,— это грандиозный рынок, благодатная основа эксплуатации материальной и духовной. Однако, «сокращение» и «гомогенизация» земного пространства происходят одновременно с его «расслоением», усилением диспропорций, что не может не нагнетать общую напряженность и дестабилизацию» [2, с. 32]. Действительно, массы не только в странах третьего мира, но и на Западе страдают скорее от «недопотребления», чем от изобилия. Г.С. Лисичкин, идеолог «рыночного социализма» М.С. Горбачева, замечал в книге с симптоматическим названием «Что человеку надо»:»... широкие массы, которые состоят скорее из «кандидатов в потребители», отнюдь не страдают от переизбытка вещей» [3, с. 55], да и «общество потребления» не в силах удовлетворить даже потребителей искусственно навязанной продукции. Однако с помощью идейки о рыночном социализме, при котором к благам рынка будут добавлены и сохранены преимущества социализма, сумели обмануть советский народ на референдуме 1991 г. Рыночный социализм невозможен так же, как нереален капиталистический социализм, признаки которого были стерты с облика западных социальных государств сразу с исчезновением СССР.
В «цивилизации выбрасывания» (А. Тоффлер) принцип функционализма попадает в собственную ловушку поисков наибольшего удобства: люди перестают понимать, в чем состоит истинное удобство и целесообразность вещей (ибо все это оказыва ется чисто символическими социальными свойствами), которые должны быстро исчезать и заменяться новыми. Н.А. Дмитриева писала о всплеске в конце ХХ в. интереса к вещам как новом явлении капитализма:»...страсть к вещам не угасает, даже разгорается: как никогда, множится количество вещей-украшений, вещей-игрушек, вещей-безделушек, которые с точки зрения функциональной эстетики считались проявлением дурного вкуса. Бродячие хиппи одевались вроде бы кое-как — старые свитеры, рваные джинсы. Однако, как подобает экзотическим дикарям, они увешивали себя массой украшений... Это показное дикарство было по-своему принято и соответственным образом стилизовано в модах «истэблишмента» как причудливость, вычурность, маскарадность» [4, с. 248]. Наиболее чистые в своих антикапиталистических идеалах хиппи отправились в изгнание с семьей или в уединение так, как описано в фильме «Капитан Фантастика» (2016 г.)
Действительно, почему золото в рыночном обществе притворяется «бросовым» материалом, керамическое изделие прикидывается кожаным, кожаное — мешковиной? Ссылкой на манипуляцию вкуса монополиями эти явления не объяснить. Товарный фетишизм во многом структурируется цивилизационной спецификой и стереотипами буржуазной культуры, которая в отличие от культуры традиционной, признает ссудный процент. Синтоистская заповедь «Будь чистым!», отвращение к блеску и излишеству сегодня вступили в противоречие с потребностями массового производства и застройки.
В разные периоды жизни нашего общества автор по-разному относился к чучхе и тому чистому социалистическому обществу, в котором нет фетишизма. Можно обратиться к календарю чучхе на 2019 г. Он человечный, то есть не рыночный. В таком обществе сохранится человек и не будет нужды в трансчеловеке. В этом обществе нет ипотеки и кредита, безработицы и налога, снижения доходов и роста смертности, менеджмента и маркетинга, прибыли, рентабельности и частного капитала. Все это называется одним словом — социализм. Правда, это старый социализм, первая версия общества в котором свободное развитие каждого станет условием свободного развития всех.
Каким будет новый социализм, или посткапитализм? Об этом пора задуматься обществоведам и гуманитариям, которые за свой счет издают календари с цитатами И.В. Сталина, обращенными по их замыслу к нам — современникам. В этих календарях они сами себе пытаются ставить задачи, но устами генералиссимуса. Как считал К. Маркс, все эпохи переодеваются в одежды своих предшественников. Французская революция смотрела на себя глазами греков и римских республиканцев, большевики осмысляли себя в образах французской революции. Настал час и мы, жертвы гайдаро-чубайсовской приватизации разума и разрушения народного хозяйства, превращения его в систему хрематистики, пытаемся переосмыслить себя глазами суверенного субъекта прошлого — самого И.В. Сталина! Но когда мы начнем мыслить сами? Пока повторим настоящие вопросы «отца народов» И. В. Сталина: В чем главная опасность нашего времени? Каково основное противоречие нашей эпохи? Кто главный враг сегодня? Все это классические вопросы советской эпохи. Наши досоветские предки задавали те же вопросы, но по-другому: что делать, кто виноват, а судьи кто?
Какие вопросы может задать нам наше время? Думаем, что это вопрос: о чем мечтать, каков смысл, зачем живешь и чего же ты на самом деле хочешь и что сможешь? Пора начать думать самим и только в этом векторе создания нового справедливого общества мы сможем преодолеть всю совокупность фетишистских культов.
Э.В. Ильенков так подводит итог всему марксистскому пониманию фетишизма как продукта социального отчуждения. Он пишет, что «реальные талеры ровно ничем не отличаются от богов первобытных религий, от грубых фетишей дикаря, который поклоняется (и именно как своему богу!) самому что ни на есть реальному, действительному бревну, куску камня, бронзовому идолу или другому подобному внешнему предмету. Дикарь вовсе не рассматривает предмет своего поклонения как символ бога, для него этот предмет во всей его грубой чувственно воспринимаемой телесности и есть бог, сам бог, а вовсе не его «изображение». И вот такое грубо фетишизирующее религиозное сознание в примере Канта с талерами действительно обретает аргумент в свою пользу.
Для верующей старушки Илья-пророк действителен именно потому, что она его видит в сверкании молний и слышит в грохоте грома, она чувственно воспринимает именно Илью-пророка, а вовсе не его символ, точнее, она именно гром и молнии воспринимает как Илью-пророка, а не как символ этого персонажа; в молнии и громах она воспринимает его действительные действия, его действительные формы чувственного обнаружения.
Фетишизм в том и состоит, что предмету, именно во всей его грубой телесности, в его непосредственно воспринимаемой форме приписываются свойства, которые на самом-то деле принадлежат вовсе не ему и ничего общего с его чувственно воспринимаемым внешним обликом не имеют.
Когда такой предмет (будь то кусок бревна, каменный или бронзовый идол и т. д. и т. п.) перестает рассматриваться как «сам бог» и обретает значение «внешнего знака» этого бога, воспринимается уже не как непосредственный субъект приписываемых ему действий, а лишь как памятный знак, указывающий на нечто «другое», лишь как символ этого «другого», на символ внешне совсем непохожего субъекта, то сознание человека делает шаг вперед на пути к уразумению сути дела»[5, с. 34–35]. Похоже, что за последнюю треть столетия человечество вновь поглупело и сделало шаг назад к дикарю воспаленному вожделеющей страстью к предмету. Можно употребить образ «верующей старушки», в которую превратилось так называемое цивилизованное человечество с либеральной идеологией потребления и производства для продажи. Этот понижающий дискуссию образ верующей старушки использовал Э. В. Ильенков, советский философ-коммунист, ушедший в Красную армию из Свердловска офицер, дошедший до Берлина со своей батареей.
Всей своей жизнью он боролся за освобождение человечества от реальных и воображаемых идолов. Э.В. Ильенков близок мне и интересен как целостный советский человек, коммунист, офицер. Таким же человеком был мой отец, который, судя по боевому пути Э.В. Ильенкова, был в частях где-то рядом. Это можно отследить при их призыве в армию в тот же год, при обучении на курсах младших лейтенантов УрВО по специальности командира огневого взвода в 1942 г. в г. Сухой Лог (это и далее выписки из его военного билета). Отец вступил КПСС в 1944 г., прошел, как и Э.В. Ильенков тяжелейшие бои на Сандомирском плацдарме, 1 и 2 Белорусский фронт. Разница есть в возрасте и жизненном опыте — отец 1908 г. рождения, учитель математики, и несколько месяцев разница ухода на фронт. Отец ушел в Красную армию 25.03.42 г. добровольцем с должности директора школы, мама также была на фронте инструктором фронтовых райкомов и занималась советизацией освобожденных Латвии и Литвы. Это поколение целостных людей — у них ясное прозрачное мышление и никакого мракобесия. Именно это поколение должно стать путеводной звездой не только для поколения сыновей, но и звездой поколению правнуков. Ценность Э.В. Ильенкова и ильенковцев в том, что они писали и говорили, и они оставили нам Диалектику жизни и мышления с большой буквы. Мне же отец только успел показать командующего округом Г.К. Жукова, играющего в футбол с мальчишками на улице под окнами нашей квартиры. И хотя маршал присутствовал на его уроке математики в Свердловском суворовском училище, многие победители так и остались безмолвным поколением для потомков. Остается только призвать современников изучать наследие Э.В. Ильенкова настоящим образом.
Литература
Лукач Д. Своеобразие эстетического. М.: Прогресс, 1986. Т. 2.
Лавров С.Б., Сдасюк Г.В. Этот контрастный мир. М.: Мысль, 1985. С. 32
Лисичкин Г.С. Что человеку надо. М.: Сов. Россия, 1974.
Дмитриева Н.А. Карнавал вещей // Современное западное искусство. XX век. Проблемы и тенденции. М., 1982.
Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. М.: Искусство, 1984.
5.7. Петров А. П. Об одной незамеченной идее
В далёком 1928 году в Москве была издана монография «Денежная политика Советской власти (1917–1927)» автором которой являлся Леонид Наумович Юровский, в то время занимавший пост руководителя Валютного управления наркомата финансов. Несмотря на наличие в заглавии слов «денежная политика» в круг вопросов, рассмотренных Л.Н. Юровским, вошли также проблемы экономики в целом, понимаемой как система более высокого уровня, объединяющая и финансовую систему, и производство. Широта охвата автором многочисленных проблем экономики в целом, и её финансовой составляющей в частности, не только не отразилась на глубине посылок и выводов, но напротив, способствовала появлению таких обобщений, которые могли бы стать основой не только новых политэкономических теоретических разработок, но и найти широкое применение в практике социалистической экономики. Могли, но, увы, не стали и не нашли… Об одной такой идее и пойдёт речь далее.
Но прежде обозначим и кратко осветим нашу тему.
В широком смысле это 1. тема перехода от капитализма к коммунизму, в более конкретном, узком смысле — 2. сущность собственно переходного периода и даже более конкретно — 3. экономическое содержание этого периода и его политэкономическое обоснование.
Соответственно упомянутым слоям темы можно указать следующие проблемы — проблема ликвидации частной собственности на средства производства, проблема преодоления товарного характера экономики и, наконец, проблема существования (несуществования) рынка при социализме.
Если по первой проблеме в марксистской среде принципиальных разногласий нет, то две другие до сих пор являются камнем преткновения и ареной столкновения полярных позиций. На них и остановимся.
Вначале вспомним видение движения от капитализма к коммунизму классиками.
«В обществе, основанном… на общем владении средствами производства, производители не обменива ют своих продуктов; столь же мало труд, затраченный на произ водство продуктов, проявляется здесь как стоимость этих про дуктов, …теперь, в противоположность капиталистическому обществу, индивидуальный труд уже не окольным путем, а непосредственно существует как составная часть совокупного труда. Выражение «трудовой доход», …теряет таким образом всякий смысл» [5, т.19, с. 18].
Итак, по Марксу в условиях общественной собственности на средства производства стоимость как общественный феномен отсутствует и, как следствие, элиминируются отношения обмена, а индивидуальный труд «существует как составная часть совокупного труда». Суть последнего утверждения Марксом не объясняется и его можно понимать и таким образом, что коль скоро производство ведётся на общественных началах, то и потребление осуществляется общественно же, т.е. под контролем со стороны общества.
И Маркс это подтверждает: «каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам даст ему. То, что он дал обществу, составляет его индивидуальный трудовой пай» [5, т.19, с. 18].
Каким же образом реализуется этот трудовой пай? Казалось бы, просто — работник «по лучает от общества квитанцию в том, что им доставлено такое-то количество труда, …и по этой квитанции он получает из общественных за пасов такое количество предметов потребления, на которое затра чено столько же труда. То же самое количество труда, которое он дал обществу в одной форме, он получает обратно в другой форме». [5, т.19, с. 18]
По этому поводу Маркс резюмирует — «Здесь, очевидно, господствует тот же принцип, который регу лирует обмен товаров, поскольку последний есть обмен равных стоимостей» [5, т.19, с. 18].
Но чем это отличается от заработной платы капиталистического производства и его пресловутого обмена по стоимостям?
Маркс отвечает — «содержание и форма (здесь и далее выделено нами.— А.П.) здесь изменились, потому что при изменившихся обстоятельствах никто не может дать ничего, кроме своего труда, и потому что, с другой стороны, в собственность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме индивидуальных предметов потребления. Но что касается распределения послед них между отдельными производителями, то здесь господствует тот же принцип, что и при обмене товарными эквивалентами: известное количество труда в одной форме обменивается на рав ное количество труда в другой» [5, т.19, с. 18].
Но и в капиталистически ведущемся производстве точно так же, как и в условиях общественного производства, «никто не может дать ничего, кроме своего труда» и «в собственность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме индивидуальных предметов потребления», если речь идёт о работниках.
Да, форма отношений распределения и потребления изменилась — ранее они определялись частными собственниками средств производства, теперь эта функция осуществляется обществом. Но их содержание осталось прежним — это эквивалентность количества труда и последующих распределения и потребления. Если ранее произведённый продукт поступал в собственность капиталиста, то теперь он поступает в распоряжение общества — «если… вещественные условия производства будут составлять коллективную собственность самих рабочих, то в результате получится также и распределение предметов потребления, отличное от современного» [5, т.19, с. 20].
Но это отличие только внешнее, по форме. Фактически же, повторим, их содержание осталось прежним — это эквивалентность количества труда и распределения и потребления. Однако что это, как не отношения, определяемые стоимостью? Хотя Маркс отрицает существование стоимости в общественно ведущемся производстве и заменяет эту категорию категорией количества труда (очевидно, что учёту подлежит и качество труда), но по существу это одно и то же — «как стоимости, товары суть простые сгустки человеческого труда» [5, т.23, с. 60]. Т.е., по сути, отношения распределения сохранились фактически в прежней форме — по количеству труда, по стоимости, а именно — в соответствии стоимости рабочей силы стоимости продуктов потребления. Только теперь стоимость должна быть представлена рабочим временем, а бывшие деньги — квитанциями. Форма изменилась, сущность осталась прежняя. С этим согласен и сам Маркс — «господствует тот же принцип, что и при обмене товарными эквивалентами» и потому «равное право здесь по принципу все еще является пра вом буржуазным» [5, т.19, с. 19].
Далее Маркс отмечает, что «принцип и практика здесь уже не противоречат друг другу, тогда как при товарообмене обмен эквивалентами существует лишь в среднем, а не в каждом отдельном случае» [5, т.19, с. 18]. Однако, непонятно, почему «принцип и практика не противо речат друг другу», лишь на том основании, что обмен эквивалентами теперь осуществляется в каждом акте обмена, а не в среднем, как прежде. Некоторое количественное изменение эквивалентности (раньше иногда — теперь всегда) никак не может повлиять на принцип отношений распределения и потребления, как на принцип эквивалентности, причём реализуемый посредством отношений обмена. Тем более, что и ранее, в капиталистическом производстве, имело место точное соотношение эквивалентов, хотя и случайным образом.
Что касается упомянутой Марксом практики, то эквивалентность должна соблюдаться посредством неких квитанций с указанием количества труда. Оставим в стороне тот факт, что непосредственное количественное и качественное определение меры труда до сих пор невозможно, предположим, что это осуществимо. Но даже в этом случае указанные квитанции по своей сущности выступают как 1. мера стоимости и 2. средство платежа, хотя бы только и в отношениях индивид-общество. Нетрудно увидеть, что в обществе, в котором существуют неравенство возможностей («Право производителей пропорционально доставляемому ими труду; равенство состоит в том, что измерение производится равной мерой — трудом. … Это равное право есть неравное право для неравного труда. …оно молчаливо признает неравную индивидуальную одаренность, а следовательно, и неравную работоспособность естественными привилегиями. Поэтому оно по своему содержанию есть право неравенства, как всякое право [5, т.19, с. 19]) и дефицит продуктов потребления квитанции очень скоро станут выполнять функции средства платежа также и в отношениях между индивидами, как следствие они станут средством обращения и средством накопления — но что это как не функции денег, от которых желали избавиться как от наследия частной собственности на средства производства.
Резюмируем. Итак, по Марксу:
Сущность переходного периода состоит в ликвидации частной собственности на средства производства и, как следствие, прекращении отношений обмена.
Экономическое содержание переходного периода определяется необходимостью преодоления товарного характера экономики, что диктуется ликвидацией отношений обмена, отсутствием стоимости и связанной с этим ликвидацией денег. Однако, при этом сохраняется эквивалентный обмен в сфере потребления (в особенной форме — под полным общественным контролем, поскольку трудовые квитанции выдаются «от общества») и, соответственно, точный учёт меры труда.
Такое решение вызывает ряд вопросов.
Во-первых, почему ликвидация частной собственности на средства производства автоматически (по Марксу) ведёт к прекращению отношений обмена? Ведь отношения обмена детерминируются вовсе не отношениями частной собственности, а совсем иными общественными отношениями — общественным разделением труда, каковое необходимо сохранится и в общественно ведущемся производстве. Отношения собственности определяют отношения производства, присвоения, распределения и последующего обмена только с одной стороны,— они персонифицируют последние, создают субъектов этих отношений — но самый обмен вызван к жизни разделением труда.
Следовательно, во-вторых, сохранится необходимость обмена и в сфере производства и, очевидно, этот обмен может быть только эквивалентным, чтобы сохранялась возможность возобновления циклов воспроизводства (с необходимостью сохранения обмена в сфере потребления согласен сам Маркс). Т.о. обмен (подчеркнём — эквивалентный обмен) сохраняется в переходном периоде и в сфере производства, и в сфере потребления по совершенно объективным обстоятельствам, диктуемым наличными материальными условиями производства и общественными отношениями.
Однако, в условиях общественно ведущегося производства (т.е. при наличии общественной собственности на средства производства) возникает совершенно новый общественный феномен — возникает принципиально новый тип отношений собственности и, т.о., коренным образом изменяются отношения не только производства, но и присвоения и распределения (причём в сфере присвоения и распределения отношения собственности — с точки зрения их сущности, их внутренней интенциональности — являются главным демиургом, здесь находится основная точка приложения их общественных сил). Соответственно, в отношении сфер производства, присвоения и распределения возникает необходимость в формировании совершенно новых общественных отношений (и их институтов) — отношений общественного производства, присвоения и распределения (в отличие от существовавших до сих пор отношений частного производства, присвоения и распределения). Но об этом сказано вскользь, мимоходом.
В-третьих, эквивалентный обмен императивно требует наличия всеобщего эквивалента обмена, учитывающего трудоёмкость объектов обмена, каковым исторически стала стоимость. Следовательно, эта экономическая категория сохранит своё значение и в условиях общественно ведущегося производства.
Итак, всё вместе свидетельствует в пользу того, что отношения обмена и сопутствующее им товарное производство объективно сохранятся и при общественно ведущемся производстве — в условиях общественной собственности. По крайней мере, до определённого уровня развития всего комплекса отношений производства, распределения и потребления. Какого уровня — это предмет для анализа.
Концепция Маркса, как видим, содержит внутреннее противоречие, но это не диалектическое, а формальное, причинно-следственное противоречие. По Марксу стоимость в условиях общественного производства исчезает, однако необходимость учёта рабочего времени, которое является «веществом» стоимости, её субстанцией, остаётся. Но и то, и другое есть разная форма выражения одной сути. Далее, обмен отрицается, но необходимость распределения и потребления в соответствии с неким эквивалентом остаётся. Но это также есть разная форма выражения одной сути. Другими словами, некие общественные отношения по форме признаются, а по существу отрицаются — но это есть антиномия, которая теоретически так и не разрешена.
Теперь обратимся к Ленину и его вкладу в развитие теории и практики (эта расстановка акцентов очень важна) рассматриваемых проблем.
Маркс не конкретизирует вопрос о субъекте прав собственности на средства производства в послекапиталистическом обществе, ограничиваясь указанием на абстракцию общества либо на ещё большую абстракцию «ассоциации индивидов». Как теоретик, действующий практически, Ленин развил абстрактное понятие об обществе как некоем аморфном владельце средств производства до понятия государства как объективного реального конкретного субъекта прав собственности, причём обосновывая этот вывод необходимостью выполнения государством и экономических, и правовых функций: «в первой своей фазе, на первой своей ступени коммунизм не может еще быть экономически вполне зрелым, вполне свободным от традиций или следов капитализма. …Буржуазное право по отношению к распределению продуктов потребления предполагает, конечно, неизбежно и буржуазное государство, ибо право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права. Выходит, что не только при коммунизме остается в течение известного времени буржуазное право, но даже и буржуазное государство — без буржуазии» [4, т.33, с. 99]; поскольку «других норм, кроме «буржуазного права», нет», то «постольку остается ещё необходимость в государстве, которое бы, охраняя общую собственность на средства производства, охраняло равенство труда и равенство дележа продукта» [4, т.33, с. 95].
Т.е. государство как субъект права собственности на средства производства обязано 1. активно осуществлять это право и, следовательно, реализовывать необходимые меры в отношении 2. организации производства и 3. распределения его продуктов. В этом пункте Ленин пошёл дальше Маркса — инициатором формирования новых общественных отношений производства, распределения и нормирования потребления становится конкретный субъект — государство и, соответственно, его институты. Т.о. в переходном периоде от капитализма к коммунизму значение государства как активно действующего субъекта существенно возрастает и это есть потенциально опасный источник «огосударствления» общества, подчинения общества бюрократическим институтам (что, кстати, и произошло в СССР).
Но теперь возникают вопросы — «как практически осуществить переход от старого, привычного и всем знакомого капитализма к новому, еще не родившемуся, не имеющему устойчивой базы, социализму — вот самая трудная задача. Этот переход займет много лет в лучшем случае. Внутри этого периода наша политика распадается на ряд еще более мелких переходов. И вся трудность задачи, которая ложится на нас, вся трудность политики и все искусство политики состоит в том, чтобы учесть своеобразные задачи каждого такого перехода» [4, т.40, с. 34].
В этой фразе Ленина важны все учтённые им моменты — необходимость реализации теоретических выводов в практических мероприятиях; длительность переходного периода; и потому поэтапное проведение перехода; учёт своеобразия каждого этапа. В этих выводах нет ничего экстраординарного, но как же трудно оказалось им следовать.
Практические меры, предлагаемые Лениным и следовавшие из теоретических постулатов марксизма, предусматривали на начальном этапе переходного периода жёсткий контроль со стороны и государства, и общества (вернее, его трудящейся части) и над трудом, и над распределением и потреблением: «социалисты требуют стро жайшего контроля со стороны общества и со стороны государства над мерой труда и мерой потребления» [4, т.33, с. 97]; «общественный труд при строжайшем учете, контроле и надзоре со стороны организованного авангарда, передовой части трудящихся; причем должны определяться и мера труда и его вознаграждение» [4, т.40, с. 34]; «учет и контроль — вот главное, что требуется для «налажения», для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества. Все граждане превра щаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные ра бочие. Все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного, государ ственного „синдиката“» [4, т.33, с. 101]; «если действительно все участвуют в управлении государством, тут уже капи тализму не удержаться» [4, т.33, с. 100].
Как видим, Ленин, определив государство как субъекта прав собственности на средства производства, не считает его исключительным институтом осуществления этих прав. Понимая опасность подчинения («поглощения») государством общества, он не столько дополняет, сколько противопоставляет государству (а по сути административному, бюрократическому слою управления) общественный институт в форме организованных трудящихся как императивное условие переходного периода. Другими словами — органы государственного управления должны находиться под постоянным контролем со стороны общества, жёсткая иерархическая структура государства должна контролироваться демократическим обществом (более того, в ленинских предложениях можно усмотреть намёк на инициирование процесса срастания государства и общества и последующую замену государства общественными институтами).
Но, т.о., возникают два несовместимых субъекта прав собственности, присвоения и распределения — вне- и над-общественный (административный, бюрократический) и общественный (гражданский) — и тем самым создаётся конфликтная ситуация, которая может разрешиться двояко: либо общество постепенно поглотит («растворит») государство — именно так и предполагали теоретические выводы марксизма; либо государство полностью подчинит общество — что и произошло на практике. Несмотря на всю свою важность, в теоретических положениях марксизма (тем более на практике) проблема общественного самоуправления (т.е., по сути, проблема формирования нового субъекта новых отношений собственности — общественных отношений) так и не была разрешена в течение всего периода существования советского общества, хуже того, после Ленина в качестве необходимого практического действия всерьёз и не ставилась.
(Тем не менее, следует особо подчеркнуть стремление Ленина привлечь к участию в контроле за государственным аппаратом общество в лице передового слоя трудящихся. Собственно, это и было попыткой создания новых общественных отношений, нового общественного субъекта и новых общественных институтов в сфере осуществления прав собственности, производства, присвоения и распределения общественного продукта, что не только возможно, но и необходимо в новых общественных условиях перехода к новой общественной формации. Это стало бы действительным коммунистическим действием. И это положение есть второе дополнение Ленина к теоретическим выводам Маркса).
В итоге, по мнению Ленина, «все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равен ством платы» [4, т.33, с. 101].
Многие приверженцы марксизма приводят эту фразу как доказательство того, что в экономическом плане социалистическое хозяйство в целом (общее) должно функционировать как отдельное производство (единичное) — т.е. без внутренних отношений товарно-стоимостного обмена. Нет ничего более неверного. Диалектическое саморазвитие реальности предполагает, что более высокий уровень развития снимает в себе предшествующий уровень, т.е. одновременно и отменяет его, и сохраняет. Сказанное означает, что на более высоком уровне сущностные черты предшествующего уровня сохраняются, но в новой, отличной от прежней, форме — если вспомнить Гегеля, то сохраняются как «видимость», а не реальность. Тем самым более высокий уровень обретает новые качества, не имевшиеся в исходном уровне, наполняется новым содержанием и обретает новые сущностные характеристики.
Применительно к экономике это означает, что на уровне экономики как общего возникают такие условия и формы взаимодействия её объектов и субъектов, которых нет на более низком уровне — уровне особенного и единичного, уровне отраслей и предприятий.(В современной науке этот феномен называется эмерджентностью — наличием у системы свойств, отсутствующих у составляющих её элементов и не выводимых из свойств этих элементов.) А потому «всё общество» никак не может стать «одной фабрикой», состоящей из множества отдельных «фабрик». Но этого диалектического момента никак не учитывают те «марксисты», которые бездумно цитируют Ленина и до сих пор полагают, что такая сложнейшая система как экономика в целом может действовать по принципам и правилам отдельного предприятия.
В отличие от подобных «марксистов» сам Ленин недвусмысленно заявляет — «эта «фабричная» дисциплина, …никоим образом не является ни идеалом нашим, ни нашей конечной целью, а только ступенькой» [4, т.33, с. 101] — т.е. преходящим этапом, моментом движения в целом, что необходимо предполагает его последующее снятие. Фраза Ленина об «одной фабрике» означает, и это следует из контекста, что речь идёт о повсеместном учёте и контроле за производством и распределением со стороны трудящихся, но никак не о распространении методов ведения хозяйства на отдельном предприятии на экономику в целом.
Подведём промежуточный итог теоретическим выводам Ленина (о его практических действиях речь пойдёт позже).
Начальный этап переходного периода от экономики частной собственности на средства производства к экономике, ведущейся на основе общественной собственности им видится как 1. этап жёсткого контроля за производством, распределением и потреблением. И контроль этот должен осуществляться одновременно и 2. государственными, и 3. общественными институтами. Т.о. существо переходного периода состоит в применении не-экономических и вне-экономических, т.е. волевых, административных, а не экономических мер. Использование собственно экономических институтов и инструментов не предусматривалось.
Однако, и это следует особо подчеркнуть, взгляды Ленина, представленные выше, были характерны до периода взятия власти большевиками (и ещё некоторое время после взятия), т.е. до момента, когда им пришлось непосредственно столкнуться с экономической реальностью, с практикой, которая опровергла многие умозрительные представления и заставила считаться с законами собственно экономики.
И началась эта практика немедленно со взятием власти большевиками, которые и попытались реализовать теоретические положения, о которых речь шла выше, в практических действиях в течение периода, получившего название «военного коммунизма» (1917–1920 гг.).
Исследуя этот период, разные авторы по-разному расставляют акценты, говоря об истоках и причинах названного исторического явления — одни ставят акцент на исторически сложившиеся объективные обстоятельства другие на идеологические, субъективные, установки большевиков. В действительности же имело место теснейшее переплетение и кумулятивное влияние друг на друга и объективных, и субъективных факторов. Послушаем, что говорит человек, видевший и исследовавший эти процессы изнутри, и делающий свои выводы не только с точки зрения потребностей момента, но и понимавший и политэкономическую составляющую, и историческую (более того — философскую) сущность происходящих процессов. «Было бы заблуждением видеть в этой системе только пролетарский аспект военно-государственной организации хозяйства… Так называемый «военный коммунизм» имел и иные, очень глубокие истоки. Существеннейшие нити идеологических влияний тянутся, как известно, на Запад. Другие нити тянутся в глубь нашей собственной истории, и им несомненно принадлежало очень важное значение» [9, с. 64].
«Стремление этой фазы революции национализировать все предприятия, уничтожить всякую частную собственность на орудия производства и даже на предметы потребления, некоторые ее тенденции в области политики распределения и т. д. не могут быть поняты без учета того обстоятельства, что усилившаяся во время мировой войны напряженность классовых противоречий дошла во время гражданской войны до величайшего ожесточения.
При наличии таких предпосылок нельзя было ожидать, что новая революционно-социалистическая власть захочет и сможет поставить только вопрос о мерах к постепенной социализации. Все толкало на путь радикальных решений и вело к коренному социальному переустройству (везде выделено нами.— А.П.)» [9, с. 66].
Л.Н. Юровский не углублялся в историческую ретроспективу и межклассовые отношения, поскольку это не входило в задачи его исследования. Не будем делать этого и мы, достаточно указания на историческую подоплёку, глубину и неоднозначность процессов, приведших к политике «военного коммунизма», перейдём к сути интересующих нас вопросов.
Как отмечает Л.Н. Юровский, «к осени 1917 г. в народном хозяйстве России имелось уже множество элементов, разрушавших систему товарно-денежного хозяйства и тем самым побуждавших строить и усложнять систему государственного регулирования… То, что происходило в годы войны и в месяцы Временного правительства в области регулирования народного хозяйства, …составляло первые звенья закономерного ряда. И этот ряд не был пересечен в эпоху военного коммунизма никакой другой линией, ибо хозяйственная и политическая обстановка укрепляла значение мероприятий по переустройству всей экономической системы.…Товарный рынок, денежный рынок и денежная система были глубоко деформированы к концу 1917 г. (выше выделено нами.— А.П.), …события 1917–1918 гг. продолжали разрушать их и …в таких условиях трудно было проводить план строительства социализма на основе товарного производства и денежного обмена» [9, с. 66].
Другими словами, вся предшествовавшая взятию власти большевиками историческая обстановка императивно заставляла продолжать ранее начатое движение — усиление государственного контроля за всеми аспектами экономики — на которое наложилось стремление (поистине большевистское) новой власти воплотить свои теоретические установки.
А потому «при деформации рынка, при разложении предприятий, при быстром обесценении денег,… линия на систему военного коммунизма представлялась даже линией наименьшего сопротивления. И наконец гражданская война… делала движение в сторону военного коммунизма все более неизбежным, а движение в иную сторону… все менее возможным. …Все вместе взятое создало ту хозяйственную систему, которая существовала в течение 1918 — 1920 гг. Эта система не была продуктом одних военных условий и иных стихийно действовавших сил. Она была также продуктом определенной идеологии, реализацией социально-политического замысла, построившего хозяйственную жизнь страны на совершенно новых началах» [9, с. 67].
Казалось бы, сама жизнь шла навстречу настроениям большевиков в их стремлении воплотить на практике теоретические положения, согласно которым можно от капиталистических отношений непосредственно перейти к отношениям, полностью определяемым государственной (но под контролем общества) формой собственности, отношениям бестоварным и безденежным.
В результате деятельности новой власти сформировалась политико-хозяйственная система, называемая «военным коммунизмом», основные принципы которой формулируются Л.Н. Юровским (кстати, задолго до последующих систематизаций другими исследователями) следующим образом:
• принадлежность всех средств производства государству;
• овладение всей рабочей силой посредством привлечения населения к трудовой повинности;
• производство всего необходимого государству на своих предприятиях;
• централизованное управление всем хозяйством по единому плану;
• государственное распределение всего произведённого — и средств производства, и предметов потребления;
• осуществление распределения в форме т.н. «пайка» — не столько необходимого, сколько возможного по тем обстоятельствам количества жизненных средств.
Не все из перечисленных принципов были, по мнению Л.Н. Юровского, проведены полностью и до конца. Так, огосударствление средств производства и овладение рабочей силой проводились наиболее энергично и решительно. Что касается централизованного управления по единому плану, то хотя сама централизация осуществлялась гораздо более решительно, чем ранее, но полная, а, главное, соответствующая реальности плановость так и не была достигнута.
Действительность весьма жёстко расставила всё по своим местам.
Несмотря на решительность проводимых мер «за пределами государственного хозяйства сохранялся разорванный на мельчайшие части и дезорганизованный нелегальный рынок, с которым соприкасались и государственные предприятия. Этот рынок играл еще крупную роль для населения» [9, с. 77].
В государственном же секторе «реализация на деньги продуктов производства государственных предприятий и их услуг и …сырья … постепенно теряла всякий смысл [см. также 1, с. 70]. Она противоречила основным принципам нового хозяйственного строя и утрачивала свое практическое значение» [9, с. 78]. Но чем больше государственные органы «проникались идеей о необходимости построения и проведения единого хозяйственного плана и создания системы полного учета всех запасов и всех вновь производившихся благ, тем больше практические затруднения, стоявшие на пути к осуществлению этой идеи, оказывались непреодолимыми» [9, с. 80].
Л.Н. Юровский выделяет три проблемы, возникшие в связи с попыткой упразднения денег и переходом к прямому продуктообмену, вследствие чего распределение регулировалось бы не спросом и предложением, а плановым порядком.
Первая проблема касалась метода распределения и она была решена так, что распределение осуществлялось по нормам («пайкам»), которые определялись не потребностями потребителей (предприятий и населения), а возможностями плановых органов, т.е. фактическим наличием ресурсов.
Вторая проблема заключалась в поиске метода учёта наличных ресурсов. Предполагалось решить эту задачу переходом к натуральному учёту.
Третья проблема состояла в необходимости найти замену стоимостного измерения результатов производственной деятельности другим принципом, который позволил бы адекватно оценивать хозяйственную деятельность предприятий.
Нетрудно видеть, что вторая и третья проблемы тесно соприкасаются, взаимозависимы и что они обе определяют, по сути, решение первой проблемы.
По свидетельству Л.Н. Юровского в академических и ведомственных кругах весьма активно шёл поиск методов хозяйствования в условиях ликвидации рынка и денежного обращения. И хотя было выдвинуто несколько концепций разного уровня соответствия реальности, приемлемого для практики решения найдено не было. Стало ясно, что «самая структура военно-коммунистической системы хозяйства задерживает восстановление производительных сил, и вопрос об изменении всей хозяйственной организации не мог не быть поставлен вслед за окончанием гражданской войны» [9, с. 131].
В огосударствлении экономики и попытке замены экономических методов ведения хозяйства прямым продуктообменом, тотальными плановостью и контролем, как признал Ленин, «мы зашли дальше, чем это теоретически и практически было необходимо» [4, т.43, с. 64]. В этой фразе знаменательно косвенное указание на теоретическую непрояснённость рассматриваемых проблем, что незамедлительно оказало влияние на практику. Необходимость изменения хозяйственной практики стала несомненной — был совершён переход к новому этапу, известному как «новая экономическая политика».
Основные принципы НЭПа сформировались не сразу. Ещё весной 1921 г. предполагалось, что только часть продукта крестьянских хозяйств государство будет изымать в форме налога, а оставшийся продукт будет обмениваться на продукты промышленности: «минимально необходимое (для армии и для рабочих) количество хлеба берем как налог, а остальное будем обменивать на продукты промышленности» [4, т.43, с. 220]; «продналог есть переход от военного коммунизма к правильному социалистическому продуктообмену» [4, т.43, с. 243]. Т.о. имелось ввиду организовать непосредственный товарообмен между городом и деревней.
Однако, отсутствие эквивалентных количеств продуктов города и деревни и несоответствие спроса и предложения между ними внесли существеннейшие коррективы в принципы хозяйственной политики.
Реальность показала, что «товарообмен мог быть лишь переходной мерой к купле-продаже. Уже на первых этапах проведения товарообмена обнаружилось, что он сильно стесняет развертывание государственного и кооперативного товарооборота… Разрешение свободного обмена привело к развитию частной торговли… Организованный через кооперацию товарообмен вступил в борьбу с частным рынком, с куплей-продажей. В этой борьбе преимущества оказались на стороне купли-продажи» [1, с. 76].
Практика опровергла теорию и уже через полгода — осенью 1921 г.— Ленин поставил вопрос совсем по-другому: «Два периода… выделяются совершенно явственно. С одной стороны, период приблизительно с начала 1918 г. до весны 1921 г. и с другой — тот период, в котором мы находимся с весны 1921 года» [4, т.44, с. 197]; «верно ли, что мы весной 1921 г. говорили о товарообмене? Конечно, верно… Верно ли, что товарообмен, как система, оказался несоответствую щим действительности, которая преподнесла нам вместо товарообмена денежное об ращение, куплю-продажу за деньги? Это тоже несомненно…»[4, т.44, с. 214].
А потому «мы от государственного капитализма переходим к государственному регулированию купли-продажи и денежного обращения» [4, т.44, с. 207], «нам нужно встать на почву наличных капиталистических отношений» [4, т.44, с. 210], «мы ви дим, что стало на очередь регулирование торговли и денежного обращения» [4, т.44, с. 212].
Жёсткая императивность реальности заставила вернуться к экономическим методам хозяйствования и переходу от так и не состоявшегося непосредственного товарообмена к эквивалентному товарообмену, основанному на мере стоимости и посредством товарно-денежных (следует иметь ввиду, что выражение «товарно-денежные отношения» по существу тождественно выражению «товарно-стоимостные отношения) отношений, детерминируемых отношениями спроса и предложения.
Эти практические выводы есть результат осмысления действительности и последующие решения, несомненно, можно считать теоретическим вкладом Ленина в развитие концепции переходного периода, даже если это и не оформлено отдельными статьями.
В результате, по свидетельству Л.Н. Юровского, «в течение сравнительно короткого промежутка времени в области государственного хозяйственного строительства совершился глубочайший перелом. … Признание рынка изменило всю структуру государственного хозяйства. Продукты стали вновь товарами, независимо от того, кто их производил. Производство и распределение товаров стало вновь подчиняться законам обмена. Категория цены, которую в предшествующий период стремились заменить какой-либо иной категорией, опять вступила в свои права. Товарный оборот по мере его развития должен был снова сопровождаться денежным оборотом, или, другими словами, денежный оборот должен был снова сделаться коррелатом товарного оборота. Товарное хозяйство становилось денежным хозяйством» [9, с. 132], «вопрос о переходе не только к товарному, но к товарно-денежному хозяйству был, таким образом, решен. Денежный расчет победил по всей линии хозяйственных отношений» [9, с. 138], «период идеологии безденежного хозяйства был закончен, и с этого момента во всех резолюциях и актах как партийных, так и высших советских органов проводится все более определенно и настойчиво мысль о необходимости упорядочить систему денежного обращения. …Распространить принцип платности продуктов и услуг на все государственное хозяйство» [9, с. 140].
Подведём промежуточный итог.
Попытка, основанная на абстрактных теоретических установках, перейти в условиях гражданской войны и всеобщего упадка хозяйства от капиталистических общественных отношений к социалистическим непосредственно — т.е. минуя ряд переходных промежуточных этапов, в ходе которых буржуазные экономические институты, основанные на частной собственности на средства производства, постепенно заменялись бы институтами социалистическими, основанными на государственной собственности — не удалась по совершенно объективным причинам, зависящим от законов общественного развития, в первую очередь экономических законов. Более того, анализ реальности показывает, что подобный непосредственный переход не удался бы и в гораздо более благоприятных условиях общественного спокойствия и целостности хозяйства, разве что период волевых решений вопреки законам экономики затянулся бы на большее время, но с тем же результатом.
В этом вопросе — вопросе перехода от капиталистических общественных отношений к коммунистическим — теоретическое решение, сформулированное марксизмом в самом общем, абстрактном виде, оказалось опровергнуто суровой практикой. Этот весьма убедительный критерий не подтвердил истинности положений о необходимости в переходном периоде ликвидации феномена стоимости, товарно-денежных отношений и обмена на основании спроса и предложения.
Следовательно, проблема осталась и её необходимо решать. Попробуем ответить на заданный вопрос, основываясь на выводах Л.Н. Юровского, сделанных им на основе анализа чрезвычайно противоречивых, буквально кипящих, процессов переплетения капиталистических и социалистических отношений и методов ведения хозяйства. При этом будем помнить, что Л.Н. Юровский действовал как учёный, полностью погружённый в практику — он делал свои теоретические выводы, анализируя реальные процессы, находясь внутри них и имея в руках богатейший статистический материал.
Основополагающим принципом, детерминирующим всю экономическую реальность, Л.Н. Юровский полагает принцип равновесия, и с этим трудно спорить. В самом широком смысле речь идёт о равновесии производства и потребления, т.е. о равновесии материальной жизни общества в целом, что позволяет достичь наибольшего эффекта в удовлетворении потребностей общества; в узком смысле — о равновесии спроса и предложения — «Стремление к равновесию образует принцип всякой организации хозяйства. Это утверждение есть результат наблюдения над многообразными сменяющими друг друга хозяйственными формами… С этой точки зрения мы и подходим к описанию советской хозяйственной системы» [9, с. 327].
К своим заключениям Л.Н. Юровский приходит на основании 1. непосредственного анализа тенденций советской хозяйственной системы и 2. компаративистского анализа принципов социалистического и капиталистического хозяйства. Причём каждый его вывод обосновывается обращением к реальным хозяйственным процессам и потому доказателен и убедителен.
Чтобы избежать пространного цитирования изложим выводы Л.Н. Юровского, некоторые из которых даны им в форме гипотез, в концентрированном виде:
• товарно-денежное хозяйство может существовать в различных видах;
• социалистическое хозяйство также может существовать в различных видах;
• товарно-капиталистическое хозяйство не является последней формой товарного хозяйства, за ней следует поставить товарно-социалистическую форму хозяйства;
• товарно-социалистическое хозяйство есть особенная форма товарно-денежного хозяйства, поскольку равновесие в нём достигается как равновесие товарно-денежного хозяйства, но в условиях государственной собственности на средства производства и при политической власти, действующей в интересах трудящихся классов;
• товарно-социалистическое хозяйство есть система планового хозяйства, основанного на стоимостном принципе;
• стоимостный принцип не вытесняется, но его действие проявляется в особенной форме в условиях товарно-социалистического хозяйства; критерием хозяйственной целесообразности выступает закон стоимости и соответствующее ему ценообразование;
• для товарно-социалистической системы остаётся обязательным:
равновесие между спросом и предложением на рынке и соответствующее образование или установление цен;
соответствие цен издержкам производства;
• средства производства и предметы потребления распределяются посредством рынка и механизма цен;
• в советском хозяйстве огромную роль играют монополии и квази-монополии, которые действуют по плановым заданиям государства, но метод реализации плана есть метод товарно-денежного хозяйства, действующего посредством рынка. (В этом пункте, столкновении плана и рынка, просматривается неустранимое, казалось бы, противоречие — план предполагает отсутствие игры спроса-предложения, а рынок основан на ней. Из контекста работы Л.Н. Юровского следует, что социалистические товарно-денежные отношения реализуются в особенной форме — необходимость эквивалентного обмена (по стоимости) и учёта издержек производства и прибыли сохраняются, но при государственном регулировании этих отношений, устраняющем случайные рыночные силы — «Советское государство в качестве монополиста может… вести политику высоких цен… То же относится к возможной… политике низких цен… Одного только оно не может: уйти из сферы действия „закона ценности“»[9, с. 381].
• в советской хозяйственной системе решающую роль имеет регулирование хозяйственной жизни — государство регламентирует всю хозяйственную жизнь, но все планы реализуются в обстановке товарно-денежного хозяйства; однако, регулирование осуществляется, в отличие от капиталистического хозяйства, не посредством манипулирования прибылью (sic!), а предписанием предприятиям (отраслям) осуществить те хозяйственные действия, которые предусмотрены планом и признаны государством целесообразными;
• существенной особенностью товарно-социалистической формы хозяйства является новая властная и классовая структура государства, политика которого осуществляется в интересах трудящихся классов, небывалая концентрация средств производства и вытекающая из этого плановое управление хозяйством — и это принципиальнейшие отличия от капиталистической системы хозяйства.
Имеет смысл сделать ещё небольшую ремарку по поводу одной фразы Л.Н. Юровского, а именно, следующей — «концентрация средств производства в руках одного распределителя заставляет или позволяет проводить в качестве внутри хозяйственных такие операции, которые иначе проходили бы в качестве межхозяйственных, т. е. рыночных…»[9, с. 332].
На первый взгляд данное, по сути совершенно верное, заявление свидетельствует в пользу того, что Л.Н. Юровский, отстаивающий точку зрения на социалистическое хозяйство как на особенную форму товарно-денежного хозяйства, тем не менее, солидарен с возможностью превращения всего хозяйственного организма страны в «одну фабрику», о чём уже упоминалось выше.
Однако, по нашему мнению, для такого поверхностного вывода нет оснований. Сам Л.Н. Юровский недвусмысленно говорит — «образуя по своей социальной структуре систему совершенно новую, советская организация хозяйства как система товарно-денежная сохраняет закономерности ценообразования в качестве основного регулирующего фактора в хозяйстве. …Ей необходимо соблюдение соответствия между денежными издержками производства и ценами, а также между денежным предложением и денежным спросом. То обстоятельство, что она есть хозяйственная система пролетарского государства, заставляет ее, а то обстоятельство, что в распоряжении государства сосредоточены основные производительные силы страны, позволяет ей ставить такие задачи, которые чужды капиталистическому обществу, и разрешать их при помощи регламентирования хозяйственной жизни гораздо более частого и глубокого, нежели происходящее где-либо в другом месте. …Но во всяком случае регламентирование это совершается в условиях товарно-денежного хозяйства и состоит из мероприятий по регулированию товарно-денежного хозяйства, а не из действий, направленных к его преодолению» [9, с. 335].
Т.е. «внутрихозяйственность» состоит в том, что государство имеет возможность влиять на все хозяйственные отношения посредством планирования и использования в рамках плана регулируемых товарно-денежных отношений, а не в том, что хозяйствующие субъекты действуют как подразделения одной фабрики в условиях отсутствия товарно-денежных отношений. Тем более, что «рынок… сохраняется в качестве критерия и регулятора, пока на нем реализуются все предметы потребления, ибо всякий продукт в конце концов переходит в предметы потребления и ради этого производится. Не говоря уже о том, что рынок сохраняется… еще и потому, что за пределами государственного сектора остаются миллионы хозяйств и что даже устранение рыночных связей государственных предприятий между собой едва ли может пойти далеко в рамках товарно-социалистического хозяйства» [9, с. 385].
В свете аналитических выводов Л.Н. Юровского и современного видения процессов того времени совсем по-иному предстаёт «новая экономическая политика» — НЭП представлял собой не только переход от «штурма» к «осаде», не просто «отступление», а, по сути, гораздо более глубокое не только политэкономическое, но и философское деяние — это учёт познанной (пусть даже не полностью и не до конца, поверхностно) необходимости.
Здесь не обойтись без краткой ремарки. Речь идёт о т.н. «сталинской» индустриализации, при которой «новая экономическая политика» была свёрнута, что очень часто представляют как необоснованный волюнтаризм. Критики делают вид, что не замечают разности целей НЭПа и периода индустриализации. Первая цель заключалась в необходимости преодолеть разруху и восстановить полноценную хозяйственную деятельность, что и было сделано путём допущения в экономику капиталистических элементов и методов. Вторая цель состояла в необходимости за кратчайший исторический срок создать любой ценой современную индустриальную экономику. В этом периоде были сформированы и опробованы на практике, причём весьма успешно, новые, социалистические методы ведения экономической деятельности (Подчеркнём — именно экономической деятельности, т.е. учитывающей товарно-денежные отношения. С этой стороны убедительным свидетельством служит монография) [1], при которых частное подчинено целому — план и государственное регулирование. Это и есть тот подход, который Ленин обозначил как поэтапное движение и учёт своеобразия каждого этапа. Другое дело, что и мобилизационную экономику первоначального этапа построения социалистического общества должны были сменить новые экономические подходы, соответствующие новым этапам общественного развития.
Основываясь на анализе Л.Н. Юровского сделаем генерализованное обобщение:
Следующая за товарно-капиталистической системой хозяйства есть товарно-социалистическая система.
В процессе её развития собственно экономические отношения — товарно-денежные отношения, основанные на законе стоимости — не преодолеваются (не вытесняются), а развиваются в новой форме — форме регулирования товарно-денежных отношений посредством и плана, и рынка, регулируемого социалистическим (это императив!) государством.
Эта гипотеза Л.Н. Юровского, основанная на эмпирическом наблюдении, есть обобщение не только политэкономического, но и мировоззренческого уровня.
Согласно ей сущность переходного периода — от капитализма к коммунизму — состоит в предварительном переходе от товарно-капиталистического хозяйства к товарно-социалистическому хозяйству.
Но далее этого вывода Л.Н. Юровский не идёт. Он не исследует процесса функционирования товарно-социалистического хозяйства и не ставит вопроса о пределе его развития, при котором товарно-стоимостные отношения доводятся до своего естественного завершения — т.е. о возможности и форме снятия товарно-денежных отношений в новых, уже собственно коммунистических, общественных отношениях — бестоварных и безденежных.
Поскольку одной догадки, основанной на эмпирическом наблюдении, явно недостаточно, то необходимо вывести следствия, исходя из сущности переходных процессов, их внутренней закономерности. Следует определить условия снятия, «исчезания», отношений собственности, феномена стоимости, товара, рынка.
Прежде, чем идти дальше, скажем коротко о сущности и пределе капиталистического общественного отношения.
Капитал, пройдя в своём саморазвитии ряд форм (каждая из которых снимает в себе предыдущую) — частный, акционерный, монополистический — достиг, в полном соответствии со своей внутренней логикой, завершающей формы — финансового капитала: «…будучи снятой в своей всеобщей абстрактной форме, в форме денег, стоимость полностью отрывается от своего материального основания, товара и начинает вести совершенно самостоятельное существование в форме финансового капитала. И это уже предел развития стоимостной формы и, следовательно, предел капитала как такового.
Т.о., финансовый капитал, полностью оторвавшись от материального основания в виде производственного капитала, достиг предела развития капитала как такового вообще. Финансовый капитал есть высшая форма капитала, его завершение, его понятие, его истина. Это последняя форма капитала и, следовательно, капиталистического (Напомним: сущность капиталистического общественного отношения — производство и присвоение прибавочной стоимости.) общественного отношения» [6, с. 413].
Поскольку феномен стоимости и стоимостные отношения (а тем самым и отношения обмена) достигли своего предела, постольку они вплотную подошли к необходимости их преодоления, снятия и, очевидно, что новый этап общественного развития — товарно-социалистические отношения — есть этап полной подготовки этого действия.
Т.о., содержанием социалистического этапа действительного коммунистического движения является подготовка к полному снятию капиталистических общественных отношений путём развития их в новых, социалистических формах.
Некоторые из этих форм указаны Л.Н. Юровским — 1. власть, действующая в интересах трудящихся классов, государственная собственность, 2. высочайшая концентрация средств производства в руках государства, 3. планирование, приспособление (а также использование!) товарно-денежных отношений к социалистическому типу хозяйства и — это уже наш вывод — 4. доведение их до своего предела. Добавим к этому собственно социалистическую составляющую, на которой делал акцент Ленин — 5. участие трудящихся в контроле за производством и распределением, а в перспективе и 6. движение к полному общественному самоуправлению (снятию государства). Последнее означает, что на этапе социалистического строительства формируются не только новые общественные отношения, но и новый человек, без чего невозможно, собственно, движение к новому обществу.
Рассмотрим последовательно ход развития капиталистических элементов в социалистических формах.
Если говорить об отношениях собственности, то они не могут исчезнуть в одночасье с отменой частной собственности — отношения собственности необходимо будут сохраняться в течение довольно длительного времени в новой форме — как государственной собственности. Собственник должен быть конкретизирован (персонализирован) и никакого иного агента, выполняющего функцию собственника от имени всего общества, кроме государства поначалу быть не может. Мы не упоминаем частной и групповой (коллективной) форм собственности, поскольку в исследуемом периоде они будут играть подчинённую государственной собственности роль.
Т.о. сущность отношений собственности как отношений, определяющих отношения производства, присвоения и распределения не изменяется. Но существенно меняется модус этих отношений — государство, действуя от имени всего общества, действует в интересах общества в целом. Только на этом основании появляется возможность следовать необходимости — овладению отношениями собственности всем обществом. И это возможно только на пути истинной, а не показной, демократизации всех общественных отношений, причём демократизации по существу — сначала участия самих трудящихся в контроле, а затем и прямом управлении всеми аспектами своей жизнедеятельности.
Это положение следует пояснить более подробно.
На социалистическом этапе общественного развития противоречие между собственником средств производства (государством) и непосредственными производителями (трудящимися) сохраняется. Но оно меняет не только форму — вместо собственников капитала выступает государство, но и сущность — социалистическое государство действует (по крайней мере, должно действовать) в интересах трудящихся, а не класса собственников. Отметим, что, поскольку в этих условиях от имени государства права собственности осуществляет особый слой государственного управления — можно даже сказать, что это класс управления — то на протяжении всего периода нахождения этого особого класса у власти, тем более его бесконтрольности со стороны народа, сохраняется возможность возврата к предшествующим отношениям собственности, что, к сожалению, и произошло в СССР.
Разрешение (снятие) противоречия возможно в момент наивысшего напряжения между его сторонами. Поскольку в нашем случае это государство и общество, то сказанное означает, что конфронтация между ними достигает высшей точки. Но такая конфронтация возможна только в том случае, если собственник (государство) пренебрегает интересами другой стороны, а это значит, что государство не контролируется обществом. При неразвитости общественных институтов, что и имело место в СССР, класс управления имеет существенное преимущество в разрешении общественного конфликта в свою пользу, что и не преминет сделать. Следовательно, этот путь развития и разрешения противоречия, определяемого отношениями собственности, чреват общественными потрясениями и не может быть признан соответствующим социалистическому пути движения общества.
Остаётся другой путь — путь сближения сторон противоречия вплоть до их исчезания, «растворения» друг в друге. И это возможно единственным способом — постановкой, вначале, класса управления под контроль со стороны трудящихся и затем, в ходе социалистического движения, всесторонним развитием общественных институтов, постепенным «врастанием» их в аппарат государственного управления и, наконец, переходом к полному общественному самоуправлению. В этом случае на завершающем этапе стороны отношений собственности (т.е. стороны противоречия) представляют, с одной стороны, трудящихся в лице общественных институтов самоуправления, осуществляющих права собственности (субъект отношений собственности), и, с другой стороны, трудящихся же как непосредственных производителей (объект отношений собственности), объект, поскольку собственник определяет порядок использования рабочей силы — т.е., по сути, стороны противоречия являются одним и тем же — противоречие и, как следствие, отношения собственности, исчезают. Это и будет пределом их развития.
Как видим, на завершающем этапе демократизации общества и снятия («растворения») государства в общественных институтах отношения государственной формы собственности снимаются и предстают в новой форме — как отношения действительно общественной собственности (Развитие общественных форм самоуправления и снятие государства есть совершенно необходимый процесс переходного периода, поскольку государство как собственник во всеобщей форме в полном соответствии с сохраняющимися от капитализма отношениями товарно-стоимостного обмена объективно будет вынуждаться ими действовать как всеобщий капиталист, даже несмотря на декларирование своей всенародной сути. К каким последствиям это может привести можно видеть на примере СССР.), отождествляющие в этом отношении всех членов общества.(По этому же пути следует направить и другие формы собственности — частно-групповую и частно-индивидуальную.) По сути это отношения, в которых сливаются общее, особенное и единичное — собственниками являются и общество в целом, и каждый коллектив, и каждый индивид. Т.о. отношения собственности превращаются в «видимость» (Гегель), это уже не правовые, а сугубо технические отношения. Но окончательное «исчезание» отношений собственности возможно только с полным выходом человека из собственно производства — только тогда будет отсутствовать даже формальное основание для их возникновения.
Вместе с отношениями собственности будут эволюционировать и отношения распределения (следовательно, и потребления). Декларируемое марксизмом распределение «по труду» это не благое пожелание его приверженцев, а необходимое следствие из сущности отношений собственности — продукт принадлежит собственнику средств производства. Собственник — государство, действующее от имени всего общества (или общество) — должно и распределять в соответствии с трудовым участием каждого члена общества. (В этом распределении все равны как участники трудового процесса, но не равны по получаемому продукту — социалистическое распределение есть ещё неравномерное распределение — по затратам труда, а не по потребностям.) Вместе с «исчезанием» отношений собственности «исчезнут» и отношения распределения «по труду», они будут сняты в новой форме — в распределении по потребности. (При этом императивным условием является соответствие возможностей потребностям, но это другая тема.)
Рассмотрим последнее положение более подробно. В сфере индивидуального распределения и потребления действуют два разнородных принципа. Первый принцип социалистический — распределение «по труду», а не по размеру собственности. Второй принцип капиталистический — распределение по эквивалентам стоимости (стоимость рабочей силы на стоимость предметов потребления). Оба принципа совместно и определяют в переходном периоде характер отношений обмена между собственником средств производства, государством (или обществом при «исчезании» государства) и собственниками рабочей силы.
Следовательно, речь идёт о доведении до предела указанного противоречия. Это может быть достигнуто двумя путями. Во-первых, собственник в лице государства (или общества) может до такой степени развить производительные силы в форме полной автоматизации производства, что вытеснит людей из сферы производства и, как следствие, из сферы их взаимного обмена, что элиминирует саму возможность отношений распределения (но не отношений потребления!).
С другой стороны, увеличившиеся производительные силы смогут произвести такое количество продуктов потребления, что полное обеспечение жизнедеятельности людей будет возможно без эквивалентного обмена, т.е. по потребностям. Оба пути предполагают выход человека из производства как его объекта, как технологического дополнения к орудиям труда. (Это и есть, по сути, «уничтожение труда», о котором упоминал Маркс. Однако, только сейчас стали просматриваться контуры тех производительных сил в виде полной автоматизации производства, которые позволят человеку полностью преодолеть отчуждение от своей сущности и перейти к свободному саморазвитию и творческой деятельности во всех сферах жизни.)
Для выполнения обоих условий необходимо не только высочайшее развитие науки, техники и технологий, но, главным образом, формирование в переходном периоде нового человека — активного человека высокой культуры, не потребителя, а созидателя, способного к творческой жизни в новых общественных условиях. Поскольку с полной автоматизацией производства человек выходит из него как предмет, как объект производства, как технологически необходимый элемент, то возникает возможность преодоления отчуждения человека от своей деятельности и полного её присвоения в форме свободного творческого осуществления деятельности.
Проследим эволюцию товарно-стоимостных (товарно-денежных) отношений. В условиях капиталистических общественных отношений производство ведётся ради цели собственно капитала — производства и присвоения прибавочной стоимости, прибыли.
Но прибыль не может быть целью социалистического способа производства. Цель социалистического этапа — преобразование капиталистических отношений в новые, социалистические и подготовка к возможности достижения цели всего коммунистического движения — полного освобождения человека от всех форм отчуждения.
Следовательно, на этом этапе осуществляется изменение наследуемых капиталистических форм ведения хозяйства в социалистические формы (поскольку нас интересует экономическая составляющая способа производства, то от всех иных форм общественных отношений мы абстрагируемся). Т.к. в центр всей деятельности и государства, и общества ставится человек, то прибыль как превращённая форма стоимости, доминирующая в капиталистическом способе хозяйства, не может быть определяющим фактором социалистического производства. На первый план выходит иная сторона продукта производства — потребительная стоимость, т.е. продукт в материальной форме. Следовательно, весь хозяйственный организм социалистического производства должен быть настроен на производство прибавочного продукта, а не прибавочной стоимости в её превращённой форме — прибыли. Как следствие, производительная деятельность должна быть направлена не на увеличение прибыли (по сути, стоимости), а на снижение затрат (т.е. снижение, экономию стоимости) и увеличение производительности труда.
Т.о. товарно-денежные отношения, сохраняющиеся в товарно-социалистическом хозяйстве, должны осуществляться в новых формах, соответствующих новым общественным отношениям (план, регулирование, производство прибавочного продукта, а не прибавочной стоимости) и развиться до своего предела, с достижением которого произойдёт их снятие, «исчезание».
В каких же формах товарно-социалистическое хозяйство должно развиваться и каков предел товарно-денежным отношениям?
Как уже говорилось, для государственной формы собственности характерны высокая монополизация и концентрация производства, что уже имманентно предполагает плановость хозяйства, но с одним существенным ограничением (мы о нём уже упоминали) — «советское государство в качестве монополиста может… вести политику высоких цен… То же относится к возможной… политике низких цен… Одного только оно не может: уйти из сферы действия «закона ценности"».
Т.о. внутри государственного сектора действуют монополистические принципы установления равновесия хозяйства, но это монополизм государства, действующего в интересах всего общества. С одной стороны, обмен внутри государственного сектора осуществляется в силу разделения труда как плановый обмен (по сути, это непосредственное распределение), т.е. имеет не рыночный, не обусловленный соотношением спроса и предложения характер. Но, с другой стороны, этот плановый обмен производится с учётом произведённой стоимости, что осуществляется в товарно-денежной форме и учётом соотношения спроса-предложения — а это уже рыночный принцип. Эти противоречивые условия есть условия императивные, диктуемые необходимостью возобновления воспроизводства и установления равновесия хозяйства, что невозможно без компенсации издержек производства и фиксирования прибыли, соответствующей произведённому прибавочному продукту, и что должно осуществляться по какому-то единому критерию, т.е. по стоимости. Противоречие между принципом плановости и принципом спроса-предложения разрешается монополистом-государством посредством регулирования цен таким образом, чтобы поддерживалось равновесие между производством и потреблением, спросом и предложением.
Анализ показал, что внутри социалистического государственного сектора одновременно сосуществуют два антагонистичных типа хозяйства: нерыночное социалистическое плановое производство и распределение, и рыночный (по стоимости) товарно-денежный обмен и ценообразование. Но это не товарно-денежный обмен капиталистического типа, целью которого является максимизация прибыли, а товарообмен, в котором деньги являются своеобразной формой учёта производственных затрат, без чего (учёта) невозможно соблюдение равновесия экономики. Целью собственно производства является производство продукта в материальной форме (потребительной стоимости), приоритет отдаётся прибавочному продукту, а не прибавочной стоимости, прибыли. Тем самым товарно-социалистическое хозяйство образует особенную товарно-денежную форму экономики переходного типа. (Возможен ли внутри государственного сектора рыночный обмен вне плана, определяемый только соотношением спроса и предложения? Разумеется, план не догма и для сверх- и внеплановой продукции это вполне допустимо, более того, необходимо при неразвитости плановых институтов. Но по мере обобществления хозяйства и демократизации общества («устранения» государства) это положение должно быть преодолено.)
Как видим, при наличии государственной власти, действующей в интересах всего общества (это критически важно), государственная собственность на средства производства и плановый характер установления равновесия хозяйства с учётом фактора стоимости и регулируемого ценообразования, ориентирующегося на соотношение спроса-предложения, представляют форму товарно-социалистического хозяйства переходного типа.
Предел этой формы достигается при: 1. снятии («исчезании») отношений собственности как таковых; 2. демократизации общества, приближении к полному общественному самоуправлению; 3. установлении полной плановости хозяйства; 4. переходе от товарно-денежного обмена к прямому обмену между предприятиями, что предполагает и другую форму учёта издержек производства, например, затраченным временем на производство продукции; 5. увеличении производительности и, как следствие 6. переходе от распределения «по труду» (в сфере индивидуального потребления) к распределению по потребностям; 7. формировании нового человека, соответствующего новым общественным отношениям.
Подведём итоги.
Итак, наличие товарно-стоимостных отношений при социализме детерминируется:
• разделением труда и потому относительной обособленностью отраслей и предприятий;
• как следствие, необходимостью обмена между ними;
• необходимостью поддержания равновесия между потребностями и возможностями, или, что то же, между производством и потреблением, спросом и предложением; (В свете диалектики необходимости и случайности два типа хозяйства предстают в следующем виде: плановое хозяйство устанавливает равновесие общего (экономики) посредством необходимости (плана), рыночное хозяйство устанавливает равновесие общего посредством случайности (спроса-предложения).)
• а потому необходимостью эквивалентного возмещения затрат с целью возобновления воспроизводства, что предполагает необходимость учёта издержек производства и, следовательно, обмен и ценообразование с учётом стоимости;
• необходимостью возмещения по стоимости рабочей силы;
• недостатком ресурсов в сфере потребления (как производственного, так и индивидуального).
Как видим, наличие разных форм собственности (государственная, коллективная, частная и т.д.) не является главной причиной сохранения товарно-стоимостных отношений в переходном периоде, это сопутствующий фактор. Даже при наличии исключительно государственной формы собственности товарно-стоимостные отношения сохраняются на весь переходный период.
Социалистический способ производства переходного периода имеет особенные формы:
• в политической сфере — власть действует от имени и в интересах всего общества (это императивное условие);
• в социальной сфере — осуществляется подготовка к ликвидации отношений собственности посредством постепенной полной демократизации институтов государственного управления и доведения этого процесса до возможности снятия государства и перехода к полному общественному самоуправлению;
• в экономической сфере:
• сохраняются товарно-стоимостные отношения в особенной форме товарно-социалистического способа производства, при котором:
• закон стоимости действует в относительной чистоте на основе точного учёта затрат;
• ценообразование осуществляется по стоимости, но регулируется государством с учётом спроса-предложения;
• производство, распределение и обмен осуществляются в плановом порядке (разумеется, преимущественно в плановом секторе).
Однако, следует иметь ввиду, что вследствие отсутствия внешнего давления (конкуренции) на производство в государственном секторе ослаблены стимулы:
• по снижению себестоимости;
• по повышению производительности труда;
• по повышению качества продукции;
• по внедрению инновационных продуктов;
• по созданию технически новых производств.
Эти негативные факторы должны быть преодолены социальными и экономическими методами, говорить о которых здесь не место.
Сделаем обобщающее заключение.
Целью социалистического этапа действительного коммунистического движения является создание предпосылок для возможности последующего освобождения человека от всех форм отчуждения и, прежде всего, от отчуждения его сущности как свободно действующей личности.
Сущностью переходного периода (от капиталистических к коммунистическим общественным отношениям) является подготовка к полному снятию капиталистических экономических и иных общественных отношений путём развития их в новых, социалистических формах.
Экономическое содержание переходного периода заключается в развитии и доведении до своего предела товарно-стоимостных отношений с целью их последующего снятия в бестоварных и безденежных отношениях.
Социально-политическое содержание переходного периода состоит в неуклонном развитии общественных институтов и постепенном переходе от государственной формы управления к общественной форме самоуправления и формировании человека, соответствующего новым общественным отношениям.
Т.о. товарно-социалистический способ производства жизнедеятельности есть последний экономический, т.е. товарно-стоимостный (товарно-денежный) способ производства, который подготавливает полное снятие («исчезание») отношений собственности и товарно-стоимостных отношений путём их развития в социалистических формах и доведения до своего предела — экономизм подводится к завершению экономическими же методами, действующими в новых формах. («…Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества»[5, т.13, с. 7].)
Можно сказать, вопреки тому, что ранее мы согласились с Л.Н. Юровским в том, что в товарно-социалистическом способе производства товарно-стоимостные отношения не преодолеваются, а развиваются в новых, социалистических формах, что они всё-таки, в конце концов, преодолеваются, но особенным образом — путём доведения их до завершения, до предела, за которым неизбежно их снятие, преодоление. А потому товарно-социалистический способ производства есть принципиально новый вид жизнедеятельности — не только направляемый к определённой цели, но и управляемый, проводимый по определённому плану и поэтапно.
В советское время взгляды Л.Н. Юровского в той или иной мере разделялись и поддерживались многими учёными, работавшими над политэ-кономическими проблемами, хотя, что удивительно, и без упоминания его имени. Весьма интересны, например, дискуссии, развернувшиеся в ходе научного совещания по вопросу о законе стоимости и его использовании в народном хозяйстве СССР, проведённого в мае 1957 г. Институтом экономики АН СССР»[3].
Однако, что характерно, несмотря на то, что большинство выступавших соглашались с тем, что товарно-стоимостные отношения сохраняются на социалистическом этапе движения, никто из них не поставил вопроса о необходимости выделения этого этапа как особенного этапа действительного коммунистического движения, в котором указанные отношения должны быть сознательно доведены до естественного предела и, соответственно, последующего преодоления. Не ставился так вопрос и впоследствии — дело ограничивалось только констатацией наличия товарно-стоимостных отношений и необходимости их использования, но не более того.
Можно, впрочем, указать на одно исключение. Так, Я.А. Кронрод полагал, что поскольку «товарное производство имманентно (выделено нами.— А.П.) социалистическим производственным отношениям»» [3, с. 142], то «о нём и следует говорить не просто как об исторически особенном типе товарного производства, но и как товарном производстве особого рода»» [3, с. 148].
Однако, особенность товарно-социалистического производства, по Кронроду, состояла только в том, что «оно базируется на общественной социалистической собственности» [3, с. 148], а не в том, что этот этап общественного развития есть этап использования капиталистических методов в социалистических формах с целью доведения товарно-стоимостных отношений до их естественного предела. Да и пресловутая товарная «имманентность», которую увидел Кронрод, социалистическому этапу как раз не имманентна, а, напротив, есть отношение, унаследованное от капитализма и развиваемое на социалистическом этапе до предела и преодолеваемое именно таким образом.
Кстати, Кронрод также говорит и о возможности ликвидации товарных отношений — «поскольку в процессе социалистического воспроизводства складываются предпосылки для перехода от первой — низшей фазы коммунизма ко второй — высшей его фазе, постольку и товарное производство, как элемент социалистического воспроизводства, содействует этому процессу. Таким образом, функционируя и развиваясь в условиях социализма, товарное производство подготавливает условия для своей собственной ликвидации» [3, с. 158]. Но каким образом товарное производство содействует социалистическому развитию, что за предпосылки создаются, как и из чего они возникают и, главное, каким образом и на каком основании товарное производство подготавливает условия своей ликвидации не сказано ни слова — вместо логического анализа голословное заявление, сделанное, скорее всего, из сугубо идеологических соображений.
К необходимости использования товарно-стоимостных отношений на социалистическом этапе движения склонялся даже такой противник капиталистических форм, как Э.В. Ильенков. В письмах к Ю.А. Жданову он, не углубляясь в анализ соотношения социалистических и рыночных отношений, писал: «…во всем этом движении (имеются ввиду дискуссии по поводу обобществления. Прим. наше.— А.П.) мало ясного теоретического понимания и слишком много фразы, много демагогии… Иного противовеса формализму, возомнившему себя раньше времени «реальностью», кроме открытого признания прав товарно-денежных отношений, нет» [2, с. 390]; «…труд стал «всеобщим» лишь «отчасти», лишь частью. В какой реальной мере и степени? Тут-то и весь вопрос. Эту меру и надо определить, чтобы не превышать, чтобы ни пытаться командовать тем, что этому командованию не поддается по сути дела (здесь и далее выделено нами.— А.П.), чтобы ясно очертить правомочия. А с тем, что лежит за пределами этой «меры» — играть честно, по строго установленным правилам, не меняя их к своей выгоде, как заблагорассудится.
…Вот в этих-то и этих-то пределах, четко очерченных, «частичный труд” — полный хозяин… И в этих пределах,— то есть на рынке,— пусть господствуют законы рынка. Со всеми их минусами. Ибо без этих минусов не будет и плюсов» [2, с. 391].
Нет, Э.В. Ильенков не был сторонником капиталистических, рыночных методов, но он прекрасно видел, что волюнтаристским наскоком к бестоварному хозяйству непосредственно не перейти и прежде необходимо достичь «теоретического понимания» социалистической практики — только в их тождестве залог успеха.
Литература
Дьяченко В.П. История финансов СССР (1917–1950 гг.).— М.: Наука, 1978.
Жданов Ю.А. Взгляд в прошлое: воспоминания очевидца.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
Закон стоимости и его использование в народном хозяйстве СССР. Под ред. Я.А. Кронрода.— М., 1959.
Ленин В.И. ПСС. 5-е изд.— М.: Политиздат, 1967.
Маркс К., Энгельс Ф. 2-е изд. Соч. В 50 т.— М.: Госполитиздат, 1955.
Петров А.П. Субстанциональный монизм как диалектика материального и идеального и основополагающий принцип саморазвития реальности.— М.: Онто-Принт, 2018.
Ханин Г.И. Советское экономическое чудо 40–50-х годов: миф или реальность? (http://khanin.socionet.ru/DOCS/CHUDO.doc).
Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время. В 2 т.— Новосибирск, 2008.
Юровский Л.Н. Денежная политика советской власти (1917–1927).— М.: Начала-Пресс, 1996.
5.8. Самарина Н. В. Феномен отчуждения в образовательном процессе и перспективы его преодоления
Проблемы, с которыми сталкивается ребёнок в школе, прежде всего проявляются в эмоционально-личностной сфере. Тревожность, нарушение коммуникаций (и в семье, и в классном коллективе), переутомление, проблемы с самооценкой (а именно как завышение, так и занижение её) и другие в совокупности создают психологический дискомфорт, который, по мнению реформаторов системы образования, приводит к устойчивому неприятию учебной деятельности. Поэтому современная педагогика усиленно занимается купированием указанных поверхностных проявлений, направляя основные усилия на организацию различных форм психологического сопровождения ученика. Опираясь на абстрактные законы возрастной периодизации и индивидуализацию процесса обучения, навязывая рефлексивные формы самоощущения вместо реальной оценки, предоставляя ребёнку исключительные права в выборе способа действий при освоении предмета, занимаясь, например, ранним профилированием, педагогика так и не смогла стать эффективной сферой в разрешении проблем современных школьников.
Уделяя внимание внешнему фону формирования неуспешности в учебной деятельности, современная педагогическая наука как будто не замечает первопричины отчуждения. Между тем природа учебной деятельности — это познавательный процесс и сводится, по сути, к действиям, направленным на освоение предметного содержания, отсюда успешность определяется не объёмом действий (интенсивностью) и рефлексией по их поводу, а качеством усвоения предметных знаний. Ибо только функциональность знаний (их актуальность), а не внутренние психологические интроспекции, обеспечивают субъектность действий индивида, которую так безуспешно пытаются формировать в рамках личностно-ориентированных моделей. Т.е. ведущей сферой в организации познавательного процесса в школе выступает интеллектуальная, а не эмоционально-коммуникативная, слепое же следование принципам, так называемого гуманистического подхода, как раз сдерживает развитие интеллектуальной сферы [8, с. 4].
Даже в системе развивающего обучения под влиянием гуманистических подходов, были существенно изменены первоначальные ориентиры. Уже нет акцентов на развитие мышления, а есть только следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе его жизненного пути [1, с. 12–13], что в значительной мере уводит от первоначальной концепции, сформулированной В.В. Давыдовым [6], и прямо противоречит выводам Л.С. Выготского: «И только то обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперед развития и ведет развитие за собой». «Поэтому,— как считал Л.С.Выготский,— обучение и развитие в школе относятся друг к другу, как зона ближайшего развития и уровень актуального развития» [2, с. 250]. Он критически относился к псевдонаучным, на его взгляд, выводам о том, что принципы обучения в школе должны соответствовать особенностям мышления определённого возраста, поскольку подобное обучение чаще всего закрепляет слабые стороны обыденного мышления и снижает преимущества научного или понятийного мышления [2, с. 252]. Особенно это касается начальной школы. «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития. Только тогда она сумеет в процессе обучения вызвать к жизни те процессы развития, которые сейчас лежат в зоне ближайшего развития» [2, с. 251]. Практическое значение понятия зоны ближайшего развития не просто общепризнано, но для современной дидактики и педагогики имеет большое научное значение. Суть этого понятия раскрывается Л.С.Выготским как потенциал обучаемости. А вот абсолютизация требования предельной гибкости к субъективным проявлениям ребёнка, к его личностной самореализации противопоставляется развитию интеллектуальной сферы и противоречит объективным законам процесса познания [8, с. 6].
Для того, чтобы современная система образования стала эффективной, необходимы преобразования не только на основе понимания законов формирования высших психических функций, но и на основе теоретического осмысления природы логической формы (объективных законов организации мыслительного процесса). Педагоги и психологи должны усвоить, что формирование мышления, овладение предметными знаниями подчиняется не биологическим, не психологическим, а логическим и общественным законам. Первопричины неграмотности и необучаемости следует искать не в генетике и психофизиологии, а в несовершенстве школьных программ и методов преподавания.
Психологический комфорт ребенка в школе во многом зависит от того, соответствуют ли его учебные знания и навыки требованиям, содержащимся в программах, освоение которых возможно только посредством понятийного мышления, и абсолютное большинство психологических проблем может быть снято с его помощью. Тем не менее, преобладание биологизаторских подходов к процессу обучения приводит к преувеличению значения памяти и внимания, а внедрение гуманистических установок усиливает акценты на выстраивание взаимоотношений между учащимися и педагогами, но при этом недооценивается роль мышления, и особенно понятийного [8, с. 11]. Между тем, из всего спектра высших психических функций только мышление, причём мышление, ориентированное на решение сложных синтетических задач — понятийное мышление, обладает исключительными возможностями в реализации потенциала развития личностных качеств.
Мышление на основе оперирования научными понятиями гармонизирует не только высшие психические функции: память, воображение, внимание и др., но и детерминирует моторную и аффективную сферы, создавая основу для успешного развития и интеллектуальной и эмоциональной сферы в целом. Мышление оказывается такой характеристикой, наличие которой при прочих недостатках развития, включая и серьезные психофизиологические дефекты, обеспечивает возможность обучения, а недостатки в его формировании при прочих достоинствах развития постепенно осложняют процесс обучения и в итоге делают его невозможным [3, с. 131, с. 172–173, с. 291]. Тому есть множество подтверждений из практики коррекционной педагогики. Одним из ярких успешных примеров воспитания и формирования интеллекта у детей, имевших первоначально минимум шансов на полноценное развитие, выступает «Загорский эксперимент» по развитию интеллекта у слепоглухонемых детей [7, с. 30–43].
Мышление, конечно, проявляется в различных формах деятельной активности, но только мышление, оперирующее научными понятиями, наиболее глубоко преобразует индивидуальный внутренний опыт, перестраивает и организует его в соответствии с системой объективных родо-видовых связей, обобщений, соподчинения и тождественности. В возникающей системе знаний воспроизводится «сеть логических связей», где каждое понятие закономерно связано с другими. Подобная универсальность позволяет в рамках понятийных структур осуществлять «перенос» знаний, навыков и приемов деятельности, эффективно осуществлять операции с понятиями, обеспечивает возможность разнонаправленного, свободного, чувствительного к противоречиям поиска, обеспечивает достоверность выводов и умозаключений. Здесь любые научные знания, с которыми индивид знакомится впоследствии, понимаются и усваиваются без механического заучивания, они как бы встраиваются в существующие понятийные и категориальные связи. Жизненный опыт также встраивается в «понятийную сеть», в результате чего обеспечивается соответствие восприятия и понимания реальности объективной логике. Если понятийный порядок не сформировался, то человек не замечает собственных и чужих ошибок, нелогичности теоретических построений, испытывает затруднения с обоснованием выводов, принимает ошибочные решения в своей практике. С точки зрения объективной психологии, именно обучение научным понятиям, формирование понятийного мышления создает зону ближайшего развития интеллекта ребенка в целом, характеризует потенциал его дальнейшей обучаемости и успешность самого образовательного процесса [8, с. 16].
Но сама реализация указанного потенциала лежит за пределами психологии — это специфическая задача логики. И здесь, благодаря природе логического, открывается ещё одна возможность обеспечить это развитие, а именно,— способность себя противопоставить себе, то есть сделать себя предметом,— исключительная характеристика мышления. Особенность самосознающего мышления заключается в том, что для мыслящего проясняются его собственные действия, они находятся под его контролем, поэтому продукт его деятельности (понимание) отражает и изображает собственное движение, т.е. субъективное и объективное в нём совпадают. Чего не скажешь о сознании, мыслящем иной, чем мышление предмет, субъективное хотя и может совпадать здесь с объективным, остаётся скрытым, стихийным (значит во многом неуправляемым) процессом. Но только в процессе познания, понимающего состав своих собственных действий, снимается отчужденное отношение субъекта к объекту, тем самым субъектом приобретается духовная свобода.
Предметная область, где мышление, по образному выражению Гегеля, «находится у самого себя», изучается Логикой [5]. Соединение учебного процесса с Логикой (формальной, диалектической и теорией познания), изменяет качество учебного труда. Обучение, раскрывающее для субъекта обучения в полной мере природу ПОНЯТИЯ и ОБРАЗА как универсальных «ключей познания» окружающего мира, становится ресурсом развития личности ребёнка [4, с. 7, 30].
К сожалению, невосприимчивость к подходам целенаправленного формирования мышления, игнорирование объективных характеристик природы мышления характерны почти для всех педагогических технологий. Из известных на сегодня более или менее систематизированных теоретических представлений об учебном процессе, в которых учебный процесс соединяется с действительным логическим познанием можно найти только в «Диалектике учебного процесса» — теории, построенной на открытиях Анатолия Иосифовича Гончарука [4]. Заметим, что указанная теория при этом не сводится только к формированию интеллектуальной сферы посредством использования природы логической формы. Концепция представляет собой развёрнутую теорию труда как продуктивной деятельности, в которой учебный процесс, основанный на законах эффективной организации процесса познания, выступает необходимым моментом в расширенном воспроизводстве человека и общества, обеспечивает снятие пределов в развитии человеческого потенциала, становится действительным основанием для снятия всех форм отчуждения субъекта от результатов его труда.
Литература
Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе.— М.: Совершенство, 1998.— 298 с.
Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах, т.2: Проблемы общей психологии.— М: Педагогика, 1982.— 504 с.
Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах, т.5: Основы дефектологии.— М.: Педагогика, 1983.— 368 с.
Гончарук А.И. Концепция Школы XXI века.— Красноярск: изд-во КГУ, 2002.— 68 с.
Гегель Г.В.Ф. Наука Логики.— СПб: Наука, 1997.— 799 с.
Давыдов В.В. Теория развивающего обучения.— М.: ИНТОР, 1996.— 544 с.
Ильенков Э.В. Философия и культура.— М.: Политиздат, 1991.— 464 с.
Ясюкова Л.А. Закономерности развития понятийного мышления и его роль в обучении.— СПб: ИМАТОН, 2005.— 256 с.
5.9. Ширман М. Б. Коммунизм: идеал и идеологема
Общественным идеалом имеет смысл называть принципиальное направление развития общества, определённое в ходе самого этого развития, путём его рефлексии, самим обществом. Выработка идеала осуществляется на основе методологически грамотного изучения фактического содержания предшествующей истории, через диалектическое выявление её интегральной тенденции и, как следствие, фундаментального общественного противоречия. Последнее формулируется как практическая проблема, после чего интеллектуальные лидеры общества выдвигают проектную инициативу (предпроект), направленную на разрешение данного противоречия, и начинается педагогическое (воспитательно-образовательное, практико-теоретическое) включение массы населения в дальнейшую разработку соответствующего проекта и его реализацию.
Важнейшим моментом здесь является собственно педагогический характер процесса освоения обществом идеала как своего коллективного проекта, соответствующего необходимой тенденции будущего развития самого общества: идеал невозможно ни навязать, ни внушить путём фальсификации. Воспринятый и освоенный идеал становится безусловным положительным мотивом — нравственной потребностью, т. е. образом добра и реальным смыслообразующим содержанием перспективной деятельности общества.
До сих пор такой путь выработки и освоения идеала человечество не проходило. Начиная с первобытности бытовал протоидеал — сохранение жизни собственного сообщества. Он зародился в момент превращения стада животных предков человека в человеческое стадо. Функционировал он в форме эмоционального нравственного ориентира — крайне расплывчатого, теоретически не обоснованного и не разработанного, не нацеленного на проектирование дальнейшего общественного развития. Протоидеал развёртывался в комплекс таких же эмоциональных нравственных ценностей — мотивов, направленных на общее благо. Единое «ядро» всех ценностей, включая сам протоидеал,— противоречие между ситуацией (наличной или желаемой), в которой сообщество располагает определённым, необходимым ему, жизненным фактором, и ситуацией, когда этот фактор становится недоступным. Соответственно, каждая ценность переживается как надежда — желание сохранить либо восстановить благоприятную ситуацию и одновременно страх перед отрицательным результатом этих усилий. Заметим: практически никогда не возникал мотив инновационный — создание новой благоприятной ситуации; принципиальные изменения в режиме существования сообщества иногда происходили, но — непреднамеренно. Таким образом, основная характеристика ценностей, как и самого протоидеала,— традиционность.
Ценности возникали, развивались, распространялись, затухали — стихийно, в естественноисторической логике. Часть из них и сегодня принята населением всей планеты, другие бытуют в отдельных регионах, третьи бесследно отмерли. Но, при всех вариациях «набора» частных ценностей в разные эпохи и в разных регионах, неизменным — во времени и пространстве — оставался коммунистический характер протоидеала.
Идеологемой можно назвать категорию моральную (этический запрет на то или иное намерение, т. е. отрицательный мотив), социально-организационную, экономическую, правовую или политическую, которая служит государству (единству власти и оппозиции) в качестве элемента идеологии. Последняя применяется в политической агитации (для обоснования тактики — призывов и директив) и пропаганде (для обоснования политической программы и стратегии, для разъяснения реального хода процессов, в т. ч. оправдания собственных провалов). Адресатом идеологического воздействия (агитации, пропаганды) является гражданская масса, на поддержку которой (при голосовании и в других формах, включая силовые) рассчитывает данная политическая партия в борьбе за власть — за её захват или удержание. И чтобы заручиться этой поддержкой, государство (все его партии) «привязывает» идеологию к тем или иным нравственным ценностям (положительным мотивам), а через них — к общественному протоидеалу.
Идеологическая эксплуатация ценностей неизбежно извращает каждую из них и, как следствие, сам протоидеал. Убеждая граждан в необходимости действовать по своим директивам, государство скрытно подменяет для них человеческую мотивацию — мотивацией государственной. И это оказывается возможным потому, что собственно человеческая мотивация ещё не выращена: когда-то она зародилась как мотивация проточеловеческая (комплекс нравственных ценностей) на базе коммунистического протоидеала, и с тех пор — на протяжении всей предыстории — она не развивается, а лишь постепенно разрушается.
Властвовать можно, только разделяя. Ориентация на часть граждан, а не на всё население — а также противопоставление «своих» граждан гражданам других государств — вынуждает государство превращать любую ценность из стремления к общему благу в намерение предоставить блага одним за счёт ограничения других. Кроме того: если в настоящей войне можно обойтись без слов, то в политике, особенно в современной, власть нуждается в поддержке значимой части граждан при более или менее терпимом отношении большинства остальных: иначе требуются постоянные силовые акции и угрозы, расшатывающие саму власть; поэтому, собственно, и необходима идеология. Однако политика — тоже война, хотя и менее кровавая. А на войне неизбежны действия, правда о которых неудобна. И, значит, государство — независимо от желания и порядочности представляющих его политиков — на каждом шагу вынуждено идеологически лгать гражданам, скрывая и фальсифицируя информацию о противниках (внутренних, внешних), о реальных процессах, о собственных действиях, о своих интересах. Но главной ложью становится декларация целей, прежде всего — стремления действовать в интересах большинства (и даже — всех!) граждан, а также не противопоставлять политику своего государства интересам остальных.
Таким образом, любая современная идеология носит «популистский» характер, т. е. обращается она к «народу» (населению страны как единому целому), иногда — ко всему человечеству. И ядром ей всегда служит та или иная идеологема, представляющая собой фальсифицированный коммунистический протоидеал — искривлённый, урезанный и затем подвергнутый косметической стилизации «под натуральный». Его фальсификации способствует его неоформленность, т. е. несформированность: теоретическая неразработанность и практическая пассивность. Последнее столетие составило длинный список таких псевдокоммунистических идеологем (используем, где можно, аббревиатуры): ВКП(б), КПСС (и другие системные «коммунистические» партии, в т. ч. КПРФ, КПК), НСДАП, «социалистическое государство» (в т. ч. СССР), «социальная справедливость», «реальный социализм» (отличающий себя от социализма «теоретического», т. е. нереального, при этом вынужденный сам себя убеждать в своей реальности), «развитой социализм», «демократия», «гражданское общество» (общество — субъект коммунизма!), «правовое государство», «права человека», «либерализм» (коммунизм — свободное всеобщее сотрудничество!), глобализация (коммунизм — единство всех народов планеты!), «традиционные ценности», «креативность»… Их эксплуатируют партии как «левые», так и «правые», как «либеральные», так и «державно-имперские», выступающие в экономике с позиций как «рыночных», так и «государственно-административных».
Популизм во всех своих вариантах строится вокруг коммунистического протоидеала, ограниченного рамками своего государства (региона, этноса) и максимально упрощённого по содержанию: не нацеленного на социальный прогресс, эксплуатирующего лишь «удобные» ценности. Призывая население к агрессии, к «возмездию» другим государствам, этносам и т. п. за страдания («обиды») своего народа, популизм перерастает в нацизм.
Но, чтобы идеология мотивировала население действовать в интересах государства (в т. ч. оппозиции — неотъемлемого элемента государства),— её нужно не просто предъявить в виде лозунгов, публицистических текстов, в художественной форме: необходимо организовать идеологическое воспитание.
Воспитание есть процесс выращивания деятельностной мотивации. Это — ведущая сторона педагогики (её вторая сторона — образование, т. е. выработка способности действовать в соответствии с воспитываемой мотивацией). Ядром мотивации — центральным продуктом воспитания — является потребность в продолжении своего человеческого рода (не биологического вида Homo sapiens: его репродукция сама по себе — лишь средство продолжения рода). Эта потребность носит характер педагогический: её содержание — воспитательно-образовательное взаимодействие родителей с детьми и вообще учителей с учениками в рамках любого живого сообщества. В воспитательное взаимодействие каждый представитель человечества включается с момента рождения (и даже раньше!); если «родное» сообщество с этим включением опоздало, то вакуум заполняется другим сообществом, которое может оказаться криминальным — и тогда необходимо «перевоспитание». На протяжении тысячелетий воспитание было миссией семьи (образование встроено в систему функций семьи менее жёстко). И, значит, государство, чтобы эффективно проводить идеологическое воспитание взрослых, должно отстранить семью от воспитания детей. А для этого — уничтожить социальный институт традиционной семьи: «стратегия», очевидно, рискованная.
Сегодня мы являемся свидетелями итогов такой стратегии. Преодолеть её можно — нужно! — только конструктивно. Самоубийственно вступать в конфронтацию с государством, поскольку оно, в результате глобализации и слияния с глобальным же капиталом, обрело абсолютную мощь. Для победы над ним требуется не силовое воздействие, а перенос (постепенный, но быстрый) деятельности в сферу, где государство-капитал некомпетентно: необходимо оставить его без работы. Ключевой вопрос: кто субъект этого переноса деятельности? Им может быть только человечество — коммунистическое общество, зародыш которого (проточеловечество) возник в первобытности, затем (в форме предчеловечества) ожидал своего часа и теперь наконец должен, реализуя свою культурную генетическую программу, родиться к полноценной жизни.
Теперь, определив проблему логически, проанализируем практическую — историческую — стратегию её разрешения.
Итак, сущность разумной, человеческой жизни — с момента возникновения человека и на сколь угодно дальнюю перспективу — совпадает с коммунизмом. И коммунизм первобытный — не метафора, не «аванс» и не просто зародыш «полноценного» будущего коммунизма. Это строгая научно-историческая категория, определяющая стартовый («нулевой») этап развития человеческого, т. е. коммунистического, общества — протоисторию человечества.
Из первобытности проточеловечество неизбежно, в силу своей неразвитости и слабости, «сползает» в этап предыстории — антагонистического общества, подавляемого государством, действующего не в логике сотрудничества, а в режиме агрессивной и разрушительной конкуренции (в экономико-политическом режиме). Но человечество, стимулируемое инвариантным «генетическим кодом» коммунизма, должно преодолеть «энергетическую яму» предыстории и выйти в эру действительной человеческой истории. На любом этапе этот процесс может быть прерван внешними факторами, в том числе спровоцированными им самим. Однако в его собственной логике неизбежность такой катастрофы не заложена. Напротив: человечество может выстраивать свою жизнь только как ничем не ограниченный прогресс свободной, самоорганизуемой общественной (коммунистической) самодеятельности. Иначе жизнь общества не имеет смысла: не является разумной, т. е., собственно, человеческой.
Осмысленность человеческой жизни зафиксирована в ядре («клетке») общества — в социальном институте семьи. Семья — педагогическое (воспитательно-образовательное) сотрудничество поколений — зародилась в форме человеческого стада, развёртывала свою функциональную структуру в рамках первобытной родовой общины и полностью сложилась в эпоху общины соседской.
В эру предыстории, т. е. анти-истории, социальный прогресс подменяется прогрессом экономики и политики, а также обеспечивающим их развитием науки и техники. Семья (а значит, личность и общество) деградирует и разрушается. Семейное воспитание вытесняется «воспитанием» государственным — патриотическим по содержанию и идеологическим по организации (в форме религии или светской моральной доктрины); образование фрагментируется и погружается в прагматику, вырабатывая экономически и политически востребованные трудовые и гражданские качества. Социум становится всё более примитивным — по мере усложнения механизмов экономико-политического управления им. Но, несмотря ни на что, остаётся непреложной необходимость семьи как органа продолжения человеческого рода. Именно этот мотив — потребность возродить институт семьи, преодолев её предысторический провал,— выражается нравственными категориями братства и свободного (самоуправляемого) труда. Этот мотив и составляет содержание коммунистического идеала для современной эпохи — эпохи его превращения из «абстрактного» протоидеала в действующий (и постоянно усиливающийся) мотив. Коммунизм доказывает делом, что он — не «изобретение» Маркса, а исконный и неотъемлемый смысл человеческой жизни.
В ХХ веке традиционный институт семьи был окончательно уничтожен государственно-монопольным капиталом при помощи системы массового школьного образования. В результате гибель грозит и коммунистическому идеалу, воплощением которого выступала семья; это и означает, что он может исчезнуть только вместе с самим человечеством (точнее, предчеловечеством), если прекратится культурно-историческое продолжение рода.
Отмирание института традиционной семьи — не чья-то диверсия, а объективная историческая закономерность: семья должна возродиться на новой основе. Невозможно «укрепить» или восстановить прежнюю семью, в которой родители и дети — биологические родственники. Необходимо инициировать и вырастить объединение поколений на базе всеобщего свободного сотрудничества, т. е. собственно педагогический коллектив.
Но сам коммунистический идеал представляет собой проблему. Это — целевой ориентир развития человечества, однако он не конкретизирован, не превращён в определённую цель. Маркс и Ленин выработали коммунистический «аван-проект» (проектную инициативу). В ХIХ — начале ХХ века первые шаги реализации проекта пролетарским движением востребовали и колоссально ускорили теоретическую разработку проблематики научного коммунизма, т. е. конкретизацию коммунистического идеала в реальную цель социального развития. Однако уже в первой половине ХХ века политическая ситуация — глобальная и внутри каждой из развитых стран — оказалась слишком острой для организации конструктивного продвижения к коммунизму, обеспечиваемого развитием его теории. Обострялась экономико-политическая конкуренция внутри монопольного капитала, вначале представленного несколькими ведущими государствами, а затем (во второй половине ХХ века) оформившегося в глобальное государство-капитал.
В результате жертвой идеологической фальсификации стала стратегия (логика) самой коммунистической революции — научный коммунизм.
Начиная его разработку путём анализа феномена Парижской Коммуны (представленного почти исключительно её намерениями — законодательными актами), Маркс установил факт неизбежности ожесточённого силового сопротивления капиталистического государства любой попытке пролетариата перехватить у капитала политическую власть; причём если в данном государстве власть капитала временно дезорганизована, в борьбу против местного пролетариата готовы вступить другие капиталистические государства.
Отсюда следовали два вывода. Во-первых: коммунистическая революция может победить только одновременно во всех — или по крайней мере в нескольких — наиболее развитых капиталистических странах (при том что стартует она в разных странах, разумеется, неодновременно — в специфических условиях активизации пролетариата и ослабления капитала). Во-вторых: первым шагом коммунистической революции должно стать преобразование капиталистического государства в государство нового типа — в диктатуру пролетариата, главная задача которой — «организация единства нации», т. е. реорганизация хозяйства на основе всеобщей кооперации с инициированием всеобщего социального сотрудничества (сотрудничества всех социальных групп внутри местных сообществ — коммун, сотрудничества между коммунами и между народами всех стран); кроме того, диктатура пролетариата обязана осуществлять силовые функции, принуждая граждан к исполнению новых общественных норм (но эти нормы почти сразу должны подтвердить своё соответствие интересам всех граждан, и, значит, принуждение не может быть массовым и длительным).
Экономические и социальные задачи диктатуры пролетариата принципиально отличают её от любого другого типа государства, существовавшего в эру предыстории: главной функцией всех этих государств было классовое насилие.
Целью любой политической революции является захват государственной власти. И здесь заключается главная специфика коммунистической революции. Если буржуазная революция считает свою задачу исполненной, сменив на высших административных постах в государстве представителей земельной собственности — представителями уже сформировавшегося торгово-промышленного капитала, то революция коммунистическая должна организовать власть не в интересах одного класса против других (эксплуатируемых, а также бывших привилегированных), а в интересах всего человечества; и, значит, это человечество должно родиться в ходе самой революции: ведь до сих пор оно — лишь зародыш, и его единство — лишь потенциально. Таким образом, коммунистическая революция, кроме миссии политической, выполняет ещё две: экономическую и педагогическую. Соответственно, эта революция должна пройти три взаимоувязанных и частично совмещаемых, но не совпадающих между собой шага.
Уже в момент рождения Коммуны Маркс был почти уверен в её неотвратимом уничтожении превосходящими объединёнными силами прусского и французского капиталов (врагов, заключивших временный союз против своего общего врага). Но, независимо от перспектив самой Коммуны, Маркс считает её первым серьёзным политическим актом пролетариата (в отличие от событий во Франции в 1840-е гг., где пролетариат не играл самостоятельной роли): первым актом длительного процесса — политического шага коммунистической революции, т. е. суммы многих локальных актов в разных странах.
Непосредственным результатом каждого такого акта может стать в лучшем случае захват пролетариатом административных «рычагов» существующей государственной машины. Поэтому здесь решается не вопрос о власти, а вопрос о наработке опыта того самого всеобщего сотрудничества (внутри местных сообществ, между ними, между городом и селом, между производителями и потребителями, между народами), в котором рождается человечество. Базисным предметом сотрудничества становится экономика. И, как всякая наработка опыта, этот процесс носит характер педагогический.
Проектируя перспективу коммунистической революции, Ленин говорит о социалистическом государстве (диктатуре пролетариата) как о «сети роизводственно-потребительских коммун». Здесь перед самим государством чётко поставлена задача реорганизации экономики: предпринимательская инициатива должна уступить место производственно-потребительской кооперации. Но активность потребительской «половины» экономики определяется опять-таки педагогической активностью её «акторов» — семейных объединений.
Но разработка коммунистического проекта в начале ХХ века только выходила на постановку проблем второго и третьего — экономического и педагогического — шагов революции.
Тогда ещё не проявилась во всей остроте проблема полуфабрикатного характера капиталистической промышленности, окончательно превращающего её в самоубийственное «производство ради производства»; а значит, не могла быть спроектирована структурная реорганизация промышленности — её превращение в комплекс «вертикально интегрированных» конечнопродуктовых цепей. Не была выявлена и проблема разрушения института семьи; соответственно, не начата разработка педагогического проекта возрождения семьи на новой основе, через реорганизацию общего образования. Во второй половине ХХ века произошло полное слияние капитала с государством, слияние всех государств планеты в единое глобальное государство и превращение всего населения Земли в пролетариат, обслуживающий единственного монопольного капиталиста; эти изменения также не осмыслены, и только «левые» обществоведы впадают в уныние по поводу «исчезновения пролетариата».
В результате, вместо постановки и решения организационных, хозяйственно-экономических, педагогических и научно-проектных проблем — вместо усилий по рождению человечества — мировое рабочее движение втянулось в политическую борьбу между государствами (или их группировками), между регионами, между различными социальными группами. В этой борьбе идеологически эксплуатировались и тем самым дискредитировались коммунистический протоидеал и связанные с ним нравственные ценности. Сегодня мы не располагаем активным и грамотным рабочим движением, целенаправленно выращивающим своих теоретиков, которые были бы достойными последователями «классиков».
Коммунизм станет проектом, только если его разработку начнёт сеть свободно сотрудничающих коллективов. Иначе он останется фальшивой системой идеологического воспитания государством массы населения с целью выявления «классовых врагов» и провоцирования конфликтов. Мы не можем позволить себе в двадцать первом веке повторить век двадцатый.