Мышление и деятельность: кандидатская диссертация кандидата философских наук
Геннадий Васильевич Лобастов. 1974.
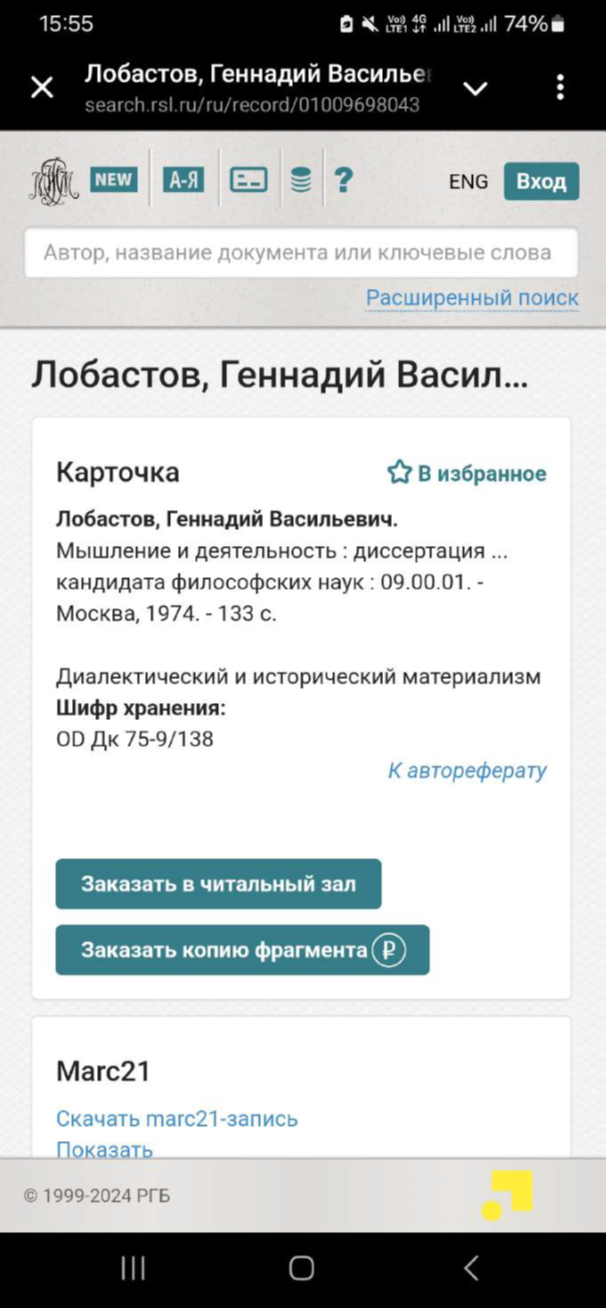
Предисловие
В условиях развитого социалистического общества, когда элементарные потребности человека практически удовлетворены, во все большей мере возрастает необходимость решения воспитательных проблем, связанных в первую очередь с задачей формирования нового, гармонически развитого человека. Вместе с тем производство общественной жизни все усложняется, требования научно-технической революции вызывают к жизни новые отрасли производства, дифференциацию и специализацию внутри производства вообще.
В этих сложных условиях, когда человека беспокоит уже не столько его материальная обеспеченность, сколько его реальная ограниченность в сфере общественного производства, его частичная функция в нем,— в этих условиях проблема всестороннего развития приобретает необходимый и специфический характер.
Решение этой проблемы часто видят в привлечении непосредственного производителя к участию в управлении производством, в демократических формах управления государством. Однако адекватная реализация демократии в сфере управления государством и производством требует воспитания и формирования у члена общества способности к этому. Эта способность состоит не просто в уяснении общих положений осуществления демократии, а творческого усвоения всеобщих теоретических принципов и на их основе освоения реальных форм бытия человека. Это значит, что человек в практике должен быть поставлен в теоретическое отношение к действительности, следовательно, в качестве исходного такового отношения должен освоить основное содержание общественно-исторической культуры. Лишь при этом условии можно сказать, что человек сформировал в себе способность постижения действительности.
Теоретическое отношение к действительности не есть лишь одно из условий снятия противоречий разделенного труда, а есть требование самого процесса производства, где использование сложной современной техники предъявляет высокие требования к квалификации работников, профессиональная подготовка которых должна опираться на соответствующий уровень общего умственного развития и систематизированные научные знания.
С точки зрения воспитания речь должна идти о формировании действительно человеческого отношения к человеческому предметному миру. Истинно нравственное, эстетическое, ценностное отношение человека к действительности требует преодоления в нем утилитарно-прагматического отношения, базирующегося еще на старой основе необходимости удовлетворения элементарных жизненных потребностей. Искоренение мещанско-обывательской психологии — это важнейший момент формирования нового человека. И оно возможно (поскольку социальная основа такой психологии уничтожена) именно лишь как формирование истинно человеческого отношения к вещи, когда владение вещью исключает грубо-эмпирическую его форму.
«Частная собственность,— говорит К. Маркс,— сделала нас столь глупыми и односторонними, что какой-нибудь предмет является нашим лишь тогда, когда мы им обладаем, т. е. когда он существует для нас как капитал или когда мы им непосредственно владеем, едим его, пьем, носим на своем теле, живем в нем и т. д.,— одним словом, когда мы его потребляем».[1] Это превращенное отношение к предметному миру есть результат отчужденного отношения человека к человеку, которое опосредовано вещами. Поэтому вещь и выступает человеку не просто своим действительным содержанием, а как опредметившая в себе сверхприродные силы — общественные силы. Простое обладание вещью и выступает действительным утверждением себя в обществе частной собственности.
Уничтожение частной собственности автоматически не влечет коммунистическое сознание. Факт разделения труда и наличие товарно-денежных отношений в социалистическом обществе — реальная основа, на которой паразитируют пережитки старого сознания. Поэтому понятно, что формирование нового человека — длительный социальный процесс. Ускорение этого процесса зависит от того, насколько правильно построен сам воспитательный и образовательный процесс.[2] А это требует серьезных философских, социологических и психологических исследований закономерностей социального формирования личности, тех механизмов и условий, посредством которых человеческий индивид становится творчески активной личностью.
Точка зрения, что сам культурно-исторический предмет порождает человеческую потребность в нем, страдает тем, что не учитывает того важнейшего момента, что индивид должен быть готов, способен открывшийся ему предмет адекватно освоить. Принципиальная возможность развития этой способности заключена в том положении, что человеческое мышление есть деятельность, идеальная форма деятельности, и что оно движется по тем же законам, по которым осуществляется деятельность практическая. Единственный первоначальный способ освоения доступной индивиду действительности есть практическое освоение. Но лишь развитое на практической основе мышление, будучи активной способностью, снимает пространственные и временные ограничения индивида и делает его развитым настолько, насколько его мышление способно освоить общественно-историческую культуру.
Развитие способности мышления далеко не является требованием, исходящим из идеалистических философских предпосылок. Эта способность развивается лишь как отражение развитости форм материальной и духовной деятельности людей. Дело здесь только в том, что она не должна формироваться как пассивное отражение форм деятельности ограниченной сферы, но лишь как универсальная способность — как отражение всеобщности и противоречивости общественно-исторических форм деятельности людей.
Ценности, формирующиеся у индивида в обществе, не есть результат непосредственного отражения налично данных ему общественных условий, а есть результат опосредованного отражения общественно-исторического бытия человека в форме теоретического освоения материальной и духовной культуры.
Активность мышления обусловлена своеобразием движения мыслительной деятельности: она движется, подобно практической деятельности, через проблему и необходимость ее решения, т. е. на основе определенной потребности. Поэтому проблема формирования гармонически развитого человека целиком может быть сведена к проблеме целенаправленного сознательного формирования человеческих потребностей.
Поскольку решение последней задачи не заключается лишь в «приближении» предмета к субъекту деятельности, а требует способности адекватно этому предмету осуществить деятельность (материальную или идеальную), налицо теоретическая проблема: что такое человеческий предмет и каким образом формируется потребность в нем, определяющая человеческую личность.
Введение. Некоторые теоретические посылки и источники исследования
Непосредственно в анализе этих проблем мы исходим из следующего.
Человеческие формы психической деятельности формируются в процессе жизнедеятельности человека. Сознание как одна из таковых форм, в которой познается объективная действительность и концентрируются результаты познания (знание), возможно и с необходимостью возникает лишь на основе предметно-практической, трудовой деятельности. С другой стороны, именно эта специфически человеческая форма отражения действительности определяет развитие своей основы — практики человека.
Всякое психическое возникает лишь в определенном взаимодействии организма с внешним миром. Для человеческого индивида внешний мир есть мир человеческий, общество, социальная среда и вместе с тем среда природная.[3] Человек есть «предметное» (К. Маркс) существо, он нуждается в предмете, находящемся вне его. Но поскольку «природа в объективном смысле… не дана человеческому существу адекватным образом»,[4] необходимо преобразование ее в ту форму, которая способна удовлетворить развитые человеческие потребности. Это преобразование «чуждой» природы в очеловеченную происходит в процессе трудовой деятельности, а последняя, таким образом, оказывается специфически человеческой формой взаимодействия с внешним миром, в ходе которой возникают и формируются человеческие формы психики.
В трудовой деятельности человека, поскольку она направляется на производство предмета, а не непосредственно на удовлетворение потребности, расчленяются цель действия и побуждение, мотив действия, выделяется отношение субъекта к окружающим предметам и к собственной деятельности. В силу того, что человеческая трудовая деятельность есть деятельность общественная и удовлетворение непосредственных потребностей индивида опосредовано не только фактом производства продукта, в котором и вычленяется отношение человека к внешнему, но и разделением труда в этом производстве (именно здесь значение предмета приобретает общественный характер),— в силу этого цели деятельности отделяются от непосредственных потребностей индивида и благодаря этому только и могут быть осознаны как цели. А это значит, что предстающий предмет осознается и как предмет деятельности. Вместе с этим человек осознает и самого себя, осознает свое отношение к внешнему предмету и к другому человеку.
Чтобы производить, чтобы осуществлять процесс своей жизнедеятельности, человек должен сначала овладеть основными формами человеческой деятельности, освоить культуру, мысль, опредмеченные в орудиях и продуктах производства, в формах деятельности, в языке. Лишь при этих условиях человек осознает себя как человек и человеческим образом производит. В этом процессе становления личности в человеческом обществе и посредством его раскрываются и реализуются его (человека) «природные», «жизненные силы», которые «существуют в нем в виде задатков и способностей, в виде влечений».[5]
Нахождение и достижение предмета потребности (как и нахождение самой собственно потребности) обусловлено деятельностью, которая как по целям своим, так и по способу осуществления есть непосредственно общественная.[6] Эта специфически человеческая связь с природой, а именно орудийная общественная деятельность, имеет непосредственное и кардинальное значение в факте возникновения (и воспроизведения в каждом отдельном индивиде) сознания, мышления.
Что мышление есть результат предметной деятельности, что внутренние мыслительные структуры производны от практических действий,— на эту мысль по существу указывал В. И. Ленин, говоря, что практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики. Эта проблема теперь является основополагающей для материалистической психологии мышления. Исследованиями известных зарубежных ученых Ж. Пиаже, А. Валлона, Р. Заззо и др. экспериментально показано, что словесно-логическое мышление развивается из практических интеллектуальных операций путем их интериоризации, т. е. путем перехода прежде внешних предметных действий в действия внутренние, умственные. Советская психология (прежде всего Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин) внесла большой вклад в теорию онтогенетического развития мышления. Здесь мышление понимается как результат процесса усвоения общественно-исторически выработанных умственных операций и действий. Разработка этой теории подтверждает положение марксистской философии об определяющей роли практики в формировании сознания и выявляет конкретные механизмы этого процесса.
Единство сознания и деятельности, их диалектическая взаимоопределённость выступает и как методологический принцип изучения сознания. Вопрос о единстве сознания и деятельности как принципе изучения сознания был поставлен и достаточно теоретически и экспериментально разработан в советской психологии. Понятие деятельности стало одной из основных категорий методологии познания психического. Впервые принцип единства сознания и деятельности в психологии был выдвинут С. Л. Рубинштейном в работе «Проблемы психологии в трудах К. Маркса»[7] и далее развит в последующих его работах.[8] А. Н. Леонтьев первым обращается к психологическому анализу деятельности, показывает роль ее в развитии психики, проводит достаточно глубокий и детальный анализ структуры деятельности, ее внутреннюю связь с сознанием.[9] «Анализ деятельности,— говорит он,— и составляет решающий пункт и главный метод научного познания психического отражения, сознания. В изучении форм общественного сознания — это анализ бытия общества, свойственных ему способов производства и системы общественных отношений; в изучении индивидуальной психики — это анализ деятельности индивидов в данных общественных условиях и конкретных обстоятельствах, которые выпадают на долю каждого из них».[10]
В философии к проблеме деятельности обратились в связи с изучением философских проблем человека. До недавнего времени работа велась лишь по линии анализа понятия практики в различных ее аспектах. Однако категории практики и деятельности далеко не однозначны. Практика — это «чувственно-предметная форма жизнедеятельности общественно развитого человека, имеющая своим содержанием освоение природных или социальных сил и выражающая специфику человеческого отношения к миру… Определенность практики как формы деятельности раскрывается в единстве с противоположной формой деятельности (выделено нами — Г. Л.) — теорией».[11] Понятие деятельности, как видно, шире понятия практики и включает содержание последней в себя. «…Деятельность есть тождество или единство теоретического и практического, которые имеют значения не самостоятельных форм, а моментов, подчиненных сторон некоторого целого».[12]
Деятельность — это специфически человеческий способ взаимодействия субъекта и объекта, в котором появляются и реализуются все формы отношения человека к действительности: практическое, познавательное, эстетическое, ценностное и др. Реализация практического отношения человека к миру (практика) есть существеннейший и определяющий момент деятельности человека, без которого немыслимо реальное человеческое существование. Деятельность и суть то, посредством чего и в форме чего человек существует. Она есть человеческий способ бытия. Это не просто средство, обусловливающее человеческое существование, а непосредственно форма бытия человека. Как реализация всех отношений человека деятельность и есть явление его сущности, которая, по выражению К. Маркса, «есть совокупность всех человеческих отношений».[13] Человек поэтому в своих сущностных определениях не отличен от своей деятельности, он тождественен ей.[14] Это значит, что развитие способа деятельности есть развитие самого человека. Сущность человека не предшествует его бытию в форме общественных отношений его, а эти общественные отношения складывайся по мере развития форм деятельности, которое (развитие) обусловлено практическим отношением человека к природе.
«Процесс труда… есть целесообразная деятельность для созидания потребительных стоимостей, присвоение данного природой для человеческих потребностей, всеобщее условие обмена веществ между человеком и природой, вечное естественное условие человеческой жизни, и потому он не зависим от какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем ее общественным формам».[15] «Простые моменты процесса труда следующие: целесообразная деятельность, или самый труд, предмет труда и средства труда».[16] Поэтому анализ этих моментов не есть непосредственно анализ некоторой особенной исторически определенной социальной формы производства человеком себя, а есть анализ понятия деятельности, который абстрагируется от исторически конкретных форм и содержаний человеческого бытия, а исследует всеобщие и необходимые моменты человеческого способа существования. Фактическое развитие содержания материальных условий деятельности ничего не изменяет в понятии деятельности, но изменяет характер соединения этих материальных условий с человеком как действительным субъектом деятельности и, соответственно, изменяет содержание самого субъекта. Но анализ содержания некоторой особенной формы деятельности выходит за пределы логического рассмотрения категории деятельности и представляет собой исследование некоторого другого явления, а не деятельности самой по себе. Нас здесь интересует не категория деятельности и не некоторая исторически определенная социальная форма производства, а деятельность как принцип, позволяющий в теоретической форме вскрыть способ становления и развития человека, его сознания, мышления. Но это и требует от нас определенного анализа ее некоторых всеобщих моментов.
Знание имеет две формы своего существования: форму идеального, в которой оно локализуется в духовной деятельности конкретного индивида, и форму бытия в материальных предметах, созданных человеком в процессе материально-духовной деятельности.[17] Существование этих двух форм знания определено самим способом бытия человека — его сознательной преобразовательной деятельностью.
Бытие мысли в очеловеченной природе является основой, которую человечество постоянно полагает себе для дальнейшего своего материального и духовного развития. Материальный результат деятельности всегда содержит в себе в снятом виде духовную сторону её, ибо процесс деятельности есть всегда материально-духовный процесс. Когда продукт предшествующего акта деятельности включается в последующий, он включается в сознательную деятельность по логике той мысли, которая в нем опредмечена и которая выступала целью предшествующего акта.[18] Поэтому человеческая мысль всегда должна быть на уровне применения, использования материальных результатов предшествующей исторической деятельности человечества.
Раздвоение знания на две формы отражает структуру самой деятельности как материально-духовного процесса. Результатом деятельности оказывается, во-первых, материальный предмет, в форме которого отражено содержание деятельности, и, во-вторых,— знание в форме сознания субъекта.
На первый взгляд получается, что сознание как самостоятельная субстанция определяет свое самостоятельное движение посредством внешнего для него материального процесса, который, умножая содержание сознания путем внесения в него знания о себе и своих действительных результатах, производит еще внешний для сознания материальный продукт. Однако в действительности это не так. Сознание не есть результат своего собственного полагания в материальной деятельности, а оно с самого начала формируется в ней и вместе с ней — оно есть ее имманентный момент, диалектически определенный её другими моментами и таким же образом определяющий их. Поэтому рассмотрение двух форм знания как результата деятельности совершенно не противоречит тому, что само знание как в форме предметности, так и в форме мысли является условием и моментом самой практической деятельности, а последняя, таким образом, должна быть определена как сущностная характеристика бытия общественного субъекта, который находит и реализует себя лишь этим способом — в форме сознательной преобразовательной деятельности. Именно в ней поэтому и содержатся те определения, которые оказываются условиями развития человека и которые тем самым есть определения его самого.
Свое существование в обеих своих формах знание получает в деятельности. Но адекватное себе значение (свою актуальную идеальную форму) и свою реальную действенную силу в познающем субъекте знание имеет лишь в идеальной форме ее, в мышлении.
Всеобщие формы отношения человека к действительности (как, впрочем, и все другие) имеют своей основой общественно-историческую практику людей. Развитие последней изменяет содержание и форму проявления этих отношений (т. е. познавательного, эстетического, нравственного и др.), однако как таковые они всегда воспроизводятся в предметно-практической деятельности человека. Предмет этих отношений — действительность — выступает в двух формах: как предметная сфера субъекта и как ее идеальное бытие в формах знания. Поэтому и деятельность как процесс, в котором реализуются отношения человека к действительности, имеет тот же предмет. В соответствии с ним она распадается на две основные формы: материальную и идеальную.
Предметность как ближайшее определение деятельности (обеих ее форм) характеризует не только направленность ее на предмет, но также и то, что этот предмет определяет средства и способ ее осуществления. Правда, способ деятельности, с другой стороны, зависит от наличных условий (средств), но тем самым и предмет определяется уже этими условиями. Но так как предмет деятельности и ее средство суть предмет субъекта, то понятие предмета (и его особенных определений в деятельности, т. е. в качестве предмета потребности, предмета деятельности, средства и предмета других отношений человека) имеет определяющее значение в анализе самого субъекта.
Если животное имеет лишь одно отношение к внешнему, а именно отношение биологической потребности,[19] и реализует его через наследственные и индивидуально-приобретенные формы потребления внешнего (предмета его биологического отношения), то человек преобразовывает объект, самим процессом преобразования и его продуктом не только удовлетворяя и «дополняя» себя, но развивая себя, делая продукт своей деятельности условием этого развития. Именно в этом преобразовательном процессе человек и исключает свое одностороннее отношение к предмету, а относится к нему всесторонне, универсально. Животное «производит односторонне, тогда как человек производит универсально; оно производит лишь под властью непосредственной физической потребности, между тем как человек производит даже будучи свободен от физической потребности, и в истинном смысле слова только тогда и производит, когда он свободен от нее; животное производит только самого себя, тогда как человек воспроизводит всю природу; продукт животного непосредственным образом связан с его физическим организмом, тогда как человек свободно противостоит своему продукту. Животное формирует материю только сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит, тогда как человек умеет производить по меркам любого вида и всюду он умеет прилагать к предмету соответствующую мерку; в силу этого человек формирует материю также и по законам красоты».[20] Это всестороннее отношение человека к своему предмету непосредственно связано с универсальностью, «которая всю природу превращает в его неорганическое тело, поскольку она служит, во-первых, непосредственным жизненным средством для человека, а во-вторых, материей, предметом и орудием его жизнедеятельности».[21]
Конкретность отношения действующего субъекта содержат в себе все необходимые и всеобщие формы его (отношения человека к действительности). В социальных формах общественно разделенного труда, разумеется, не все эти отношения выражены одинаково. Разорванность деятельности как процесса реализации всех сущностных отношений к действительности и выражает отчуждение человека от его сущности.[22] Сущностные отношения как необходимые и всеобщие формы отношения субъекта к действительности реализуются в их единстве,[23] хотя на поверхности явлений это может выступать и не так. Однако нет процесса деятельности, в котором бы не реализовались одновременно практическое, познавательное, эстетическое, нравственное и др. отношения. Это, во-первых, уже потому, что цель снимает в себе содержание всех этих отношений, а во-вторых, потому, что все они воспроизводятся через результат деятельности. Деятельность не осуществляет себя через «изолированную» реализацию отдельных отношений, но в действительности социальные условия деформируют полноту содержания ее, делая реализацию того или иного отношения наиболее полным, низводя другие до сопутствующих.
Наличие двух форм бытия человека — его непосредственного бытия и форм бытия во внешних предметах — выступает как противоречие, постоянно разрешающееся и воспроизводящееся в деятельности. «Индивид производит предмет и через его потребление возвращается опять к самому себе, но уже как производящий и воспроизводящий себя самого индивид».[24] А «предмет, являющийся непосредственным продуктом деятельности его индивидуальности, вместе с тем оказывается его собственным бытием для другого человека, бытием этого другого человека и бытием последнего для первого. Но точно таким же образом и материал труда и человек как субъект являются и результатом и исходным пунктом движения…»[25]
Имея в виду эти мысли К. Маркса, мы первоначально рассмотрим основные моменты индивидуального становления человеческой субъективности в процессе предметной деятельности, а далее логически воспроизведем определения предмета как определения человеческой деятельности.
Глава I. Формирование сознания в предметно-практической деятельности
§ 1. Условия возникновения индивидуального сознания
Формирование индивидуального сознания человека непосредственно связано с его практической деятельностью. Исследования зарубежных и советских ученых (Ж. Пиаже, А. Валлон, П. Жане, Р. Заззо, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин и др.) убедительно показывают зависимость внутренних мыслительных процессов от внешних, практических. Индивидуальное становление человека есть его «разворачивающаяся» вовне деятельность, которая, осваивая предметные формы культуры, формирует сложную, постоянно развивающуюся систему потребностей и отношений, определяющую сознание человека и его социальную ориентацию. Деятельность, раскрывая субъекту предметность, формирует его знание этой предметности, сознание отношений к ней и форм реализации их, формирует вместе с тем сознание человеком себя, сознание отличия от этой предметности и единства с ней.
Возникающие на базе деятельного отношения к миру формы отражения этого мира сами непосредственно включены в реализацию этого отношения. Сознание выступает существеннейшим моментом процесса деятельности, оно не просто опосредует ее, а генетически, будучи ее продуктом, оно сразу же включается в нее в качестве необходимого момента. Поэтому сознание деятельно.
Мы рассматриваем лишь необходимые предпосылки и условия становления сознания. Это избавляет нас от изложения богатого исторического материала и позволяет ограничиться исследованием всеобщих моментов производства и существования индивидуального сознания, ибо именно здесь логика представлена в наиболее «чистом» виде и оказывается доступной «непосредственному» наблюдению. Ограничение себя материалом онтогенеза мы объясняем не только тем, что индивидуальное развитие сознания в принципе повторяет его филогенез, историческое становление,[26] но также и тем фактом, «что человеческое мышление существует лишь как индивидуальное мышление многих миллиардов настоящих, прошлых и будущих людей».[27]
Предпосылки возникновения сознания превращаются в условия его существования. И это имеет отношение не только к историческому его развитию, но и к развитию индивидуального сознания. Здесь различие лишь в том, что индивиду условия исторического существования сознания даны как условия возникновения его индивидуального сознания. Становление последнего поэтому выглядит как усвоение общественно выработанных форм деятельности в исторических условиях, как превращение их в свои собственные определения, следовательно, процесс развития индивидуального сознания есть процесс индивидуального (в общественных условиях) усвоения и воспроизводства исторических форм и условий его.
Историческое становление сознания сопряжено с исторической случайностью в отношении любого фактора его развития. Собственно историческое исследование сознания анализирует скорее конкретно-исторические условия его в их развитии и общественные способы соединения индивида с этими условиями (в конечном счете это есть условия деятельности). Сознание здесь понимается как естественное следствие этих условий, как отражение[28] их. Поэтому оно и рассматривается лишь в общем его определении как отражение, а не в его рефлексивных формах.
Естественные биологические условия сознания к логике сознания отношения не имеют. Воспроизведение содержания этих условий определяется внесоциальными механизмами, т. е. теми, которые ни формы, ни содержания сознания не определяют, а постоянно остаются необходимыми, но внешними условиями его. Развитие руки, человеческого мозга имеют кардинальное значение в факте исторического возникновения сознания и представляют необходимое естественное условие существования человека со всеми его определениями, но они не есть определения собственного человеческого бытия. Что их развитие исторически определено и в своей функции определяется социальными условиями бытия, точнее, самим способом этого бытия, факт известный и доказанный в науке давно.[29] Будучи естественно-историческими эти биологические факторы (рука, мозг, гортань, длительный период младенчества и т. д.) воспроизводятся биологическими механизмами наследственности, но воспроизводятся лишь как некие потенции, функциональное наполнение которых происходит через факт их включенности в производство социальной жизни. Здесь то, что дано человеку от природы, формируется деятельностью по ее логике, но в рамках тех наследственных возможностей, которые суть результат филогенетического развития.[30] Разумеется, естественное возрастное развитие мозга, например, не зависит от характера его функционального развития (в онтогенезе), но здесь как раз речь о том, что именно это наличие естественных органов и их естественное развитие выступают как потенции, как возможность их функционального развития, раскрытия.
Освоение предметных форм культуры, языка, форм деятельности происходит лишь при условии активного отношения к внешнему миру со стороны индивида. Эта активность «включает» в процесс активного отношения органы чувств, которые в дальнейшем в процессе восприятия становятся «подчиненными» своему предмету.[31]
§ 2. Основные моменты процесса формирования индивидуального сознания
Необходимое взаимодействие организма со средой предполагает некоторую активность, источником которой являются потребности организма во внешнем предмете.[32] Конкретные формы активности всегда связаны со спецификой носителя и сферой той предметности, в которой они осуществляются.
Активность организма в своей действительности всегда реализуется через конкретные формы действий. Носителями последних выступают не только организм как целое, но и его отдельные органы (глаз, ухо, рука, нервная система, костно-мышечный аппарат, речедвигательная система и т. д.), хотя субъектом активности является только целое. Когда активность определяется и реализуется через сознательно поставленную цель, тогда налицо та ее форма, которую мы называем собственно деятельностью и субъектом которой, следовательно, может быть только человек.
Формы чувственного отражения определяются не только объектом и не только устройством органов чувств, но и формами взаимодействия организма с внешним миром. Последние имеют решающее значение, как в процессе онтогенетического формирования отражательного аппарата, так и в филогенезе его развития, где способ взаимодействия изменяет анатомию организма и его органов чувств.
Органы чувств новорожденного человеческого индивида несут в себе только возможность способности человеческим образом воспринимать мир. Эта способность становится действительной лишь в процессе освоения этого мира. Вначале деятельность органов чувств при восприятии вплетена в весь комплекс активного отношения индивида к действительности и лишь позже она приобретает относительную самостоятельность и начинает подчиняться только своему предмету. А предмет этот есть включенный в практическую человеческую деятельность предмет, он по существу определен ею. «Глаз стал человеческим глазом точно так же, как его объект стал общественным, человеческим объектом, созданным человеком для человека».[33]
Внешний мир новорожденному первоначально дан как в пространственных, так и в звуковых, осязательных и прочих характеристиках недифференцированно. Более того, само пространственное положение ребенка оказывается для него неопределенным, внешнее дано непосредственно и не выступает как внешнее. Лишь с помощью ориентировочно-исследовательских действий в процессе активного отношения ребенка к действительности мир «отодвигается» от ребенка и постепенно выступает в своих объективных свойствах. Различенность «зрительного», «слухового», «осязательного» и т. д. «фона» достигается только путем практического освоения ребенком окружающих предметов, то есть при согласованной работе костно-мышечного аппарата и органов чувств.
Под влиянием взрослых ребенок начинает овладевать орудийной деятельностью. Роль этого факта в развития восприятия заключается в том, что орудие изменяет формы активности индивидов, которые теперь определяются не только свойствами предметов, но прежде всего специфическими свойствами орудия.[34] Орудие «диктует» способ действия с ним и в отношении чего оно должно быть осуществлено. Использование ребенком предметов в качестве орудий не просто усложняет, а по существу преобразует его непосредственные действия.[35] Достижение предмета потребности теперь опосредуется теми вещами, которые сами по себе не удовлетворяют ни одной потребности ребенка. Если связанные с передвижением в пространстве простейшие практические действия дают возможность воспринимать и предвосхищать динамические взаимоотношения между собственным телом и предметной ситуацией, то использование орудий, дающее возможность преобразования межпредметных отношений, лежит в основе восприятия отношений между внешними предметами. Образ восприятия приобретает более четкую и более адекватную воспринимаемому структурную организацию.
Социальная среда и соответствующее обучение позволяют ребенку на определенном этапе его развития овладеть некоторыми видами продуктивной деятельности, которые направлены не только на использование уже имеющихся, но и на создание новых объектов. Эта продуктивная деятельность формирует у ребенка сложные виды анализа и синтеза в образе восприятия еще до выполнения конкретной операции в практическом плане. Соответственно приобретают новое содержание и значение воспринимаемые предметы. Например, уточняется контур предмета, начинает выделяться его структура, пространственные особенности его частей и соотношения их, выделяются функциональная значимость предмета в осуществлении действия и, следовательно, вместе с этим определяется его значение для себя.
Вслед за практическими действиями складываются соответствующие ориентировочные перцептивные действия, которые вначале носят внешне выраженный развернутый характер. По овладении практическим процессом эти перцептивные действия свертываются. Однако при усложнении условий восприятия процесс ориентировки в отдельных признаках объекта снова становится развернутым, глаз, например, начинает последовательно просматривать отдельные детали объекта, выделяя наиболее информативные точки. При этом движения глаза диктуются воспринимаемым предметом, они воспроизводят его форму, «ощупывают» (А. Р. Лурия) предмет, и благодаря ему у человека возникает адекватное предмету чувственное восприятие.
Функция адекватного отражения действительности в восприятии формируется и осуществляется в единстве функционирования органов чувств и предметно-практической деятельности человека, если первоначально ознакомление с предметом у ребенка происходит в ходе материальных действий с ним, то позднее перцептивные действия, выступая как сторона предметной деятельности субъекта, перестраиваются под влиянием практических операций,[36] становятся относительно независимыми от них, подчиненными только своему предмету[37] — превращаются в развитую форму деятельности восприятия.
Образ восприятия в процессе практических действий у ребенка очень рано увязывается с представлением. Это происходит в силу того, что всякое восприятие необходимо включает в качестве своего компонента мнемоническую функцию. Способность воспроизводить образ предмета при отсутствии действия его на органы чувств[38] в своем генезисе опосредствована способностью узнавания, которая реализуется первоначально только через целостное восприятие предмета, а потом — лишь какой-нибудь определенной его части. Еще позже образ предмета воспроизводится уже без наличия восприятия предмета, а только по ситуативному положению или по ассоциации с возникающими восприятиями других предметов. Образ предмета уже непосредственно не связан с самим чувственным предметом.
Уже в самом раннем детстве у ребенка с помощью взрослых формируется человеческое поведение. Этот процесс начинается с выработки навыков по удовлетворению элементарных естественных нужд и уже складывающихся и в этом процессе развивающихся человеческих потребностей. Здесь ребенок научается пользоваться предметами, созданными трудом других. Действия с этими предметами и способ этих действий обязательно приобретают определенную оценку индивида, значение для него, так как они производятся на основе потребностей ребенка. Вместе с тем это значение имеет объективный характер, поскольку действие выполняется адекватным предмету образом. Неоднократное повторение подобных ситуаций и возникновение в них новых задач и их последующее решение заставляет ребенка фиксировать внимание на существенном в воспринимаемом.[39]
Уже в восприятии наличествует доля обобщенности, диктуемая материальной обобщенностью, и еще более это относится к образу представления, так как он не имеет непосредственной связи с предметом.
Здесь образ утрачивает случайные моменты, сохраняя только существенное и необходимое. Выделение в процессе действий существенных моментов, свойств как субстанционального, так и функционального порядка является основой и самим процессом формирования понятия.[40]
Поскольку ребенок сразу включен в социальную среду, он осваивает также язык и речь. Слуховое восприятие слова формируется вместе с предметными действиями, «соединяясь» с конкретно воспринимаемыми, предметами, их свойствами и функциями. Значение предмета, множественность его значений «опредмечивается» теперь в звуковой оболочке слова и речедвигательных органах. Освоение ребенком в движении органов речи фонетического строя языка[41] побуждается целенаправленным включением его (ребенка) в человеческие взаимоотношения, регулируемые речью. Знаковая сторона слова так или иначе соотносит слово с предметом (его свойством, функцией),— и это первое, что отражается ребенком. По мере усвоения слова, его артикуляции, слово уже не просто соотносится с предметом, а в нем, через его звуковую оболочку проявляется понятие этого предмета — существенное и необходимое его содержание,[42] «… Состав объекта,— пишет П. Я. Гальперин,— вначале тщательно отображается (с помощью первичного действия) в голове ребенка, затем идеальная картина начинает опережать фактическое действие и происходит сокращение фактического исполнения. В этом сокращении слову принадлежит существенная ориентирующая роль: оно направляет действие на один из его результатов и сохраняет последний, который иначе быстро теряется, так как в чувственном материале он не представлен. Таким образом, слово является обозначением не только конечного результата, но и всего содержания сокращенного действия, без чего и сам идеальный результат не может быть представлен и удержан».[43]
Реальной основой существования человеческого живого языка является практическая жизнь общества. Она изоморфно воспроизведена в содержании его, в его логике, грамматике, лексике. Поэтому язык и является тем, «в чем обобщается и передается отдельным людям опыт общественно-исторической практики человечества; это, следовательно, также средство обобщения, условие присвоения этого опыта индивидом и вместе с тем форма его существования в их сознании».[44] Элемент языка — слово в своем звучании, в своей способности органически сочетаться с другими словами языка как бы снимает в себе все то, что люди множество раз проделывали с отражаемым ими предметом. Язык выступает не только как целостная система сигнализации в процессе практических коллективных действий,[45] но и как та объективная реальность, которую человеку необходимо освоить как в движениях органов речи, так и осуществляемых вместе с другими людьми целенаправленных, практических действиях.[46]
Усвоение языка происходит первоначально лишь в практическом общении и в связи с предметными действиями. Слово заучивается по мере того, как приобретается способность воспроизводить его органами речи. Упражнение последних связано с необходимостью общения в процессе жизнедеятельности, с постоянным восприятием звучания слов и их соотношением со зрительными, осязательными и т. д. восприятиями. Как и всякое другое восприятие, акустическое восприятие слова в процессе неоднократного повторения в различных ситуациях и в различных падежах, числах и т. д. приобретает оттенок обобщенности как по содержанию соотносимых с ним предметов (других восприятий), так и по фонетическому строю. Позже, и параллельно с речевым овладением фонетики, звуковой образ слова воспроизводится, т. е. запоминается. Осваивая язык как человеческую реальность, данную индивиду объективно в виде системы знаков, значения которых, будучи общественно-историческими по природе, являются практическими значениями вещей, явлений, процессов объективного мира, опосредствованными всей структурой языка,[47] и практически действуя с человеческим предметом, индивид усваивает объективное, независимое от него содержание языка, человеческой практики, формирует свое сознание.
Мышление представляет собой важнейшую форму человеческой психики. В ней осуществляется теоретическое познание действительности.[48] Оперируя понятиями, «сущностями» вещей, явлений, абстрактное мышление оказывается способным предвосхищать наступление будущих событий,[49] тем самым оно есть действенное средство практической деятельности. Но само оно в полной мере есть результат последней.
Усвоение определенной формы действия с предметом выявляет не только функцию его в этом действии, но и направленность этой функции, т. е. в отношении чего она осуществляется. Вместе с этим для ребенка начинает проступать и сущность межпредметных отношений, их необходимые закономерности. А по мере усвоения языка внешне-предметное действие может быть выражено в словесном, речевом плане и в дальнейшем редуцироваться от звуковой оболочки слов, приобретая характер внутреннего процесса, совершающегося в уме, во внутренней речи. А позже эти процессы «приобретают относительную самостоятельность и способность отделяться от практической деятельности…»[50] «Овладение мыслительными действиями,— говорит в другом месте А. Н. Леонтьев,— необходимо требует перехода субъекта от развернутых вовне действий к действиям в вербальном плане и, наконец, постепенной интериоризации последних, в результате чего они приобретают характер свернутых умственных операций, умственных актов»[51]. Таким образом, «мысль… представляет собой не что иное, как предметное действие, перенесенное во внутренний план, а затем ушедшее во внутреннюю речь».[52]
§ 3. Принцип деятельности и проблема сознания
Переход субъекта от развернутых вовне действий к действиям в вербальном плане с последующей интериоризацией его в план идеальный является необходимым процессом во всем онтогенетическом развитии человека, а не только на раннем этапе умственного развития. «Он имеет принципиальное, ключевое значение для понимания формирования человеческой психики, так как ее главная особенность состоит именно в том, что она развивается не в порядке проявления врожденных способностей, не в порядке приспособления наследственного видового поведения к изменчивым элементам среды, а представляет собой продукт передачи и присвоения индивидам достижений общественно-исторического развития, опыта предшествующих поколений людей. В дальнейшем всякое творческое продвижение мысли, которое человек делает самостоятельно, возможно лишь на основе овладения этим опытом».[53]
Активность, деятельность оказывается необходимой не только при формировании образа наличной предметной ситуации и форм действия в ней, но и при воспроизведении этого образа, когда отсутствует его предметная наличность. Чувственные анализаторы при этом начинают повторять те же движения, действия, которые они производили при восприятии предмета, ситуации, и как бы проецируют на действительный мир воспроизводимые ими чувственно отраженные свойства предметов. Происходит как бы процесс «раскодирования» закрепленных[54] в динамических системах органов и всего организма в целом и, в первую очередь, в его мозговых механизмах той информации, которая была получена при непосредственном восприятии и оценена всем опытом деятельности субъекта.
В раннем онтогенезе процесс развития деятельности восприятия слит с процессом усвоения объективной имманентной логики предметов. Здесь по существу неразличимо чувственное и рациональное, их единство не дано рефлексивным образом, т. е. чувственное и рациональное здесь непосредственно тождественны.[55] Лишь позже вычленяется как относительно самостоятельная деятельность органов чувств по восприятию и мышление как отражение логики предметно-практической деятельности, которое суть идеальная деятельность субъекта.
Общность предмета восприятия и мышления означает не просто тот факт, что этот предмет отражен в различных формах чувственного и рационального, а то, что практическая деятельность субъекта с этим предметом, лежащая в основе генезиса восприятия и мышления этого предмета, сохраняет постоянно свое определяющее значение единства их содержания.
Сохранение предметного содержания отражаемых объектов субъективным образом есть результат того, что сам этот образ формируется деятельностью. Как следствие практической деятельности образ сразу же включается в нее в качестве момента, обеспечивающего ее существование и развитие. То есть образ оказывается деятельным, сам преобразует, направляет материальный процесс деятельности, но это возможно лишь в силу истинности образа, его адекватности предмету. Адекватное восприятие (и мышление) внешнего опосредствовано включенностью индивида в систему форм человеческой деятельности и определенными формами активности самого субъекта. Эта включенность определяет также и тот факт, что предметы, явления отражаются не только с их внешней материальной стороны, а и со стороны их общественных свойств. Именно поэтому восприятие является важнейшим условием усвоения человеческой действительности, того мира, который недоступен непосредственно органам чувств. «Восприятие и усвоение опыта,— говорит А. М. Коршунов,— две стороны развития человека». [56]
Таким образом, та активность к внешнему миру, которая выступает со стороны становящегося человеческого существа и «включает» в процесс активного отношения органы чувств, есть только момент процесса формирования индивидуального сознания. Другой момент этого процесса заключается в том, что деятельность человека, будучи по природе и функции общественной, в рамках общества сама выступает условием (и способом) присвоения общественно-исторического опыта человечества. Именно в системе форм этой деятельности,[57] которая вместе с этим (а иногда и только,— например, воспитание, обучение) направлена и на формирование человеческой личности, индивид получает возможность присвоения «человеческих сущностных сил» (К. Маркс), опредмеченных в материальной культуре, языке, формах деятельности.
Глава II. Основные определения деятельности
§ 1. О некоторых подходах к анализу проблемы деятельности
Имея ввиду показать лишь подходы к решению проблемы деятельности, мы укажем только на исходные положения некоторых существующих в нашей литературе концепций.
В работах Г. Батищева, А. Огурцова, О. Дробницкого и др. деятельность определяется как единство распредмечивания и опредмечивания. Носителем деятельности здесь является индивид, «который весь опосредствован социальным целым и представляет собой индивидуализированную тотальность общества».[58] Сама же деятельность «образует собой весь культурный мир общественного человека, человеческую действительность. Деятельность и есть «способ бытия» всей этой действительности, а никоим образом не процесс, замкнутый в одних лишь сознательно предусмотренных и воле адекватных ее аспектах».[59] Поскольку «человеческая предметная деятельность находит свою логику в логике каждого особенного предмета самого по себе»,[60] «поскольку в ней человек движется по законам субстанции деятельности — природы»,[61] постольку она получает определение субстанциальности, характеристику которой принимает на себя и субъект как универсально-всеобщая сила самой природы. Но вместе с этим деятельность и субъективна, так как она является активностью субъекта. Анализ данной проблемы у авторов возводит понятие деятельности в одну из важнейших и содержательных категорий и никоим образом не сводится лишь к анализу труда, материального производства, а осмысливает процесс деятельности как универсальную характеристику человеческого бытия. По нашему мнению, именно в этом контексте возможно исследовать всеобщую форму осуществления деятельности, ее всеобщие моменты и условия.
В концепции А. Н. Леонтьева деятельность определяется как процесс, осуществляющий «то или иное жизненное, т. е. активное, отношение субъекта к действительности».[62] Но поскольку деятельность, по автору, свойственна и животному, то субъектом ее оказывается любой живой организм. Такая расширительная интерпретация субъекта и деятельности приводит к тому, что эти понятия в различных случаях наполняются различным содержанием. Содержательное развитие деятельности (и ее форм) есть в любом случае развитие деятельности, но становление ее суть развитие предшествующих ей форм активности, которые не могут и не должны быть отождествлены с понятием деятельности. Точно так же обстоит дело и в отношении становления субъекта. Ребенок еще не субъект (деятельности), и формы его активности еще не есть собственно деятельность. Активность, выражающая его потребности, есть лишь условие становления ребенка субъектом, сутью которого (становления) является усвоение индивидом исторически выработанных форм деятельности в обществе. Если же речь идет о животном, то формы его активности в принципе ограничены в своем развитии, они выражают лишь его биологические потребности и осуществляются они принципиально иначе. Эти существенные различия и определяют невозможность отождествления форм активности животного и человека и, соответственно, выражения их в одном понятии — деятельности — точно так же, как носителя этих форм — в понятии субъекта.
Разработка проблемы деятельности А. Н. Леонтьевым определяется задачей психологии объяснить возникновение и развитие психики и на основе определенной концепции деятельности показать зависимость психики от характера и строения внешней деятельности, а вместе с тем и характер включения ее в эту деятельность. Поэтому у автора с самого начала различаются внешняя предметная деятельность и деятельность внутренняя. Последняя производна от первой и сохраняет «принципиальную общность» с ней, она опосредствует ее.[63] Деятельность «человеческого» субъекта у А. Н. Леонтьева определяется («производится») обществом, ибо «общественные условия несут в себе мотивы и цели его (человека — Г. Л.) деятельности, ее средства и способы»,[64] она «рассматривается как процесс, включенный в систему отношений, осуществляющий его общественное бытие, некоторое есть способ его существования также и в качестве природного, телесного существа».[65]
В целом концепция А. Н. Леонтьева позволяет не только решить основные проблемы психологии, но также и многие гносеологические вопросы. В ней проводится достаточно полный анализ некоторых основных моментов деятельности, который во многом способствует решению проблемы деятельности в философии.
Необходимость построения методологической системы для изучения психики человека в плане усвоения субъектом общественно-исторического опыта и изучения форм реального поведения людей породила еще одно направление в изучении деятельности. Оно в основном разрабатывается Г. П. Щедровицким и др. и претендует на так называемую «общую теорию деятельности», где деятельность представлена как «бессубъектная». «Человеческая социальная деятельность,— говорят С. Г. Якобсон и Н. Ф. Прокина,— должна рассматриваться не как атрибут отдельного человека, а как исходная универсальная целостность значительно более широкого порядка. Не отдельные индивиды создают и производят деятельность, а, наоборот, она сама захватывает их и заставляет «вести» себя определенным образом. При таком подходе сами люди рассматриваются как принадлежащие к деятельности, включены в нее в качестве элементов наряду с машинами, материалами, знаками, социальными организациями и т. п. Все эти элементы различным образом связаны друг с другом. А деятельность, рассматриваемая таким образом, оказывается структурой, точнее, полуструктурой, с многочисленными и весьма разнообразными элементами и связями между ними».[66] Авторы здесь не ставят своей задачей дать понятие деятельности, исследовать ее сущность. Исследователей этого направления в изучении данной проблемы деятельность интересует лишь как структура, как «многослойное образование», как «общественно-фиксированные нормы деятельности», противостоящие индивиду и которыми индивид должен овладеть, чтобы «в дальнейшем осуществить личную деятельность».[67] И далее деятельность, «очевидно, уже не может быть взята безотносительно к субъективности».[68]
Приведенные мысли авторов уже достаточно хорошо характеризуют цели и аспекты их исследований. Ставя и определенным образом решая одну из реальных научных проблем, Г. П. Щедровицкий и др. вместе с тем объективно приходят к философски несостоятельным следствиям. Логика необходимо приводит их к онтологизации деятельности и низведению субъекта до простого исполнителя.
Системно-структурный анализ, которым пользуются авторы, как метод «решения частных научных вопросов»[69] принципиально непригоден там, где решаются философские, гносеологические проблемы. Проблема субъекта и его отношения к объекту суть проблема философская, поэтому анализ деятельности, которая выступает как способ реализации этого отношения, методом системно-структурного анализа уводит Щедровицкого и др. от существа проблемы. Правда авторы не ставят своей задачей исследовать специально проблему субъекта-объекта, но решения философских вопросов нельзя избежать, если решаются общие методологические вопросы.
Поскольку системно-структурный анализ представляет собой «определенное направление конкретно-научного исследования»,[70] постольку все попытки решить с помощью него проблему деятельности как проблему философскую приводят лишь к формальному разложению деятельности на типы, виды и т. п., т. е. проводят социологический анализ форм разделенного труда в обществе. «В последние годы ряд советских философов стал разрабатывать теорию деятельной сущности человека … Однако при этом человеческая деятельность рассматривалась в ее сущностном аспекте как единство «опредмечивания» и «распредмечивания»; что же касается морфологического аспекта проблемы, то он затрагивался лишь вскользь, не становясь предметом специального анализа».[71] Э. С. Маркарян согласен с М. Г. Каганом в том, «что научно-теоретический анализ для более глубокого понимания явлений обязан расчленить реальную целостность, обнаружить составляющие ее элементы и выявить структурную связь целого».[72] Оба автора, определяя таким образом свою задачу, однако в результате исследований представляют различную «морфологию», это различие зависит от целей их анализа, так как они исследуют не проблему деятельности, а деятельность представляют таким образом, как требуют этого их определенные задачи. Поэтому здесь не сущность выражается (проявляется) в определенной форме, а форма в отрыве от сущности интерпретируется в соответствии с целью исследования. Э. С. Маркарян анализ деятельности проводит лишь с целю, «дать четкие критерии выделения основных структурных срезов человеческого общества и соответственно критерии группировки его элементного состава».[73] Поэтому и структура деятельности, по автору,— «лишь один из главных структурных срезов общества».[74] М. С. Каган шире определяет задачу. «Перед марксистской наукой,— говорит он,— стоит … задача построить теоретическую модель данной системы (человека — Г. Л.) т. е. определить, какие же компоненты являются необходимыми и достаточными для того, чтобы она возникла, приобрела историческую устойчивость и способна была нормально функционировать».[75] В соответствии с этим определяется и деятельность как «активность субъекта, направленная либо на объект, либо на субъект…», которая «может быть практической, т. е. затрагивающей реальное бытие предмета, на который она направлена, и отраженной, духовной, т. е. оставляющей реальный предмет неприкосновенным и производящей с ним лишь идеальные операции».[76] Это определение достаточно содержательно, но метод автора приводит его лишь к формальному «расчленению» и дальнейшему сведению в схему некоторых действительных определений человека и его деятельности.
«Структурность деятельности, выделение в ней звеньев, с одной стороны, относительно самостоятельных, а с другой — взаимно предполагающих друг друга является ее необходимой чертой»,— говорят А. Полторацкий и В. Швырев.[77] У авторов под деятельностью понимается материальная преобразовательная деятельность общества и с точки зрения окончательного продукта ее намечаются пути выявления структуры деятельности. Зависимость осуществления одних действий от других, и в соответствии с этим определенное распределение ролей в процессе производства предмета позволяет авторам рассматривать деятельность как систему, имеющую «свои уровни и слои, одни из которых более тесно связаны с непосредственными действиями, другие отстоят от них дальше».[78] Таким образом, здесь мы также имеем один из подходов к рассмотрению общественно разделенного труда методом системно-структурного анализа.
§ 2. Обоснование диалектического метода исследования проблемы деятельности
Необходимые и всеобщие моменты процесса деятельности субъекта, поскольку они диалектически взаимосвязаны, в результате исследования предстают в определенной системе, имеющей свою определенную структуру. Однако это лишь внешний для исследования результат. Сам же процесс исследования совершается в соответствии с имманентной логикой предмета и адекватными ему средствами. Решение проблемы деятельности включает в себя исследование гносеологических вопросов, вопросов общефилософского и методологического порядка, а поэтому системно-структурный анализ здесь недостаточен. Исследование деятельности методом диалектики как универсальным средством анализа[79] дает нам понятие деятельности как способа человеческого бытия, и это понятие будет выражено в системе категорий.[80]
Любое научное понятие, категория имеет историческое происхождение, формируется тогда, когда отражаемое в ней явление достигло достаточной степени развития.[81] Историческая обусловленность возникновения понятий однако совершенно не отрицает возможность исследовать отраженное в них явление чисто логическими средствами. «С чего начинает история, с того же должен начинаться ход мыслей, и его дальнейшее движение будет представлять собой не что иное, как отражение исторического процесса в абстрактной и теоретической последовательной форме; отражение исправленное, но исправленное соответственно законам, которые дает сам действительный исторический процесс, причем каждый момент может рассматриваться в той точке его развития, где процесс достигает полной зрелости, своей классической формы».[82] Здесь можно констатировать тот факт, что теоретическое мышление как логическое движение понятий совпадает с порядком исторического развития соответствующих этим понятиям явлений в исследуемой конкретности.
Понятия исторически определены также в том смысле, что имеют определенный момент возникновения, и это возникновение вызвано объективными условиями социального порядка, хотя отражаемое в них могло существовать или существует задолго до его познания. Отражаемое — не только социальная реальность, развивающаяся вместе с историей, это также и включенная в эту реальность природа, которая раскрывает себя в формах деятельности человека. Поэтому возникновение понятий зависит от предметно-практической социальной деятельности людей, но их развитие далеко не всегда протекает параллельно развитию предмета отражения, а зависит именно от практической (а, значит, и теоретической) значимости и включенности предмета (явления) в социально-производственную жизнь человека.
Однако логика, анализирующая развитое целое, делает историю «подчиненным» моментом, рассматривая исторически определенные формы развивающегося явления как особенные моменты проявления сущности.[83] Постижение последней происходит не способом нахождения и отвлечения общих признаков исторических форм рассматриваемого явления, а путем исследования движущих моментов его, моментов, определяющих развитие целого. Тем самым констатируется всеобщность. Но это не внешняя схожесть, общность по сравнению, а внутренние моменты, определяющие целостность явления и лишь проявляющиеся в многоразличных формах в зависимости от внешних условий. Капиталистический способ производства, например, исторически и территориально проявляется в различных своих формах, более или менее адекватных своей сущности, но сущность его сохраняется, и теоретическое его воспроизведение есть воспроизведение именно этой сущности его, а не его особенных (локальных) форм. Поэтому конкретно-всеобщим понятием выступает теоретически воспроизведенное всеобщее, существенное и необходимое содержание исследуемого явления. Содержательное развитие моментов целого не отрицает тождественности себе по существу их взаимосвязей внутри этого конкретного.[84] Это развитие (в действительности или в теории) моментов целого есть исторический путь становления последнего (и, соответственно, его теории), и он зависит от социально-исторических условий, от условий включенности отражаемого в социально-производственную жизнь человека, но как таковые эти моменты наличествуют в явлении необходимо, раз оно определило себя как таковое явление. Явление перестает существовать в качестве такового лишь в силу изменения его существенных определений: изменения его структуры и взаимозависимости его моментов, исчезновения одних из них, появления новых и т. д. Разумеется, эти процессы происходят через противоречивое развитие содержания целого.
Познание явления (теоретическое воспроизведение его) зависит не только от материальных исторических условий развития явления и материальных потребностей общества, но и (в соответствии с этим) от средств мыслительной, теоретической деятельности — наличия соответствующих понятий и методов. Даже сама постановка теоретической проблемы, фокусирующей в себе сущность познаваемого явления, определена именно наличием соответствующих понятий и практических потребностей общества. Всякое новое явление, как только оно в результате вышеуказанных условий находится сознанием, постигается теоретическим мышлением первоначально в системе уже наличествующих понятий и существующими методами. Если этими средствами мышление не в состоянии объяснить имеющийся эмпирический материал,[85] а значит, и воспроизвести сущность обнаруженного явления, эти понятия и методы пересматриваются, диалектически отрицаются.[86]
Адекватность анализа исследуемого явления непосредственно зависит поэтому от метода. Метод «не есть нечто отличное от своего предмета и содержания, ибо именно содержание внутри себя, диалектика, которую он имеет в самом себе, движет вперед это содержание. Ясно, что нельзя считать научными какие-либо способы изложения, если они не следуют движению этого метода и не соответствуют его простому ритму, ибо движение этого метода есть движение самой сути дела».[87]
Диалектика как всеобщий метод в своем движении вскрывает особенную логику особенного предмета. Объект как различным образом включенный в многообразию человеческую действительность может изучаться различными науками, т. е. с различных своих «сторон», «аспектов», и, следовательно, различными методами, поскольку это уже различные предметы и имеют свою специфическую логику. Когда преследуются цели получения не какого-либо «частного» результата, а постижения конкретного в понятии,[88] то здесь необходимо должен применяться философский метод, обладающий всеобщностью и поэтому единственно способный дать теоретическое, научное понятие. Всякий частный метод тут не способен привести к истинному результату. Частные методы ставят перед собой частные цели, анализируют отдельные особенности, аспекты целого, но не само целое.
Но «истина никогда не рождалась и не рождается путем простого суммирования «разных» аспектов, путем объединения разнородных точек зрения».[89] Например, математический, статистический, метод системно-структурного анализа[90] и др. ни в отдельности, ни в сумме не могут дать понятия деятельности, но неизбежно в исследовании своего предмета, вычленяемого в этом явлении (т. е. деятельности), используют в качестве предпосылки исследования определенное понятие деятельности или некоторое представление ее.
Эта опосредующая роль понятия имеет всеобщее значение, свойственна как практической так и теоретической деятельности. Истинно научное понятие явлений социально-исторической действительности может дать лишь диалектический метод «как метод восхождения от абстрактного к конкретному», как «способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его как духовно конкретное».[91] Имея в качестве предпосылки это научное понятие, понятие как теорию,[92] можно в дальнейшем плодотворно исследовать частные особенности явления с целью конкретного практического освоения, преобразования.[93]
Определенное мировоззрение необходимо лежит в основе любого подхода к познанию явлений, и явлений не только социально-исторических, но и сугубо природных. В этих сферах теоретической деятельности (гуманитарной и естественно-научной), характеризующихся не только принципиальным различием объектов, но и специфичностью методов, содержание мировоззренческой основы выражено различно.
Определяющая роль бытия в отношении сознания (познания) выступает не непосредственно. Одно из первых опосредствований познания заключается в субъективно и социально-исторически определенной потребности, которая, будучи специфической формой отношения человека к действительности, вместе с тем как объективно определенная оказывается объективной основой формирования общего воззрения на действительность. Поскольку естественная наука рассматривает предмет как внешний, безразличный к человеку, независимый от него, от его человеческого бытия, постольку ей кажется, что и она сама независима от человека. Однако эта зависимость выражается не только в общественно обусловленных потребностях, но и в самом ее способе мышления, определенном социально-исторически.
Мировоззрение, даже будучи нерефлектированным содержанием сознания индивида, выступает для последнего объективно. Объективность мировоззрения суть та определенность содержания сознания, которая от индивида не зависит, дана ему как общественно-историческая форма и способ отношения к действительности. Лишь в развитом теоретическом сознании индивида критическая рефлексия способна изменять мировоззренческое содержание его. Но и в этом случае изменение содержания сознания не есть лишь субъективно определяемый процесс — он связан с практическим постижением мира в процессе чувственно-материальной деятельности индивида и, следовательно, определен объективно, определен именно этой действительностью, которая берется не в форме объекта или в форме созерцания, а как чувственно-человеческая деятельность, практика, субъективно (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, соч., т. 3, стр. 1). Поэтому мировоззрение есть одна из форм опосредствования любой деятельности, а тем самым способ мышления не есть лишь отражение логики особенного предмета, он отражает (обусловлен, определен) также логику всеобщего человеческого предмета, человеческого бытия.
Глава III. Основные определения деятельности (продолжение)
§ 1. Предпосылки и условия деятельности как ее собственные определения
Факт возникновения сознания в процессе жизнедеятельности индивида (а как оказалось при более близком рассмотрении — в процессе его предметной орудийной деятельности по удовлетворению его потребностей в обществе),— этот факт сам по себе еще ничего не говорит о конкретных предпосылках и условиях его формирования и существования. Более того, он относит эти предпосылки к условиям самой деятельности, ибо, чтобы возможно было возникновение сознания, должна уже наличествовать возможность орудийной деятельности. Но, с другой стороны, само сознание возникает как условие деятельности[94] и в этом смысле есть предпосылка ее. Однако сознание не есть действительная предпосылка деятельности точно так же, как деятельность не есть предпосылка сознания,[95] ибо, возникая вместе с деятельностью, сознание существует как ее собственный момент, как деятельность сознания, опосредствующая материальный практический процесс.
Мы рассматриваем деятельность в ее всеобщих определениях как становящуюся, саморазвивающуюся систему, в качестве предпосылок имеющую те определенности, которые первоначально внешни ей, а потом как снятые входят в ее определения. Следовательно, эти предпосылки и условия должны в такой же мере и воспроизводиться, и воспроизводиться не только в качестве снятых определений деятельности, но и в качестве внешних ее условий. Лишь наличие этих предпосылок в качестве внешних условий оказывается основой существования деятельности, и как основа они определяют собой деятельность.
Понятия предпосылок и условий не тождественны. Первые предпосланы, следовательно, имеют своим источником нечто иное тому, чему предпосылаются, условия же лишь в качестве внешних есть предпосылки, в собственном же своем содержании они воспроизводятся самим движением саморазвивающегося явления. Рука, мозг и т. д. как предпосылки деятельности воспроизводятся иначе, чем как условия ее. В первом случае они даны как биологические органы телесного индивида со специфическими им физиологическими особенностями, а в последнем — они функционируют уже как универсальные средства осуществления деятельности, как снявшие ее всеобщую логику, как определенные ею. Как условия эти телесные органы, будучи определены логикой деятельности, воспроизводятся в качестве условий самой деятельностью.
То, что мы говорим в отношении руки, мозга, гортани и т. д. как предпосылок деятельности, непосредственно принадлежащих субъекту, нельзя сказать о тех внешних условиях деятельности, которые находятся вне субъекта,— объектных предпосылках ее. Объектные предпосылки непосредственно сразу есть условия деятельности, причем такие условия, которые в полной мере определяют ее процесс. В этом их принципиальное отличие от субъектных условий. Деятельность возможна лишь как движущаяся по логике объекта. И наоборот, «логика» руки, мозга и т. д. есть отражение логики деятельности, она сама формируется на основе и в процессе деятельности. В качестве предпосылок деятельности эти телесные органы характеризуются лишь способностью (возможностью) овладения логикой объекта (деятельности). Эта способность есть результат всего филогенетического развития человека. Человеческому индивиду в исторический период она дана и воспроизводится биологическими (генетическими) механизмами.[96]
Объективные предпосылки в своем существовании и «развитии абсолютно независимы от субъекта, они даны субъекту как безразличные к нему, и человек сам определяет[97] (и использует) их как предмет и как средства своей деятельности. Деятельность преобразует природу в соответствии со своими целями. Объективные предпосылки теперь выступают в преобразованном виде, в виде созданных по логике потребности воспроизводимых и развивающихся в деятельности ее собственных условий (т. е. в определении средства или предмета). Субъективная определенность их получает здесь внешне выраженную устойчивость. Производство и воспроизводство этих условий в предметных формах культуры есть результат самой деятельности. Предпосылкой теперь выступает лишь объектная, природная определенность этих предметных форм человека.
Таким образом, здесь получено противоречие: объективные предпосылки определяют деятельность (она движется по их логике) и эти предпосылки определяются деятельностью в ее преобразовательном процессе как зависимые от нее ее собственные условия. Это полученное противоречие отражает противоречивую природу самой деятельности.
Определяющие деятельность предпосылки (т. е. объект) не являются сами по себе непосредственно источником, причиной деятельности. Как причина деятельности они выступают лишь будучи определены субъективно, т. е. лишь когда определения объекта оказываются предметом потребности. Или иначе: объект оказывается движущим (и определяющим) деятельность лишь будучи предметом потребности, он вызывает деятельность не сам по себе, а через потребность субъекта. Потребность есть определенность субъекта, которая выражает столь же определенное[98] отношение субъекта к объекту. Поскольку объект не дан субъекту непосредственно в форме, удовлетворяющей потребность, то отношение потребности выступает как противоречие субъекта, которое может быть разрешено лишь в том третьем, которое снимает определения субъективного и объективного. Это третье и суть предмет потребности, т. е. объект, определенный субъективно (потребностью). Предмет потребности, или предметная потребность, и суть источник, причина деятельности.
Продукт как преобразованный по логике субъективной потребности объект снимает противоречие потребности и, следовательно, противоречивость отношения субъект-объект. Но это тождество субъективного и объективного означает также, что потребность теперь определена объектом, но не в смысле только направленности к объекту, в котором она видит свой разрешающий ее противоречие предмет, а в том смысле, что само ее противоречие определилось найденным и преобразованным в деятельности содержанием объекта. Потребность теперь есть определенная потребность.
Таким образом, деятельность, будучи положена потребностью субъекта и в этой положенности определена своими внешними предпосылками и условиями, определяет также и потребность как свою непосредственную причину и определяет ее через свои собственные условия и предпосылки.
Итак, делая определения внешне данных предпосылок и условий своими собственными, деятельность воспроизводит их в преобразованном (т. е. ею определенном) виде в качестве своих собственных своим движением положенных условий, которые теперь есть не только внешние предпосылки, но как предпосланный себе свой результат.[99] Мозг человека есть, например, предпосылка сознания,[100] но, с другой стороны, он даже в своем естественном развитии подвержен влиянию таких факторов как труд и речь.[101] Рассматриваемый в системе деятельности мозг в качестве простой объектной определенности есть предпосылка ее (следовательно, сознания), а со стороны функциональных его определений в деятельности он есть следствие ее, которое выступает уже непосредственно как условие.
Деятельность есть деятельность субъекта. Материальные вещи, с которыми имеет дело субъект, поэтому не являются ее собственными моментами. Они вне этой деятельности, они подвержены ее действию. Но, испытывая на себе ее действие и тем самым меняя форму своего движения, природная вещь сохраняет свое бытие в качестве природной лишь в подчиненных цели деятельности определениях. Это уже преобразованная вещь, и лишь в этом образе она может служить породившей ее потребности.[102] А как таковая она выступает и своими специфическими определениями в деятельности: ее предметом и ее средством. Деятельность, таким образом, становится все более свободной[103] от безразличия внешней материальности: она образует ее по своим собственным законам.
Преобразованная материальность как чувственный исторический человеческий предмет, а не просто природная данность, и есть в первую очередь то объективное, которое в полной мере определяет способ и содержание человеческого бытия, сознание человека и формы его активности. Этот предмет как устойчивая форма человеческой субъективности есть основа и условие движения практики и познания как развития самих предметных форм и действительного человека.
Определения, которые получает деятельность со стороны внешних материальных вещей (т. е. со стороны объекта) мы и анализируем как определения этих вещей деятельностью. Это значит, что деятельность определяет эти материальные объекты как свои предпосылки и условия (как предмет и средство), а последние в качестве объектных определенностей, то есть именно в качестве безразличной материальной данности, определяют способ деятельности. Но определяя таким образом деятельность, материальная вещь выступает уже не просто как таковая, а как предмет или средство,— иначе: в качестве таких определений, которые одновременно есть определения деятельности.
§ 2. Потребность как форма отношения субъекта к объекту
То определение, которое потребность получает в предмете (предметность), выступает как самое общее и бедное, и потребность далее определяется особенным содержанием конкретного предмета.[104] Изменение предметного содержания потребности зависит не только от факта преобразования объекта, т. е. не только от того, что деятельность создает предмет потребности, но и от того факта, что она находит (дает) новый предмет: ее предметная сфера постоянно расширяется.
Следовательно, полагая деятельность, потребность через нее приходит опять к себе, но она теперь уже другая содержательно как снявшая в себе (через предмет) процесс деятельности и его условия.[105] Оставаясь по сущности тождественной себе как предметное отношение субъекта, потребность обогащает в деятельности свое содержание, изменяя тем самым формы своей реализации, т. е. деятельности.
Любая потребность реализуется в результате активности. Поскольку последняя положена потребностью, она сразу определена ее содержанием. Активность снимает предположенные определения потребности и определяет ее объективно. Тем самым и сама активность оказывается определенной этой действительностью: она движется по определениям объекта, но движется в логике субъективной потребности.
Определяя потребность, но будучи положена ею как свое отрицательное, активность и снимает эти определения, сохраняет их в себе. В формах активности потребность поэтому «знает» себя. Ее исчезновение в результате деятельности выступает как проявление ее содержания в другой, идеальной, форме, в форме знания.
Поэтому результат деятельности не есть только реализация той потребности, которая вызвала ее и, следовательно, он не заключается лишь в снятии предпосылок деятельности. Результатом ее оказывается и знание потребностью себя и не просто как субъективной определенности, а именно как определенного объектом отношения к своему предмету. Поэтому всеобщность отношения потребности как предпосылки деятельности теперь выражена (воспроизведена) в идеальной форме, в которой оно (отношение) сохраняет свое содержание. Это значит, что идеально дан и предмет в его объективной характеристике. Это значит также, что и деятельность теперь может быть идеальной, т. е. реально не изменяющей бытие объекта.
Если первоначально потребность лишь предполагает свой предмет и полагает определенную собой активность по достижению этого предмета, то в дальнейшем положенная ею активность как чувственный материальный процесс находит действительное объективное содержание этого предмета и, следовательно, самой потребности.[106]
Субъекта поэтому делает субъектом не что иное, как именно его отношения к объекту, которые полагая активность, определяются в ней и в ее формах осознаются.
Этот процесс полностью опосредствован системой общественных отношений, т. е. человеческий индивид становится субъектом лишь в обществе, где мир дан ему не как предмет его биологической потребности, а как историческая культура, определенная общественно-историческим развитием человечества. Эта культура и производит объективное, предметное определение его отношения к миру. Даже форма его природного отношения, определенная его человеческой телесной конституцией,[107] уже не есть его индивидуальное определение, дано ему не в его индивидуальной (биологически родовой) форме, а в общественно-историческом способе производства. В онтогенезе человеческий индивид в действиях с человеческим предметом как раз и находит (формирует) свое истинное субъективное определение отношения. Возможности его естественно-природной организации становятся действительными условиями реализации его человеческого бытия. Человеческим образом развитые органы чувств, рука и мозг выступают универсальными средствами чувственно-практической деятельности человека, следовательно, вместе с тем и условиями познания объективного мира. В этом же процессе онтогенетического развития человеческий индивид осваивает, человеческую природу, в которой опредмечены «сущностные силы» общественно-исторического человека, и тем самым становится действительным субъектом. Совокупность общественно определенных его отношений к действительности и делают его субъектом познания и действия.[108] «Человеческая сущность природы,— говорит К. Маркс,— существует только для общественного человека; ибо только в обществе природа является для человека звеном, связывающим человека с человеком, бытием другого для него, жизненным элементом человеческой действительности; только в обществе природа выступает как основа его собственного человеческого бытия».[109]
Итак, субъективное отношение потребности определено одновременно объективно. Объективность отношения, во-первых, заключена в том, что она (потребность) определена естественной природой человеческого индивида, а во-вторых, в том, что все последующие определения отношение потребности получает извне.[110] В объективном мире отношение потребности находит свое содержание и тем самым завершает свое субъективное определение в качестве отношения субъекта именно к данному содержанию.
§ 3. Предмет как единство субъективного и объективного определений деятельности
Определяя себя предметно, потребность вместе с тем определяет и предмет, но как субъективное отношение она определяет его субъективно. Однако предмет определен и объективно, и эта объективная определенность предположена самим отношением, его субъективностью. Положенная тем же отношением деятельность в своем процессе реально определяет предмет (и отношение) и этим снимает субъективную предположенность в объективной действительности. И лишь в силу того, что отношение определяется объективностью предмета, сам объект определяется субъективно, и не только в субъективной форме отношения к нему,[111] но и в действительной, чувственной форме реализации этого отношения (деятельности), в форме продукта, результата ее. Этот продукт деятельности человека и представляет собой действительный предметный мир человека, очеловеченную природу, предметное бытие человеческих сущностных сил.
Таким образом, подобно потребности предмет определен двояко: он определен субъектом как предмет его потребности (отношения), но он же сохраняет в себе и свое самостоятельное объективное бытие, определенное его материей. Это второе определение предмета дано субъекту через его потребность, следовательно, субъективно, а значит, оба определения предмета, и объективное и субъективное — существуют в единстве как противоположности. Их противоречивое единство и суть понятие предмета.
Поэтому содержание предмета тождественно тому содержанию объекта, которое выступает потребности (отношению),[112] т. е. предмет суть тождество субъективного и объективного определений действительности.[113] Предмет — это всегда предмет чего-то.[114] Это нечто определяет предмет и в этом определении снимает некоторое особенное содержание объекта.
Под последним мы понимаем ту реальность, которая характеризуется независимостью по отношению к сознанию субъекта. Сознание постигает объект лишь в формах деятельности, а здесь он выступает как предмет. Это значит, что предмет есть форма данности объекта субъекту, в которой объект оказывается зависимым от субъекта. Человек преобразует объект. В этом он, правда, «может действовать лишь так, как действует сама природа, т. е. изменять лишь формы веществ».[115] Однако «человек не только изменяет природу того, что дано природой, он осуществляет вместе с тем свою сознательную цель…»[116] То есть все определения объекта, который оказался в сфере деятельности человека, суть определения, производимые субъектом в процессе его деятельности.[117] Тем самым это и есть человеческий предмет, превращение объекта в предмет, развитие этого предмета.
Предположенная в потребности предметность получает свое действительное субъективное определение в деятельности. Это вместе с тем есть особенное определение объекта,[118] которое определяет само содержание потребности, отношение субъекта к этой объективной определенности. Выраженное здесь единство обоих определений предмета заключено, следовательно, в деятельности субъекта. Деятельность и производит эти оба определения. Определяя предмет для потребности, она и реализует эту потребность, т. е. отрицает ее и тем самым себя, угасает в этом своем результате, но тем самым в форме потребности к этому своему результату со стороны субъекта деятельность воспроизводит свои предпосылки. Это происходит в силу того, что удовлетворение потребности есть всегда лишь удовлетворение особенных, единичных потребностей, но всеобщность этого отношения в результате деятельности воспроизводится вновь как некоторое особенное и тем самым производит отрицание первого отрицания.
Эта отрицательность деятельности и суть то, что движет развитие ее форм и содержания. Деятельность поэтому не тавтологична. И главным моментом, опосредствующим это развитие, является предмет, с которым деятельность «имеет» дело и который сохраняет свое самостоятельное бытие (как в форме чувственной наличности, так и в форме знания субъекта) в ее процессе. Более того, деятельность в своем процессе, имеющем смысл только лишь для субъекта, его наличной потребности развивает этот предмет, раскрывая объективные его определения и делая одновременно его субъективной определенностью. Следовательно, она развивает также и субъекта.
Деятельность, таким образом, выступает формой саморазвития субъекта и его предмета, единство которых и составляет человеческую действительность. А развитие каждого человека здесь измеряется богатством его отношений к этой действительности. Развитие этих отношений тождественно развитию самого человека, и оно происходит по мере того, как деятельность включает в мир человека новые предметы, своим содержанием определяющие отношение к ним человека. Поэтому отношение в полной мере выражает сущность относящегося, и человек, реализующий лишь биологические потребности не есть собственно человек и человек лишь настолько, насколько человеческим способом он это делает.[119]
Предмет — лишь субъективно определенный момент объекта. Объект движется по своим имманентным законам. Но субъективная потребность «видит» его лишь в своей собственной логике, т. е. как предмет, способный разрешить ее противоречие. Лишь эта предметная потребность полагает определенную ею деятельность. Поэтому сам предмет выступает побудителем активности[120] и именно потому, что в понятии предмета заключено субъективное определение: предмет как обладающий объективной определенностью и в этой характеристике независимостью от субъекта, безразличием к нему как раз этими особенностями определяет отношение к себе, т. е. субъективно определяется.
Как форма данности объекта субъекту предмет одновременно есть знание объекта.[121] Предмет потому может существовать в форме знания, что он есть результат деятельности, что субъективная определенность его отождествлена в формах деятельности с его объективной определенностью. Предположенное выступает в положенности тем, чем оно может быть в данных объективных условиях, т. е. в процессе отождествления субъективной и объективной определенностей предмета (в процессе деятельности) не просто субъективным определяется объективное, а наоборот, объективное определяет субъективное, формирует его логику в соответствии со своей.
Так как предмет дан субъекту в форме знания, субъект сознательно определяет предмет своей потребности, т. е. идеально определяет результат будущей практической деятельности, иначе, ставит цель и в соответствии с ней полагает свою материальную деятельность. Реальному контакту с чувственным миром теперь предшествует идеальная деятельность, которая внечувственным образом реализует столь же внечувственную потребность, которая лишь знает себя и в этой форме (знания) предвосхищает себя как реальную потребность. Предположение потребности теперь выражено в форме цели, т. е. сознательного определения результата; или иначе: субъективная определенность предмета (отношения) выражена в форме идеальной деятельности.
Поэтому идеальная деятельность (мышление) с самого начала определена как такая форма ее (деятельности), которая возникает и существует как средство деятельности практической, как деятельность, опосредствующая реализацию практических человеческих потребностей. Однако именно в этой идеальной форме и средствами этой идеальной деятельности происходит освоение человеком многообразного содержания общественно-исторической культуры,[122] развитие истинно человеческих потребностей,[123] и именно потому в этой форме, что непосредственное наличное бытие индивида конечно и ограничено, а в качестве человека (субъекта) этот индивид может выступить лишь как снявший всеобщие человеческие определения, лишь как нечто опосредованное этой культурой, т. е. не только как результат его непосредственной общественно-практической материальной деятельности, но как результат всей истории.[124] Это идеальное воспроизведение индивидом предметов человеческой культуры превращается в основу его действительно субъективного отношения к миру. Человек поэтому опосредствует свое отношение к действительности познанием ее.[125]
§ 4. Практическая деятельность и познание
Отождествление противоположных определений предмета потребности (снятие их противоречивости) происходит в результате преобразования объекта. Преобразование объективной определенности предмета не есть разрушение его субстанционального бытия, а наоборот, его бытие преобразуется именно по логике его субстанции. Предмет преобразуется в форму, способную удовлетворить потребность, т. е. отождествляется с субъективной его определенностью. Но это не есть лишь отождествление по форме, потому что потребность определена не только формой предмета, но в первую очередь его содержанием, она предполагает наличие определенного содержания в предмете. Это содержание обнаруживается в продукте деятельности, который выступает не просто сменившим форму содержанием объекта, но как определенный субъектом есть уже нечто другое и содержательно (разумеется, не в смысле элементарного состава).[126] Это содержание теперь предметным образом выражает человеческую субъективность. Здесь, в продукте, материальном результате деятельности эмпирическим образом сведены в единство противоречивые определения предмета и отождествлены.
Тождество субъективного и объективного в предмете совершенно не означает, что субъективное и в своей предположенности, в своем идеальном бытии тождественно объективному содержанию предмета до его конкретного определения в деятельности. Их отождествляет именно деятельность. И это тождество имеет чувственный образ в форме человеческого предмета. В этом как раз и заключается определение субъективного в его истине, а деятельность (материальная) выступает критерием этой истинности. Следовательно, одновременно процесс деятельности, т. е. процесс отождествления субъективно предположенного и объективно полученного, выступает познанием действительности.[127]
Определение субъективного в его истине в процессе деятельности означает, что деятельность преобразует не только объективную определенность предмета, но и само субъективное.[128] Это изменение субъективного определения предмета и выступает реальным содержанием познавательного процесса, процесса, который не только субъективно, но и объективно направлен на более адекватное отражение объективного определения этого предмета.
В каждый момент своего развития, человечество владеет относительно истинными знаниями объективной действительности, подтверждение этому — преобразованная, очеловеченная природа, предметное выражение его духовного богатства. Развитие культуры и цивилизации поэтому — реальный показатель развития знания, субъективности вообще.
Движение познания, хотя и имеет субъективную природу, определено объективно. Объективная определенность его заключена в противоречивости самой деятельности.
Предмет деятельности есть всегда нечто иное, чем предмет потребности. Предметом деятельности всегда выступает объективное определение предмета отношения, предмет отношения — лишь субъективная определенность этого объективного содержания. Деятельность движется в логике субъективной цели, но «имеет» дело с объективным содержанием предмета. Поэтому она определяет себя объективно и по законам этой объективности преобразует последнюю соответственно цели, или наоборот, что то же самое, истинное содержание цели воплощает в объекте.
Однако результат деятельности как некая конкретность всегда богаче породившего его понятия (цели),[129] так как в понятии отражено лишь существенное и необходимое. Этот конкретный результат как включающийся во множество отношений человеческой действительности принимает на себя множество определений. Эти субстанциальные и функциональные определения суть собственные определения этой конкретности, и они отличны от определившей ее действительности, которая первоначально породила в виде цели понятие будущего результата, а далее «через» понятие реализовала себя в продукте деятельности, который есть теперь и снятый результат ее (действительности), тождественный ей, и нечто конкретное, от нее отличное. Субъективное в формах деятельности движется в процессе созидания продукта по объективным определениям предмета деятельности.[130] В момент получения продукта оно уже «проследило» процесс превращения понятия во множество определений конкретного, «знает» его в формах деятельности, его породившей, и в тех же формах идеальным образом может это конкретное воспроизвести. Насколько деятельность освоила объективное, двигаясь к своей цели, настолько субъективное знает его. В этом — а именно в противоречивости субъективного и объективного определений предмета — объективный источник движения познания.
Поэтому именно в своих определениях, в своих формах, деятельность отождествляет субъективное и объективное определения предмета, но этот предмет в своей объективности еще оставляет скрытыми для деятельности (и для субъекта, следовательно) множество свойств. Раскрытие деятельностью последних объективно обусловлено опять предметом — тем продуктом, который уже произведен и теперь выступает в общественной деятельности множеством своих определений, далеко не только предвиденных понятием его. Соответственно этому изменяется содержание самого понятия. Это изменение выступает как формирование понятия, как идеальное воспроизведение форм деятельности по его (предмета) производству и функционированию. Различие предположенного сознанием и действительно полученного заключено в «самодействии» природы, в ее «активности» т. е. тех ее имманентных закономерностях, которые частично были отражены деятельностью и подчинены ей, а частично оказались вне сферы ее преобразовательной способности (что определено ее средствами) или вовсе остались необнаруженными. Продукт выступает теперь как нечто самостоятельное, как нечто вобравшее в себя человеческую деятельность, его понятие, но подчиняющееся не только логике последнего. В качестве такового оно и определяет отношение к себе человека, полагающее деятельность, и тем самым движет познание.
Тождество субъективного и объективного проявляется в двух формах: в форме чувственно преобразованного предмета и в форме знания этого предмета, в идеальной форме. Это вытекает из того факта, что то и другое есть результат деятельности: чувственный материальный продукт создается в силу потребности в нем, а знание о нем — в силу противоречивости его производства. Деятельность порождает свою другую идеальную форму и специфическое средство ее осуществления — язык, в котором фиксируются объективные результаты деятельности. Идеальная деятельность теперь приобретает отвлеченную языковую форму, форму понятийного мышления. Наличие собственных материальных средств делает идеальную, теоретическую деятельность относительно независимой от материальной деятельности. Она имеет и свое специфическое средство — понятие,[131] которое идеальная форма существенного и необходимого содержания предмета.[132] Понятие отражает предмет лишь так, как он определен объективно деятельностью, поэтому оно отражает его только в формах этой деятельности, следовательно, оно снимает в себе ее существенные определения — субъективное и объективное. Поэтому сказать, что понятие субъективно потому, что его адекватное себе бытие идеально и наличествует лишь в сознании субъекта, было бы не совсем верно. Не верно будет так же утверждать, что оно субъективно по форме и объективно по содержанию. Его содержание столь же субъективно, сколь и объективно,[133] понятие есть предмет в единстве его субъективного и объективного определений, данный идеально. Поэтому субъективность не в идеальности. Но как форма идеальной деятельности, отличенная и отвлеченная от материального процесса ее, понятие всецело рефлексивно.[134] Ибо существование субъективного в предметных формах человеческой культуры,[135] где оно определено (выражено) объективно, есть основа существования (и формирования у индивида) адекватной себе формы субъективного, идеальной формы, выражаемой посредством языка и функционирующей по законам этого предметного мира (значит, деятельности).[136] Понятие поэтому и есть «удвоенная» форма предмета, отражающая последний в его необходимых, объективных определениях деятельностью. Оно устраняет случайные определения особенных деятельностей и воспроизводит предмет идеально в его имманентной, всеобщей и необходимой, логике, полностью определенной — и субъективно, и объективно — материальным, практическим производством его в деятельности. Понятие, таким образом, должно быть многократно опосредствовано различными особенными формами своего проявления в общественной деятельности. Лишь в силу этого оно и есть понятие как отражение всеобщего и особенного. А в качестве такового оно и теперь опосредствует всякую особенную единичную деятельность.
Из этого вытекает, что тождество субъективного и объективного в чувственном предмете отлично от его идеальной формы в понятии. В чувственно-предметной форме продукта деятельности оно имеет единичное особенное выражение, снявшее в себе особенности определений конкретной деятельности и воплотившее в себе понятие результата (цель); это — всеобщее, получившее свое единичное материальное воплощение. В понятии, эти определения единичного — особенное и всеобщее — представлены в единстве и удержаны во всеобщей форме. Тем самым и тождество субъективного и объективного в понятии имеет характер не единичного и особенного, а снявшую их форму всеобщего и необходимого.
В этом — различие понятия и предмета. А тождество их определено общностью производящей их основы — чувственно-материальной деятельностью, в формах которой и определено как первое, так и второе.
Понятое таким образом понятие всегда есть относительная истина. Неистинность его возможна лишь потому, что в силу его отвлеченности, относительной самостоятельности всеобщность его абстрагируется от единичного и особенного содержания той деятельности, которая произвела это понятие и его предмет.[137]
Предмет, в качестве ли чувственной вещи или в качестве некоторого понятия, представления и т. д., т. е. в идеальной форме вещи, может быть определен в деятельности и как ее предмет и как предмет положившей ее потребности, как средство осуществления деятельности и как средство удовлетворения потребности и т. д. Различие особенных определений человеческого предмета в деятельности определено действительным объективным содержанием его, где предварительно (поскольку он уже есть продукт) снято субъективное определение, более или менее отразившее его будущую роль в будущей деятельности.
Глава IV. Мышление как идеальная форма деятельности
§ 1. Репродуктивная форма мышления
Понятие — не просто средство идеальной деятельности, оно есть сама мысль и, далее, ее результат. Мышление предметом своим имеет понятие, не способно воздействовать и изменять чувственную материальную вещь. На первый взгляд, получается, что мышление замкнуто в себе. Но оно не было бы деятельностью, если бы не было продуктивным, если бы в своем движении только воспроизводило свое исходное как себе равное, тождественное. В такой форме оно есть лишь способ существования знания и сознания.[138]
Такое репродуктивное движение мышления, воспроизводящее уже определенные и закрепленные способы деятельности есть следствие того, что реальный процесс деятельности человека содержит в себе множество стереотипных, нетворческих операций, направленных на массовое производство определенного продукта, что вытекает из факта разделения труда в обществе и необходимости обеспечения первейших условий существования человека. Но как следствие это мышление выступает и средством своей основы. Однако оно не только средство обеспечения процесса производства однородного продукта, но вместе с тем есть необходимый момент развития деятельности, так как в нем отражается общественная противоречивость последней: стереотипизация деятельности и ее продукта не способна реализовать необходимо развивающиеся потребности и тем самым приходит к самоотрицанию. Это противоречие есть лишь социально определенная форма противоречивости логических моментов деятельности,[139] которые в реальной социальной действительности могут быть разорваны, разобщены, представляя собой единство лишь в деятельности всего общества ( отсюда иллюзия представления субъектом общества). Поэтому и развитие деятельности происходит специфическим образом, в форме разрешения противоречий общественных отношений, а реальное, действительное, отношение человека к его предмету оказывается опосредствованным общественными отношениями, а тем самым и в своей логической форме момента понятия деятельности отношение (потребность) определено как общественное.
Таким образом, понятие репродуктивного мышления не выражает сущности мышления вообще, как и определявшая его материальная деятельность не представляет собой деятельности в ее собственном и полном смысле. Но так как деятельность по своему понятию не тавтологична, мышление как идеальная форма ее так же имеет своим результатом нечто отличное от своего исходного. И это есть следствие того, что оно во всех своих формах, даже самых отвлеченных, принципиально не замкнуто в себе, а необходимо связано с практической деятельностью. И именно потому, что оно есть порождение этой деятельности и определено этой последней как ее собственное необходимое средство. Это означает, что назначение мышления — иметь дело с тем же, чем занята практическая деятельность.
Однако предмет мышления не есть непосредственно та материальность, которая суть предмет чувственной деятельности. Предмет мышления всегда дан в форме знания, но дан именно как предмет, т. е. в единстве его субъективного и объективного определений. Поэтому мышление не есть просто движение субъективного определения по объекту, сама субъективная определенность человеческого предмета оказывается в сфере движения мышления.
Предмет первоначально был предположен потребностью и реально определен в деятельности. Результатом деятельности оказалось не только определение предмета и потребности и отрицание последней в форме удовлетворения ее, но и снятие (сохранение) этих определенностей в форме знания. Поэтому в знании представлен не только материальный продукт деятельности, но и отношение к нему. Однако чувственное бытие продукта сохраняет себя не только в форме знания, но и объективно, тогда как потребность более не существует в своей действительной побудительной форме, она есть лишь как знание себя, как идеальная форма потребности. Как таковая потребность завершена в своих определениях — субъективном и объективном,— есть предметная потребность, а предмет ее выражен в единстве тех же самых определений и суть продукт деятельности. Этим продуктом потребность и отрицается и положительно определяется. Это противоречивое определение отношения продукта к потребности и лежит в основании знания: в отрицательном заключен источник идеальной формы знания, в положительном — этому знанию придается объективное содержание. В идеальной форме потребность, лишенная побудительной силы полагания реальной деятельности, воспроизводит в формах ее определившей деятельности все моменты собственной реализации.
Знание, таким образом, в своем движении опять оказалось замкнутым в формы особенной деятельности, его породившей, лишь предопределить то, что было определено эмпирическим образом. Однако это уже не есть лишь предположение потребностью своего объективного содержания, как она (потребность) выступала первоначально и в реальной положенности находила свои определения. Теперь в форме знания она предполагает свое определенное реальное бытие и определенный способ своего осуществления. Но тем самым ее бытие и осуществление положены реально, ибо она знает себя именно как потребность, а не как отсутствие ее.[140]
Поэтому мышление и не есть просто движение субъективного определения по объекту, а представляет собой идеальное воспроизведение предмета в том его движении, которое он получил в формах реальной деятельности с ним. Это и означает, что мышление есть единство субъективного и объективного, т. е. тех определений практической деятельности, противоречивое движение которых выражает сущность ее движения.
Однако здесь опять получена лишь репродуктивная форма мышления, хотя и показана ее необходимая генетическая и опосредствующая связь с практической деятельностью. Такое мышление лишь воспроизводит и поэтому направлено на производство исходного. Постижение им предмета зависит только от движения самой практической деятельности, которая, изменяя предмет, изменяет и мышление его.[141]
Таким образом, эта идеальная деятельность, поскольку она уже не есть только субъективное определение, отделена от материального процесса деятельности,[142] но своим содержанием полностью связана с ним, тождественна производимым ею определениям. Средством, которое обеспечивает ее относительно самостоятельное существование, является язык, фиксирующий в себе содержание общественно-исторической практической деятельности.
Язык «возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми».[143] Необходимость отвлеченного, т. е. в форме сознания, мышления появляется вместе с необходимостью общения, а то и другое — только силу общественного характера практической деятельности. Поэтому «язык есть практическое, существующее для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание…».[144]
Язык как действительность мышления и как его материальное средство обладает такой определенностью, которая не сводима ни к материальности, ни к идеальному. Таким определением языка является означаемость, тем самым язык как материальное образование выступает в определении системы знаков, в элементах, структуре, в «логике» которой воспроизведена (не материальным образом, а через значения) практическая деятельность общества. Значения[145] же составляют сферу идеальной деятельности, мышления и выступают содержанием знания, определенного в этой самой практической деятельности. Именно поэтому язык есть лишь средство: средство существования отвлеченного мышления и средство выражения знания (следовательно, общения). Мышление теперь опосредовано не только особенной формой конкретной деятельности, но в первую очередь языком, общественно-историческим содержанием его значений. Неразрывная связь с языком — материальным явлением — обеспечивает относительную самостоятельность движения и развития мышления.
В этой форме оно в логическом анализе первоначально выступает как репродуктивное, воспроизводит то, что в нем уже отражено. Но именно потому, что мышление есть отражение материальной деятельности, оно имеет в себе все ее моменты и противоречия. Однако конкретно-всеобщее мышления есть продукт разрешения всеобщих, сущностных противоречий материальной деятельности и поэтому не есть непосредственное отражение материального процесса деятельности. Это каждый раз есть воспроизводство конкретного содержания особенной деятельности в ее всеобщих определениях и всеобщих условиях. Эти всеобщие определения и условия человеческой практической деятельности и выражаются в логике всеобщих категорий мышления.
Репродуктивность не выступает формой абсолютного тождества материальной деятельности и мышления. В таком случае ликвидировалась бы необходимость самого мышления, оно оказалось бы эпифеноменом, излишне удваивающим содержание деятельности, а не внутренне необходимым моментом практическое деятельности. Различие их (материальной деятельности и мышления) положено противоречивостью субъективного и объективного определений деятельности как всеобщих ее моментов. Репродуктивность — лишь необходимая форма движения, момент мышления как продуктивной идеальной деятельности.
§ 2. Творческое мышление как форма деятельности
Процесс целеполагания есть процесс субъективного определения предмета потребности в его соотношении с предметом деятельности. Так как предметом деятельности является объективная определенность предмета потребности, то целеполагание суть такое движение субъективного определения предмета потребности, которое уже владеет знанием объективной определенности этого предмета. То есть субъективное определение выражает не просто биологическую природу индивида,[146] а есть выражение природы объекта. Поэтому субъективное определение деятельности есть такой процесс, в котором природа объекта поставлена в соотношение с самой собой, такой процесс, где положительный результат как тождественное объективному определению деятельности знание имеет внутри себя отрицательность, непосредственно заключенную в снятых в нем (знание) определениях потребности (отношения). Эта в себе отрицательность и есть субъективно полагаемое движение деятельности посредством самой природы, поскольку здесь (в любой форме деятельности, как материальной, так и идеальной) именно природа соотносится с природой.
Отсюда ясно, что субъект есть присвоивший себе силы природы субъект. Истинная природа его выражается не в уподоблении себе внешнего, пусть и путем его преобразования,[147] и не в приспособлении себя к этому внешнему посредством некоторой формы самоизменения, а в воспроизведении природы как самого себя. А это и суть деятельность, где произведенный продукт как преобразованная природа объективно оказывается положенной не просто как средство удовлетворения актуальной потребности, но как условие развития этой потребности, следовательно, как средство саморазвития человека. Лишь через деятельность человек есть субъект мышления и лишь в качестве владеющего мышлением он есть субъект деятельности. Содержание субъекта есть поэтому, его постоянный выход за свои собственные пределы, отрицательное его отношение к внешности объекта и тем самым положительное снятие природы объекта в себе. Таким образом, истинная субъективность заключается именно в этой отрицательности, полагающей деятельность как развитие самого субъекта. Поэтому она и не мыслится вне освоения культуры как положительного результата исторического развития человека.
Простое, пассивное освоение форм культуры еще не делает индивида действительным субъектом. В качестве пассивного индивид не имеет в себе противоречивых определений деятельности, он не выходит за пределы опредмеченной субъективности человечества; это значит, что и культуру он осваивает неадекватно, примитивно уподобляя ее себе, своим ограниченным потребностям и представлениям. Субъектом индивид становится лишь постигнув способ развития культуры, способ движения знания, т. е. лишь когда он обладает способностью не только воспроизведения (материального или идеального) предметных форм человеческой культуры, но и произведения новых предметов и форм ее. Тем самым его сущностным определением выступает творчество.
Имеющая место в разделенных формах труда стереотипизация деятельности порождает и определенное сознание. Что в этих условиях человек несовершенен и несамодеятелен объяснится разрушением деятельности, которая превращается в разобщенные формы действий, в поведение, определенное не самим субъектом деятельности, а некими непонятными ему «над ним стоящими силами». Здесь порождаются многие социальные иллюзии, различные формы «разорванного» сознания; здесь человек теряет себя и принимает за свое то, что никак не выражает действительно человеческое; здесь человек — раб тех потребностей, которые в истинно человеческом есть лишь условия реализации этого человеческого — всестороннего развития его сущностных сил. Поэтому адекватная реализация человеком себя требует восстановления его деятельности, в которой в единстве реализуются все сущностные отношения к действительности. Восстановление деятельности, единства ее внутренних моментов — сложный социальный процесс ликвидации отчуждения и устранения социальных форм разделения труда. Этот процесс требует субъективной способности. Человек должен обладать способностью постижения действительности в ее имманентной логике и на этой основе создавать истинную, научную картину мира и в ней почерпать свои идеалы и способы их утверждения. Эта способность тем самым должна исключать стихийное формирование сознания как непосредственное отражение условий и форм деятельности человека, в котором (т. е. стихийно сформированном сознании) действительность может быть дана в превращенных, искаженных формах.
Знание не тождественно мысли. Мышление — это процесс, результатом которого является знание его предмета. Знание снимает в себе мысль, есть понятие предмета мысли. Знание существует в сознании лишь в форме мысли. Но знание должно быть результатом мысли, продуктом собственного усилия ума, деятельности, а не восприниматься как нечто внешнее, обладающее способностью при овладении правилами его использования обеспечивать необходимый результат практической деятельности.[148] Мышление, воспитанное на материале развития общественно-исторической культуры, снимает в себе всеобщие принципы этого развития и делает их содержательными имманентными определениями самого себя. Как таковое оно становится культурным мышлением и вместе с тем достоянием человеческой культуры. «Культурная» мысль не просто «скользит» по знанию (по тому материалу, который оказывается ее предметом),[149] а проникает вглубь его, вскрывает сущность его содержания, тем самым показывая свою действенность и действительность. Определенная в себе своей собственной логикой (т. е. предметной), она способна усваивать внешнее, делая знание его своим внутренним содержанием.
Социально организованное производство сознания осуществляется в силу того, что сознание необходимо включено в материальную деятельность как ее опосредствующий момент. Однако так как деятельность в действительности представлена лишь в системе общественно разделенного труда, в основу института образования полагается принцип дать как можно больше знаний (информации) обучающемуся с тем, что достаточно для профессионально-производственной деятельности человека. Направленность этих знаний определяется назначением того конкретного производства, ради которого они и формируются. Процесс же мышления как действительной способности владения знанием остается практически за пределами педагогики, навязывается самой структурой обучения и содержанием преподаваемого особенного знания, в построении которых и выражается некоторая теоретическая позиция в отношении мышления.[150] А мировоззренческое содержание сознания личности формируется путем пропаганды политических знаний и содержанием самих политических институтов. Стихийность классового сознания и наличие определенных политических знаний кажутся достаточными для того, чтобы человек был определен как творчески-деятельная личность. Однако здесь получается то явление, когда способ особенной деятельности определяет не только логику мышления как необходимого момента своего собственного воспроизводства, но и возводит эту особенную логику во всеобщность, и с точки зрения этого особенного рассматривается все остальное. Не универсальная человеческая способность, опредмеченная в предметах культуры превращается в активную способность познания индивидом единичных явлений,[151] а форма его особенной деятельности оказывается способом рассмотрения человеческой культуры.
Мышление — не формально-логические конструкции, накладываемые на знание как материал, упорядочивающие его, но это есть такая способность, которая, возникая в деятельности с чувственным миром как деятельная способность сама накладывает определения на свой предмет, формирует знание о нем. Как таковое мышление выходит за пределы своего репродуктивного определения и есть творческое мышление.
Показать логически творческий характер мышления совсем не значит описать те явления, в которых оно очевидно таково. Понятие творческого мышления требует воспроизведения тех его моментов, которые делают его творческим необходимо. Поэтому это также не описание приемов и правил, с помощью которых достигается некоторое новое знание.
Поскольку мышление определено материальной деятельностью, возникает как отражение ее, оно снимает определяющие его характеристики деятельности. Оно поэтому «знает» ее и знает в единстве ее моментов; оно и есть, подобно производству материального предмета, производство знания этого предмета, которое не есть просто знание его самого по себе как знание некоторой «вещи в себе», а только как производимого именно этой деятельностью и данного поэтому в знании только через формы и определения ее. Как материальный продукт снимает в себе определения деятельности, так и знание о нем содержит в себе породившие его причины и условия, логику создавшей предмет этого знания деятельности. Поэтому мышление должно содержать в себе ту же самую противоречивость, которая была обнаружена в материальной деятельности.
Но материальная деятельность содержит в себе субъективное определение, она движется в противоречивом единстве определений потребности и объекта. Субъективное определение — это первоначально лишь определение потребности. Но когда потребность уже «знает» себя, ее субъективное определение предмета суть сознательный мыслительный процесс, содержание которого как движение знания объективно определено.
То есть мышление есть процесс воспроизводства природы по логике самой этой природы. Потребность поэтому выступает лишь как нечто полагающее эту идеальную деятельность, но полагающее не как свое отрицательное, а лишь как средство определения своего предмета, как средство определения способа практической деятельности. В процессе мышления природа воссоздается по логике самой природы, но в формах деятельности, следовательно, также субъективно. Деятельность, полагаемая отрицательностью этой субъективности, «изменяет внешнюю действительность, уничтожает ее определенность (=меняет те или иные ее стороны, качества), и таким образом отнимает у нее черты кажимости, внешности и ничтожности, делает ее само-в-себе и само-для-себя сущей (=объективно истинной)».[152]
Итак, мышление положено потребностью в качестве средства той чувственной деятельности, движение которой отрицает эту исходную потребность. Как средство мышление должно определить объективные условия осуществления чувственной деятельности и тот результат, который этой деятельностью может быть достигнут.
Цель в первую очередь соотнесена с потребностью и поэтому в форме знания результата выражает отношение необходимости. В своем идеальном содержании она должна соответствовать потребности, первое определение которой заключено в противоречивости того целого, отношение которого она выражает.
Эта в-себе-определенность потребности выражает лишь отношение к чему-то другому, в котором потребность отрицает себя. Это другое — предмет потребности — должно быть определено объективно и определяется уже не в форме односторонне определенной чувственной активности,[153] а в идеальной форме движения знания. Сама активность приобрела другую форму, но здесь, в идеальной сфере, в процессе решения задач, поставленных потребностью, она с самого начала (поскольку обладает формой знания) определена объективно. Поэтому эта идеальная активность не есть определение себя (и посредством себя потребности и ее предмета) объектом, как это было первоначально в сфере чувственной активности, где последняя исходила из субъективного определения потребности, а есть такая активность, которая с самого начала протекает в объективно определенных формах содержания знания (т. е. сама по себе объективно определена), которая своим движением в идеальной форме объективно истинно определяет способ движения и результат будущей материальной деятельности.
Способ деятельности подчинен предмету деятельности, он должен быть сообразован с этим предметом, не просто с тем его содержанием, каковое уже дано в знании, а в его соотношении с предметом потребности; иначе — этот способ должен обеспечить превращение предмета деятельности в предмет потребности. Это значит, что способ деятельности также определен противоречиво — объективно и субъективно.
Мышление устраняет необходимость практического, чувственного определения этого способа объектом, так как сам объект уже имеется идеально в знании. В этой же форме знания этот объект может быть превращен в предмет наличной потребности, т. е. идеально предвидится результат.
Такое движение знания возможно потому, что знание принципиально не замкнуто в форму некоторой особенной деятельности: оно представляет собой форму всеобщего. В качестве такового оно обладает некоторыми устойчивыми определениями-закономерностями — и в этом отношении — «безразлично» к содержанию тех знаний, которые оно включает в процесс своего движения. Всеобщие и необходимые формы общественно-практической деятельности суть формы движения мышления, суть категории мышления в сознании субъекта, выступающие действенным средством преобразования единичного особенного знания.
Процесс движения знания, идеально воспроизводя по логине объекта субъективно определенный предмет (т. е. продукт, необходимый для снятия противоречия потребности), изменяет характер самого субъективного, потребности. Противоречие потребности в результате этого движения выступает в такой форме, как это возможно и не с точки зрения ее самой (т. е. потребности), но с точки зрения возможностей самой природы, уже постигнутой и зафиксированной в знаниях, в языке, и лишь через это определяется особенным содержанием наличных условий. Но это как раз и требует исследования наличных условий существования и осуществления потребности.
Предметом мыслительной деятельности поэтому выступает вся действительность в единстве ее всеобщих и особенных определений, а не только непосредственно тот объект, в котором с точки зрения потребности заключено ее разрешающее содержание. Это содержание может быть обнаружено мышлением совершенно в других определениях, чем первоначальные определения потребности. Это значит, что мышление может иначе определить цель практической деятельности, т. е. иначе определить саму эту деятельность, чем как это непосредственно вытекало из субъективной потребности. Но тем самым иначе определяется предмет потребности, ее объективное содержание, следовательно, иначе определена сама субъективная потребность. Это выступает формой устранения первоначально субъективно определенной потребности, заменой ее таким противоречием, которое отражает сущностное определение самого субъекта. Это именно устранение обнаружившего себя в форме потребности противоречия, а не смена его формы в прогрессивном движении, потому как свою неистинность оно обнаруживает еще в форме рефлексии своей основы, существенных определений того целого, внешней формой проявления которого оно оказалось.[154]
Следовательно, мышление, таким образом, преобразует имеющиеся знания, что — в соответствии с логикой заключенного в знании содержания — своим теоретическим результатом может не только определять деятельность соотносительно потребности, но принципиально изменять направление или вообще устранять деятельность, полагаемую субъективной потребностью. Это возможно лишь в силу теоретического рассмотрения самой потребности относительно в-себе-определенной существенности и объективной определенности. Именно в этом и заключается тот замечательный факт, что теоретическое мышление устраняет необходимость самополагания практической деятельности там, где ее необходимость и истинность не доказана. Это отрицательное — вместе с положительным — определение материальной деятельности суть практический результат теории. Сам же материальный процесс, будучи по существу своему практическим, в отношении теории служит теперь критерием ее истинности. Но им же обогащается теория.
§ 3. Противоречие потребности как основание практической и теоретической деятельности
Неистинность потребности — это, казалось бы, нонсенс. Ведь если потребность есть и она осознается как потребность, она не требует какого-либо еще доказательства себя. Она уже определила себя как потребность и, следовательно, требует необходимости своей реализации.
Но дело в том, что практическое отношение человека к действительности порождает идеальную деятельность не только в форме гносеологического отношения, но также в формах эстетического, нравственного, философского и др. Эти формы отношения вложены практикой не только лишь как свое собственное средство, а именно в развитии их, поскольку в них заключено (отражено) содержание субъективности общественно-исторического человека, практика усматривает свой смысл. Поэтому субъективное определение объекта происходит также в формах этих отношений. Определения последних снимаются в целеполагании и тем самым цель не выступает лишь отражением потребности и средств осуществления деятельности, а есть выражение вообще всего содержания субъекта; она приобретает уже нравственно-гуманистический смысл, конкретно-человеческое содержание, а не есть отражение грубо-прагматического абстрактного отношения. Неистинность потребности именно там, где не выражена существенность противоречия конкретного целого.
Сущностные (необходимые и всеобщие) формы отношения человека к действительности определены предметом, но возникают они не потому, что наличествует их предмет, а только потому, что предмет деятельности отличен субъектом от себя и в преобразованной форме объекта усмотрена не только одна польза. Последнее возможно именно только в силу отличения, т. е. в силу возникновения сознания. А отсюда — эти отношения суть формы самого сознания.
Так как человеческий предмет дан индивиду в системе определенных общественных отношений и форм деятельности, то сознание в своей активной функции определено не столько общественно-историческим содержанием этого предмета, а именно общественными условиями. Отсюда — классовость сознания в классовом обществе. Другими словами, сознание явлений определено отношениями необходимого, потребностями, которые выражают не столько опредмеченную субъективность человечества, сколько характер общественных отношений, в условиях которых субъект формируется. Поэтому в условиях отчужденного труда адекватное освоение предметных форм культуры оказывается возможным лишь как социально-противоречивый процесс. Но тем самым развитие сущностных отношений, «сущностных человеческих сил» всегда выступает лишь в форме развития сознания конкретно-исторического производства человеком своей общественной жизни.
Понять общественно-историческую природу человека, общественно-ценностное воплощение его в культуре — это значит иначе себе представить действительность, иначе определить себя. Непосредственность потребности теперь опосредствована понятием сущности, т. е. выступает в единстве своего всеобщего и особенного содержания.
Процесс формирования потребностей у человека в его индивидуальном развитии суть процесс обратный рассмотренному движению деятельности: дан, лучше сказать, задан предмет и задана необходимость действования; деятельность определяется предметом, снимает в себе его общественно-исторически определенные свойства (субъективные определения человечества) и делает их действующей способностью формирующегося субъекта. Здесь не субъект производит предмет своих потребностей, а уже произведенный предмет формирует своего субъекта, формирует у него человеческую потребность в себе. Но этот процесс всецело заключен в формы деятельности, в которых существует как предмет для субъекта, так и сам субъект.
Этот процесс усвоения, распредмечивания общественно-исторической культуры должен быть построен таким образом, чтобы формировались не фрагментарно-пассивные знания действительности, а только как целостно-активная действительная субъективность. Последняя по своему понятию как раз и тождественна активности, ибо субъективность есть выражение отрицательности в себе потребностей, их противоречивости.[155]
Но для этого предмет должен быть соответствующим образом дан.
Потребность как субъективная определенность некоторого объективного противоречия есть выражение отрицательного отношения к действительности, в первую очередь в противоречивой природе самого объекта, т. е. к самой себе. Во-вторых, она отрицательна в отношении внешнего объекта, направлена к полаганию его таким, как он в отрицательном отношении ее к себе определяется ею. То есть потребность отрицает себя лишь посредством отрицательного отношения к внешнему.
Отрицательное отношение потребности к себе выступает как в-себе-противоречие субъекта ее, отрицательное отношение к объекту — как противоречие субъективного и объективного. Объект поэтому сам выступает как противоречие. Он вообще дан субъекту в форме предмета — противоречивого единства субъективного и объективного определений. А в знании предмет выступает не просто противоречивостью субъективного и объективного определений, ибо субъективное здесь уже определено объектом, а в-себе-противоречивостью его объективного определения, объекта. Поэтому потребность, поскольку она в отрицательном отношении к себе отрицательно относится к объекту, должна разрешить и снять в-себе-противоречие объекта, обнаружить этот объект в его истине. Это объективное определение потребностью себя происходит в форме движения знания, мышление поэтому суть идеальное разрешение противоречий объекта. В форме знания сама потребность выступает уже как потребность разрешения объективных противоречий с целью определения себя и возможностей изменения объекта в соответствии с этой уже определенной своей логикой. То есть потребность выступает как потребность самого знания, движимого противоречием объекта, следовательно, как потребность в знании и вместе с тем она обнаруживает себя в знании объекта. Движение знания поэтому направлено не только на объект, но и на само себя, оно рефлексивно,[156] тем самым его предметом является, в отличие от практической деятельности, вся деятельность.[157]
Отсюда понятно, что проблема формирования субъекта заключается в такой форме данности индивиду предмета общественно-исторической культуры (равно как материальной, так и духовной), которая выражает его существенное противоречие и вместе с тем противоречие уже наличной потребности. Последняя вызывает необходимость действия, которое столь же необходимо должно разрешать противоречие предмета, ибо только снятие этого противоречия разрешает противоречие потребности. Тем самым знание отражает способ движения предмета, не просто форму его внешне-эмпирического существования, данную в деятельности ограниченной потребности. Сама потребность обнаруживает себя как противоречие предмета. Поэтому потребность уже не есть произвол или односторонняя замкнутость на репродуктивные формы своего осуществления, а есть действительная субъективность, отражающая развитие человеческой культуры.
Имевшая место в образовательном процессе последовательность усвоения знания отражает необходимую связь знаний, но сама по себе эта последовательность еще не способна показать действительный способ движения знания, если она не обнаруживает собой в предмете его внутренне противоречивого принципа самодвижения.
Движение процесса деятельности разрешает противоречие потребности в продукте. Продукт оказывается отрицательным в отношении противоречия потребности потому, что он есть тождество, противоречивое единство определений потребности — объективного и субъективного. Как таковой он отличен от каждого из предположенных определений предмета потребности в отдельности, но как осуществленное их единство продукт выражает их существенные свойства и тем самым снимает положившее его противоречие.
То же самое имеет место и в теоретической деятельности. Продукт мышления также несет в себе черты сторон противоречия, которое лежит в основании движения деятельности мышления. «Осуществление в действии и в созерцании перехода от данного к искомому, от известного к неизвестному всегда есть превращение противоположностей друг в друга. Переход может быть осуществлен только через опосредствующее звено, через средний член умозаключения, как его называют в логике. Нахождение такого среднего члена всегда и составляет главную трудность задачи. … Это искомое третье всегда обладает ярко выраженными диалектическими свойствами, а именно: оно одновременно заключает и характеристики «А» и характеристики «не А», осуществляет единство, соединение противоположностей. Решить вопрос значит найти то третье, посредством коего исходные стороны противоречия соединяются, связываются, выражаются одно через другое».[158]
Заключение
Поставленная во введении задача раскрыть понятие предмета и показать способ формирования человеческих потребностей как действительного основания практической и духовной деятельности решалась нами лишь в своих основных предпосылках. Проблема логического воспроизведения всеобщих моментов деятельности, понятой как специфически человеческий способ взаимодействия субъекта и объекта, в котором проявляются и реализуются все формы отношения человека к действительности: практическое, познавательное, эстетическое, ценностное и др., не выступала для нас как специальная задача и поэтому в работе решалась только в тех аспектах, которых требовало решение сформулированных выше задач. Однако такое понимание деятельности, позволяющее решить специфическую проблему, формирования человеческих потребностей, необходимо приводит к исследованию вопросов соотношения бытия и мышления, происхождения идеального, формирования мышления, функции его в практической деятельности и других. Анализ этих проблем также вытекает из нашей задачи.
Мышление как способ существования и движения знания одновременно есть средство осуществления практического отношения человека к действительности. Будучи порождено человеческой практикой как ее собственное средство, мышление, однако, как идеальная форма деятельности активно и способно поэтому определять (обосновать или устранить) ту или иную наличную потребность, выявить ее существенность или внешний, неадекватный характер. То есть мышление «занимается» не просто обеспечением помимо него положенной практической деятельности, но как положенное тем же самым (потребностями), оно обосновывает свои эти предпосылки и тем самым в соответствии с объективной логикой содержания знания определяет направление и способ практической деятельности. На этих путях в работе и осуществлена попытка раскрыть активность сознания человека.
Логическое рассмотрение проблемы творческой активности мышления требует не просто констатации этого факта, а выведения необходимости его. Поэтому как в генезисе индивидуального человеческого мышления, так и в общественно-историческом бытии должно быть найдено такое специфическое явление, внутренние отношения которого явились бы всеобщими и по существу определяющими как онтогенез человека, так и независимое от него общественное бытие человечества. Оно одновременно поэтому должно содержать в себе общественно-исторические и индивидуальные определения. Это единство общественно-исторического и индивидуального обнаруживается в человеческом предмете, который и опосредствует формы взаимоотношения субъекта и объекта. Вместе с тем предмет обеспечивает связь индивида с обществом и историей.
Предмет выступает в двух своих формах: как чувственная вещь и как идеальное отражение этой вещи в сознании человека. Поэтому анализ предмета дает возможность теоретически раскрыть все определения человеческого мышления и а вместе с тем и способ формирования человеческой субъективности.
Основание предметных форм культуры, языка, форм деятельности происходит лишь при условии активного отношения к внешнему миру со стороны индивида. Деятельность (материальная и идеальная) — это единственный способ освоения человеческой культуры и становления человека человеком. Но формирование активного отношения происходит не в форме простой доступности предметов человеческой культуры, но лишь через «проблемность» как форму данности субъекту объективного противоречие его бытия, на основе которого возникает и формируется потребность, непосредственно лежащая в основании деятельности.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, М — 1956, стр. 592. ↩︎
В связи с этим см.: В. В. Давыдов. Виды обобщения в обучении, М — 1972, где дана основательная научная критика эмпирической теории мышления, лежащей в основе традиционной психологии, педагогики и дидактики. ↩︎
Мы имеем в виду уже ставшего человека и далее повсеместно ограничиваемся рассмотрением лишь онтогенетического развития его. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 632. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 631. ↩︎
«Общественная деятельность и общественное пользование существуют отнюдь не только в форме непосредственно коллективной деятельности и непосредственно коллективного пользования… Но даже и тогда, когда я занимаюсь научной и т. п. деятельностью,— деятельностью, которую я только в редких случаях могу осуществлять в непосредственном общении с другими,— даже и тогда я занят общественной деятельностью, потому что я действую как человек. Мне не только дан, в качестве общественного продукта, материал для моей деятельности — даже и сам язык, на котором работает мыслитель,— но и мое собственное бытие есть общественная деятельность…» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 590). ↩︎
См. «Советская психотехника» — 1934, т. VII, № 1. ↩︎
См. его «Основы психологии» — 1935; «Основы общей психологии» — М — 1940; «Проблема деятельности и сознания в системе советской психологии»,— «Ученые записки МГУ» — 1945, вып. 90, Психология. Движение и деятельность; «Бытие и сознание» — М — 1957; «О мышлении и путях его исследования» — М — 1958; «Принципы и пути развития психологии» — М — 1959 и др. ↩︎
См. его «Проблемы развития психики» — МГУ — 1972; «К. Маркс и психологическая наука» — В. П. — 1968, №5; «Мышление» — Ф. Э. т. 3, — 1964; «Проблема деятельности в психологии» — В. Ф. — 1972, №9; «Деятельность и сознание» — В. Ф. — 1972, №12, и др. ↩︎
А. Н. Леонтьев, К. Маркс и психологическая наука, В. П. —1968, №5, стр. 6. ↩︎
А. Огурцов. Практика, Ф. Э. — т. 4, М — 1967, стр. 340. ↩︎
М. О. Булатов. Поняття дiятельностi в класичнiй нiмецкiй фiлософii, «Фiлософська думка» — 1971, №2, стр. 81. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 3 ↩︎
Это требует пояснения. В «Экономическо-философских рукописях 1844 года» К. Маркс пишет: «Животное непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно есть эта жизнедеятельность. Человек же делает самоё свою жизнедеятельность предметом своей воли и своего сознания. Его жизнедеятельность сознательная. Это не есть такая определенность, с которой он сливается воедино. Сознательная жизнедеятельность непосредственно отличает человека от животной жизнедеятельности. (См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 565). Своим утверждением мы не противоречим мыслям Маркса и не отождествляем человека с животным, как может на первый взгляд показаться. Факт сознания человеком своей деятельности есть лишь идеальное удвоение ее. Но и в своем идеальном бытии деятельность, будучи отличена человеком от себя, не выходит за границы своего понятия, т. е. и в сознании она есть деятельность, сохраняет все свои необходимые моменты. Более того, само сознание выступает не чем-то противоречащим деятельности, а одним из ее определений, что и отмечает Маркс. Человек тождественен не той особенной деятельности, которую он «выполняет» в данно-конкретных социальных условиях, он как сознательное существо тождественен ее всеобщим определениям. «Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами. То, что они собой представляют, совпадает, следовательно, с их производством — совпадает как с тем, что они производят, так и с тем, как они производят». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 19). Специфичность человека по отношению к животному есть продукт его (человека) деятельности, но деятельности особой, отличной от жизнедеятельности животного. Различие их способов реализации себя и суть их различие. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 195. ↩︎
Там же, стр. 189. ↩︎
«Знание имеет двойственную природу, и его две формы воплощения олицетворяют в первую очередь самого человека. Знание как имеющая самостоятельное бытие сущность может быть мыслимо в качестве пребывающей в самой себе данности только в философской абстракции (идеальное воплощение познавательной деятельности, которая направлена на объект, выделяемый среди других объектов самим субъектом в качестве предмета познания). Только в этом случае знание дано как неизменная сама по себе реальность. Но это лишь одна как бы остановленная на одно мгновение ипостась знания. Иное дело знание в сфере культуры. Здесь оно представлено одновременно в двух своих воплощениях: как мыслительная абстракция — знание, как таковое, и как материализованная вещность, реальность». (Ц. Г. Арзаканьян. Трактовка гуманизма в современных буржуазных концепциях культуры и цивилизации. «От Эразма Роттердамского до Бертрана Рассела», М — 1969, стр. 98). ↩︎
Надо заметить, что результат деятельности может быть использован и используется не только по логике, опредмеченной в нём, которая выступала целью его производства, но и по той, которая не была предусмотрена субъектом и которая суть теперь его собственная логика, определенная его самостоятельным бытием и включением его в систему множества отношений к нему познающего и действующего субъекта. ↩︎
Животное непосредственно тождественно своему предмету. Поэтому его отношение к внешнему не есть осознанное отношение и не есть форма сознания внешнего, отличение его от себя. «Там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует для меня; животное не «относится» ни к чему и вообще не «относится»; для животного его отношение к другим не существует как отношение». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 29). ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 566. ↩︎
Там же, стр. 565. ↩︎
«… Вся человеческая деятельность была до сих пор трудом, т. е. промышленностью, отчужденной от самой себя деятельностью…» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 595). См. также их же: Соч., т. 3, стр. 31-33. ↩︎
В связи с этим см.: В. Н. Мясищев. Основные проблемы и современное состояние психологии отношений человека, «Психологическая наука в СССР», т. 2, М — 1960, стр. 111-112. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. 1, стр. 30. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 589. ↩︎
«…Подобно тому как история развития человеческого зародыша во чреве матери представляет собой лишь сокращенное повторение развертывавшейся на протяжении миллионов лет истории физического развития наших животных предков начиная с червя, точно так же и духовное развитие ребенка представляет собой лишь еще более сокращенное повторение умственного развития тех же предков,— по крайней мере более поздних.» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 495). ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 87. ↩︎
Отражение вообще является исходным материалистическим принципом исследования сознания. Однако адекватное истолкование его требует раскрытия внутренних механизмов сознания, где должна быть отчетливо показана его отражательная и творческая сторона. ↩︎
См. напр., Ф. Энгельс. «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека»; П. К. Анохин. «Биология и нейрофизиология условного рефлекса»; А. Н. Леонтьев. «Проблемы развития психики»; Р. Заззо. «Психическое развитие ребенка и влияние среды» и др. ↩︎
«Обычно здоровый мозг получает в наследство пластичность, способность к научению. Даже сама способность использовать благоприятные влияния окружающей среды, побить фатализм наследственности заложена в наследственности человека. Кроме того, именно благодаря своей наследственности человек создает свою среду, среда же дает наследственности возможность самовыражения, ориентации, оформления. Один фактор без другого теряет всякую реальность». (Р. Заззо. Психическое развитие ребенка и влияние среды, В. П. — 1967, №2, стр.). ↩︎
«Лишь благодаря предметно развернутому богатству человеческого существа развивается, а частью и впервые порождается, богатство субъективной человеческой чувственности: музыкальное ухо, чувствующий красоту формы глаз,— короче говоря, такие чувства, которые способны к человеческим наслаждениям и которые утверждают себя как человеческие сущностные силы. Ибо не только пять внешних чувств, но и так называемые духовные чувства (воля, любовь, и т. д.) — одним словом, человеческое чувство, человечность чувств,— возникают лишь благодаря наличию соответствующего предмета, благодаря очеловеченной природе». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 593-594) «Каждое из его (человека — Г. Л.) человеческих отношений к миру — зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, мышление, созерцание, ощущение, хотение, деятельность, любовь,— словом, все органы его индивидуальности, равно как и те органы, которые непосредственно, по своей форме, существуют как общественные органы,— являются в своем предметном отношении, или в своем отношении к предмету присвоением последнего, присвоением человеческой действительности. Их отношение к предмету есть осуществление на деле человеческой действительности…» (Там же, стр. 591-592). ↩︎
Биологические ресурсы живого существа выступают в роли условия активности, они обеспечивают ее. ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 592. ↩︎
В широком понимании слова орудием является все то, чем опосредуется достижение цели. Оно обладает «исключительно общественными свойствами» (Р. Пенто, М. Гравитц. Методы социальных наук, М., 1972, «Прогресс», стр. 29). ↩︎
«В противоположность орудию адаптивного действия, применяемому высшими животными в их адаптивном поведении, орудие человеческой деятельности с самого начала включает естественный орган из приспособительного видоспецифичного взаимодействия с миром как средой. Орудие деятельности превращает даже естественные органы — руки и мозг — в органы, ориентирующиеся на отношение предметного орудия к другому предмету, т. е. на имманентную логику предметности, на меру и сущность самого предмета». (Г. С. Батищев. Деятельностная сущность человека как философский принцип, «Проблема человека в современной философии», М., 1969, стр. 85). ↩︎
«Глаза сначала следуют за рукой, а потом, позднее, ее направляют. Это правило обнаруживается на всех уровнях развития…» (Р. Заззо, Психическое развитие ребенка и влияние среды, В. П. — 1967, №2, стр. 119). ↩︎
«Ребенок хорошо прослеживает предмет головой и глазами. Это — необходимое условие. Но помимо этого нужно, чтобы движения ребенка уподоблялись движению предметов, и только после этого ребенок может продлить последнее и предвидеть его. Так совершается первый переход от действия к мысли». (Там же, стр. 121). ↩︎
«… Память означает использование и участие предыдущего опыта в настоящем поведении, с этой точки зрения память и в момент закрепления реакции, и в момент ее воспроизведения представляет собой деятельность в точном смысле этого слова.» (Л. С. Выготский, Педагогическая психология, Краткий курс, М., 1926, стр. 153). ↩︎
«Природа показывает нам бесконечное множество единичных образов и явлений; мы чувствуем потребность внести единство в это многообразие; мы, поэтому, сравниваем друг с другом явления и стремимся познать всеобщее каждого из них». (Гегель, Соч., т. 1, стр. 49). ↩︎
«Всякое представление есть обобщение, а последнее есть черта мышления». (Гегель. Соч., т. 3, стр. 33).
«Представления, возникшие в чувственной деятельности и в их (людей — Г. Л.) общении, все более и более начинали служить средством планирования будущих действий, а это предполагало сравнение их разных вариантов и выбор «лучшего». Благодаря этому представления сами становились объектом деятельности человека без прямого обращения к самим вещам. Возникла рефлектирующая деятельность, позволяющая изменять идеальные образы, «проекты» вещей, не изменяя до поры до времени самих этих вещей». (В. В. Давыдов, Виды обобщения в обучении, стр. 262). ↩︎
«Звуки, падающие на ухо ребенка, приобретают значение и становятся языком только потому, что он может их имитировать, самостоятельно воспроизвести их с помощью движений гортани и губ». (Р. Заззо, Психическое развитие ребенка и влияние среды, В. П. — 1967, № 2, стр. 122). ↩︎
«… Ребенку рекомендуют размышлять, ему предлагают, например, согласовывать имена прилагательные с именами существительными. Он должен вникать и различать, он должен вспоминать правило и поступать согласно этому правилу в частном случае. Правило есть не что иное, как всеобщее, и ребенок должен приводить особенное в соответствие со всеобщим». (Гегель. Соч., т. 1, стр. 48). ↩︎
П. Я. Гальперин. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий, «Исследования мышления в советской психологии», М. — 1966, стр. 264. ↩︎
А. Н. Леонтьев. Проблемы развития психики, МГУ — 1972, стр. 369. ↩︎
Ф. Т. Михайлов. Загадка человеческого Я, М., 1964, стр. 207. ↩︎
Там же, стр. 229. ↩︎
Ф. Т. Михайлов, Загадка человеческого Я, стр. 259. ↩︎
«… Познание отличается от простого восприятия и представления именно формой понятия вообще, которую оно сообщает содержанию…» (Гегель, Наука логики, т. 3, М., 1972, стр. 268). ↩︎
В этой связи понятийное мышление можно рассматривать как специфически человеческую форму опережающего отражения, которое суть всеобщее свойство органического мира. Об опережающем отражении в биологическом мире см. П. К. Анохин, Биология и нейрофизиология условного рефлекса, М., 1968, стр. 21-27. ↩︎
А. Н. Леонтьев. К. Маркс и психологическая наука, В. П. — 1968, № 5, стр. 12. ↩︎
А. Н. Леонтьев. Проблемы развития психики, стр. 386. ↩︎
П. Я. Гальперин. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий, «Исследования мышления в советской психологии», стр. 236.
«Мысль включает движение в себя, и, по-видимому, его отрицает, но в то же время она его утверждает, увеличивает его возможности, способна компенсировать его изменчивость и неточность». (Выделено нами — Г. Л.)». ( Р. Заззо, В. П. — 1967, № 2, стр. 123). ↩︎
А. Н. Леонтьев. Проблемы развития психики, стр. 387. ↩︎
«Формы созерцания и представления не только не «вытекают» из анатомо-физиологических особенностей органов восприятия, но как раз наоборот, навязываются им извне, диктуются им, формируют их, заставляя работать органы восприятия так, как они сами по себе никогда не стали бы работать. Конечно, они в итоге, так или иначе, выражаются в изменениях нейродинамических структур, становятся также и «формами» этих последних … Когда они созданы, они действительно превращаются в физиологически закрепленные механизмы и действуют как «естественные» способности человека». (Э. Ильенков Об эстетической природе фантазии, «Вопросы эстетики», вып. 6, М — 1964, стр. 54-55). ↩︎
В психологии существует понятие разделенного предметного действия, отражающее такой способ усвоения внешнего предметного действия, который характеризуется, тем, что выполнение действия первоначально производится ребенком вместе со взрослыми, а с определенного момента ребенок осуществляет его самостоятельно. Здесь сама форма действия, выражающая определенное рациональное содержание, не просто оказывается доступной ребенку лишь в чувственной форме выполнения, его, но главное здесь то, что этой действие дано в чувственной форме его самого, а не в форме некоторого отвлеченного сигнала или неопределенной потребности. Это значит, что рациональное содержание существует непосредственно в форме чувственного действия и что чувственное дано также непосредственно в форме рационального. ↩︎
А. М. Коршунов. Теория отражения и современная наука, МГУ — 1968, стр. 15. ↩︎
«Для общей теории индивидуального сознания главное состояние в том, что деятельность конкретных индивидов всегда остается «втиснутой» в наличные формы проявления этих объективных противоположностей (т. е. в объективные противоречия общественного производства определенной общественно-экономической формации, порождающие, в частности, противоположность конкретного и абстрактного труда — Г. Л.), которые и находят свое косвенное феноменальное выражение в их сознании, в его особом внутреннем движении». (А. Н. Леонтьев. Деятельность и сознание, В. Ф. — 1972, № 12, стр. 137). ↩︎
Г. С. Батищев, Деятельностная сущность человека как философский принцип, «Проблема человека в современной философии», стр. 92. ↩︎
Там же, стр. 81. ↩︎
Там же, стр. 86. ↩︎
А. Огурцов, Практика, Ф. Э. т. 4, стр. 347. ↩︎
А. Н. Леонтьев, Проблемы развития психики, стр. 39. ↩︎
См. А. Н. Леонтьев, Проблема деятельности в психологии, В. Ф. — 1972, № 9, его же, К. Маркс и психологическая наука, В. П. — 1968, №5. ↩︎
А. Н. Леонтьев, Проблема деятельности в психологии, В. Ф. — 1272, №9, стр. 98. ↩︎
А. Н. Леонтьев, Деятельность и сознание, В. Ф. — 1972, №12, с. 131. ↩︎
С. Г. Якобсон и Н. Ф. Прокина, Организованность и условия ее формирования у младших школьников, М — 1967, стр. 30. ↩︎
См. Г. П. Щедровицкий, О принципах анализа объективной структуры мыслительной деятельности на основе понятий содержательно-генетической логики, В. П. — 1964, № 2, стр. 126. ↩︎
Там же. ↩︎
См. В. А. Лекторский, В. С. Швырев, Актуальные философско-методологические проблемы системного подхода, В. Ф. — 1971, №1, c.148. ↩︎
В. А. Лекторский, В. С. Швырев, Актуальные философско-методологические проблемы системного подхода, В. Ф. — 1971, №1, стр. 148. ↩︎
М. С. Каган, Опыт системного анализа человеческой деятельности, Ф. Н. — 1970, №5, стр. 44. ↩︎
Э. С. Маркарян, Системное исследование человеческой деятельности. В. Ф. — 1972, №10, стр. 78. ↩︎
Э. С. Маркарян, Системное исследование человеческой деятельности, В. Ф. — 1972, №10, стр. 78. ↩︎
Там же. ↩︎
М. С. Каган, Опыт системного анализа человеческой деятельности, Ф. Н. — 1970, №5, стр. 43. ↩︎
Там же, стр. 45. ↩︎
А. Полторацкий, В. Швырев, Знак и деятельность, М — 1970, стр. 80. ↩︎
Там же, стр. 91. ↩︎
«… Философский метод, т. е. диалектика как система, является универсальным средством целостного, всестороннего рассмотрения, изучения объектов науки». (З. М. Оруджев, Диалектика как система, М — 1973, стр. 7). ↩︎
В этом отношении представляет интерес книга Н. Н. Трубникова «О категориях «цель», «средство», «результат»», М — 1968, где сделана попытка диалектически рассмотреть основные моменты и условия деятельности. ↩︎
«Наиболее всеобщие абстракции возникают вообще только в условиях наиболее богатого конкретного развития, где одно и то же является общим для многих или для всех. Тогда оно перестает быть мыслимым только в особенной форме. (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 46, ч. 1, стр. 41). ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 13, стр. 497. ↩︎
«… Было бы неосуществимым и ошибочным трактовать экономические категории в той последовательности, в какой они исторически играли решающую роль. Наоборот, их последовательность определяется тем отношением, в котором они находятся друг к другу в современном буржуазном обществе, причем это отношение прямо противоположно тому, которое представляется естественным или соответствует последовательности исторического развития… Речь идет о том месте, которое они занимают в структуре современного буржуазного общества». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. 1, стр. 44-45). «…Хотя более простая категория исторически могла существовать раньше более конкретной, она в своем полном интенсивном и экстенсивном развитии может быть присуща как раз более сложной форме общества». (Там же, стр. 40). Таким образом, логика, отражающая в своих категориях моменты проявления сущности явления, исходят не из истории, а из их внутренних взаимосвязей как они представлены в развитом (т. е. раскрывшем все свои сущностные определения) целом. ↩︎
«… При рассмотрении самой сути дела должны найти место необходимости связи и имманентное возникновение различий, ибо они входят в собственное развитие определения понятия». (Гегель, Наука логики, т. 1, М — 1970, стр. 109). ↩︎
«Наблюдение открывает какой-нибудь новый факт, делающий невозможным прежний способ объяснения фактов, относящихся к той же самой группе. С этого момента возникает потребность в новых способах объяснения…» (К. Маркс и Ф. Энгельс, соч., т. 20, стр. 555). ↩︎
«… Невозможно проникнуть в действительную логику развития объекта, понять его реальный генезис иначе как через критическое преодоление той системы понятий, которая выработана всей предшествующей наукой и потому сама представляет собой исторический продукт. Любая новая теория возникает только через критическое преодоление имеющейся теории того же самого предмета. Она никогда не возникает на голом месте, без теоретических предпосылок…» (Э. В. Ильенков, Логическое и историческое, «История марксистской диалектики» M-1971, стр. 268). ↩︎
Гегель, Наука логики, т. 1, стр. 108. ↩︎
«Понятие есть форма не всякого, а лишь вполне определенного знания,— оно отображает такое единичное и особенное, которое одновременно является и всеобщим. Поскольку понятие отражает сущность предмета, источник его формообразования, а внутри этого расчлененного предмета не всякий момент может быть таким источником, то отнюдь не всегда требуется собственно понятийная форма выражения объекта. Поэтому нельзя всякий термин называть «понятием о том-то», хотя он и имеет четкое значение. Повседневная жизненная практика зачастую не требует от человека употребления именно понятий, удовлетворяясь общими представлениями (например, «стол», «трава» и т. п.)» (В. В. Давыдов, Виды обобщения в обучении, стр. 321). ↩︎
Э. В. Ильенков, Гуманизм и наука, «Наука и нравственность», М — 1971, стр. 406. ↩︎
«Представляя собой попытку выделить элементы связи и отношения, которые общи объектам всех наук и соответствуют структуре самих научных знаний, их отражающих, общая теория систем, однако, не выступает как философский метод». (З. М. Оруджев, Диалектика как система, стр. 6-7). «… Общая теория систем может иметь самостоятельное значение лишь при эмпирическом анализе материальных систем, и вспомогательное значение — при теоретическом». (Там же, стр. 70-71). ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. 1, стр. 37-38. ↩︎
Развитие понятия, снимающее исторический процесс развития предмета в его необходимости, проходит соответствующий ряд определений. Совокупность понятий, которые в своих логически противоречивых взаимопереходах раскрывают сущность исследуемого явления и тем самым дают его понятие, есть определенная теоретическая система. «Теория — это всесторонне развитое и конкретизированное понятие, а понятие — абстрактное начало и способ построения теории (как начало оно фиксирует в себе всеобщее отношение системы; как способ — тип раскрытия данного отношения, его превращения в частные формы)». (В. В. Давыдов, Виды обобщения в обучении, стр. 320). В связи с этим см. А. С. Арсеньев, В. С. Библер, Б. М. Кедров, Анализ развивающегося понятия, М — 1967. ↩︎
«Частные цели могут быть достигнуты лишь в том случае, если достигается в-себе и для-себя сущее». (Гегель, Соч., т. 1, стр. 48). ↩︎
Здесь имеется в виду деятельность в завершенности своих основных определений, а не та первоначальная активность организма по отношению к внешнему, которая, наоборот, выступает действительной предпосылкой становления сознания. ↩︎
В данном контексте сознание понимается не в узком его смысле, а как форма идеального вообще. ↩︎
Тем не менее, воспроизводство субъективных предпосылок также есть деятельность субъекта, та особенная форма ее, где уже биологические механизмы выступают в качестве природных предпосылок ее осуществления,— это суть производство чужой жизни (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 28). ↩︎
В этом, разумеется, выражена их зависимость от субъекта, но эта зависимость заключена лишь в воспроизведении этой природы в других формах. Определения природы человеком суть определения ее деятельностью. К. Маркс пишет: «…Выступает ли известная потребительная стоимость в качестве сырого материала, средства труда или продукта, это всецело зависит от ее определенной функции в процессе труда, от того места которое она занимает в нем, и с переменой этого места изменяются и ее определения». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 193–194). ↩︎
«… Определенность одной из находящихся между собой в отношении субстанций есть также определенность самого этого отношения». (Гегель, Наука логики, т. 3, стр. 11). ↩︎
«… Предпосылки, которые первоначально выступали в качестве условий становления капитала и поэтому еще не могли вытекать из его деятельности как капитала, теперь являются результатами его собственного осуществления, полагаемой им действительности, являются не условиями возникновения капитала, а результатами его бытия. Для своего становления капитал больше не исходит из предпосылок, но он сам предпослан и, исходя из самого себя, сам создает предпосылки своего сохранения и роста». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 46, ч. 1, стр. 448). ↩︎
«Первой предпосылкой человеческого сознания было развитие человеческого мозга». (С. Л. Рубинштейн, Основы общей психологии, М — 1946, стр. 148). ↩︎
«Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг… « (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 490). ↩︎
Если материальная вещь своим содержанием и формой сразу способна удовлетворить потребность, то она не выступает предметом деятельности и есть сразу ее средство, средство потребности, т. е. предмет последней. «Предмет,— говорит К. Маркс,— которым человек овладевает непосредственно…, есть не предмет труда, а средство труда». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 190). ↩︎
«Марксизм говорит об исторически неизбежных ограничениях деятельности, но вместе с тем и о преодолении их в ходе изменения внешних материальных условий, т. е. о создании, в конечном счете, таких условий, которые позволяли бы максимально свободное творческое проявление…» (Субботин М. М., Творчество и отношение полезности, А-т канд. дисс., М — 1973, стр. 7). «Поскольку деятельность людей в целом будет в меньшей мере определяться этой зависимостью (т. е. зависимостью от природы — Г. Л.), она в большей степени приобретает черты содержательности, универсальности, объективной культурной значимости. В действительности именно такая деятельность является подлинно свободной». (Там же, стр. 8). Приведем в этой связи соответствующие мысли другого автора. «Каковы же особенности технологического способа производства, основанного на применении механических средств труда и несущего в самом себе непреодолимые ограничения предметной деятельности человека?» (В. Н. Шевченко, Современные проблемы предметной среды и научно-техническая революция, Ф. Н. — 1973, №3, стр. 111).
«Свободная предметно-практическая деятельность здесь имеет место, но лишь на той основе и в тех отношениях, которые имманентно присущи машине и которыми непосредственно управляет человек. …Попытки развития машины, ее усовершенствования, в конечном счете, очень скоро начинают упираться в непреодолимый рубеж естественных (физиологических и психологических) возможностей человека. Рамки его творческой деятельности оказываются принципиально ограниченными, поскольку искусственные органы общественного человека менее сложны, чем он сам, они еще не вобрали в себя другие, более сложные стороны его деятельности. …Непосредственное управление изменением природных образований выступает условием присвоения человеком своих сущностных сил, заключенных в средствах труда, условием, дающим возможность удерживать присваиваемые сущностные силы в том состоянии, когда они есть действующие, т. е. производящие органы общественного человека. И чем более снят этот момент удержания, тем разностороннее может быть творческая предметная деятельность, ограничиваемая теперь лишь со стороны осваиваемых природных условий». (Там же, стр. 112). Но: «Приспосабливая в качестве орудий предметы и силы природы, человек заставляет природу воздействовать на саму себя, и такой способ действия в принципе ничем не ограничен, кроме самой природы». (А. С. Арсеньев, Наука и человек (Философский аспект), «Наука и нравственность», стр. 119-120). По нашему мнению, свободная деятельность — это деятельность, которая сама себя определяет. Внешние ограничения деятельности (как исторические, так и со стороны природы) не имеют отношения к анализу понятия ее и в этом анализе выступают как объектные определения деятельности и поэтому не являются синонимом ее несвободы, а наоборот, условием ее свободного развития. Несвободная деятельность — «деятельность» животного, которая лишена внутреннего развития и односторонне связана со своим предметом. ↩︎
Содержание конкретного предмета определяет и модальность отношения субъекта к нему. «… Личностный смысл выражает именно его (субъекта — Г. Л.) отношение к осознаваемым объективным явлениям». (А. Н. Леонтьев, Проблемы развития психики стр. 293). Однако это не входит в задачу нашего анализа. ↩︎
«… Сама удовлетворенная первая потребность, действие удовлетворения и уже приобретенное орудие удовлетворения ведут к новым потребностям…» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 27). ↩︎
Это так не только логически. В психологии существует понятие поискового поведения. «Оно возникает в условиях, когда предмет потребности отсутствует или не выделен во внешнем поле», и «соотносительно именно потребности, а не предмету» (А. Н. Леонтьев, Потребности, мотивы и эмоции, стр. 3). «Среди различных случаев поискового поведения особо следует выделить случаи, когда поиск вызывается возникшей потребностью до ее первого удовлетворения. Такая потребность еще не «знает» своего предмета; он еще должен быть обнаружен во внешнем поле». (Там же). ↩︎
«… Первый конкретный факт… — телесная организация этих (т. е. человеческих — Г. Л.) индивидов и обусловленное ею отношение их я остальной природе». (К. Маркс и Ф. Энгельс, соч., т. 3, стр. 19). «Люди имеют историю потому, что они должны производить свою жизнь, и притом определенным образом. Это обусловлено их физической организацией…» (Там же, стр. 29). ↩︎
В марксистской литературе существует две точки зрения на понимание субъекта. Одна из них понимает под субъектом познания и деятельности общество в целом. «В общественном материальном производстве,— утверждает Л. К. Науменко,— марксизм видит ту субстанцию, неотъемлемым атрибутом которой является мышление, ту субстанцию, которая одновременно представляет собой и субъект». (Л. К. Науменко, Диалектика активности познания, А-т канд. дисс., Алма-Ата — 1963, стр. 19).
«…Только общество в целом является подлинным субъектом познания, практически владеющим всеми объективными свойствами вещей и всеми формами деятельности». (Там же, стр. 14).
Другая точка зрения считает субъектом индивида, который весь опосредован социальным целым и представляет собой индивидуализированную тотальность общества, а не выступает как всего лишь его «часть» наряду с другими его «частями». (Г. С. Батищев, Деятельностная сущность человека как философский принцип, «Проблема человека в современной философии», стр. 92). По существу эти точки зрения мало в чем различаются. В обеих раскрывается и фиксируется общественная определенность познания и деятельности, обе рассматривают диалектику этих процессов как диалектику субъективного и объективного. Однако, по нашему мнению, каждая из этих точек зрения базируется на различном понимании места человека в системе развиваемых взглядов и объективно направлена соответственно на формирование такого понимания. Нельзя развить логически стройную теорию человека, полагая без оговорок в основу понимание общества как субъекта. Такое понимание субъекта отнимает у человека его потенции, делает его подчиненным «элементом» общества и, следовательно, снимает с него социальную ответственность, усматривает в человеке лишь средство развития общества, которое якобы лишь одно есть действительный субъект познания деятельности и истории. Человек есть «базис всей человеческой деятельности и всех человеческих отношений». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 102). «Особенно следует избегать того,— замечает К. Маркс,— чтобы снова противопоставлять «общество», как абстракцию, индивиду. Индивид есть общественное существо. Поэтому всякое проявление его жизни … является проявлением и утверждением общественной жизни. Индивидуальная и родовая жизнь человека не являются чем-то различным, хотя по необходимости способ существования индивидуальной жизни бывает либо более особенным, либо более всеобщим проявлением родовой жизни, а родовая жизнь бывает либо более особенной, либо более всеобщей индивидуальной жизнью». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, стр. 590-591). ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, стр. 589-590). ↩︎
Взаимосвязь этих сторон объективности потребности следует пояснить. «…Люди должны иметь возможность жить, чтобы быть в состоянии «делать историю». Но для жизни нужны, прежде всего, пища и питье, жилище, одежда и еще кое-что. Итак, первый исторический акт, это — производство средств, необходимых для удовлетворения этих потребностей, производство самой материальной жизни. Притом это такое историческое дело, такое основное условие всякой истории, которое … должно выполняться ежедневно и ежечасно — уже для одного того, чтобы люди могли жить». (К. Маркс и Ф. Энгельс, стр. 26). Отсюда понятно, что удовлетворение первейших природных, биологических потребностей есть лишь необходимое условие истории и что действительные определения этих потребностей заключены в исторически найденном (произведенном) предмете. Природная определенность биологической потребности — лишь выражение необходимости в действии обнаружить ее внешне-предметное содержание. «В отличие от развития потребностей у животных, которое обусловливается расширением круга отвечающих им природных объектов, у «готового», ставшего человека развитие потребностей порождается развитием производства. Именно производство, доставляя теперь потребностям предметы, служащие для их удовлетворения, этим их изменяет и создает новые потребности». (А. Н. Леонтьев, Потребности, мотивы и эмоции, стр. 7). «Если бы понадобилось в самом общем виде выразить путь, который проходит развитие человеческих потребностей, то можно было бы сказать, что он начинается с того, что человек действует для удовлетворения своих элементарных, витальных потребностей, а далее отношение это обращается: человек удовлетворяет свои витальные потребности, чтобы действовать ради достижения целей, отвечающим его высшим потребностям». (Там же, стр. 12). ↩︎
В идеальных субъективных формах это наиболее отчетливо выражено: «… Интенсивная потребность в определенных условиях может оказать воздействие на предметное содержание восприятия и изменить его в направлении ситуации, необходимой для ее удовлетворения. …Из среды выделяется и воспринимается именно это конкретное содержание потому, что в наличии имеется совершенно определенная потребность». (Ш. Н. Чхартишвили, Влияние потребности на восприятие и установка, В. П. — 1971, №1, стр. 104). ↩︎
«Мой предмет может быть только утверждением одной из моих сущностных сил, т. е. он может существовать для меня только так, как существует для меня моя сущностная сила в качестве субъективной способности, потому что смысл какого-нибудь предмета для меня (он имеет смысл лишь для соответствующего ему чувства) простирается ровно настолько, насколько простирается мое чувство». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, стр. 593). ↩︎
Тождество субъективного и объективного является и формой истины. Поэтому предмет всегда есть форма существования относительной истины (или лжи, неистинности), критерием которой как раз и выступает деятельность, которая производит реальное определение предмета и снимает субъективную определенность истины. Преобразованная материальность, т. е. предмет в форме действительного чувственного бытия субъективного и объективного есть также способ существования относительной истины, но истины уже объективной. ↩︎
«… То, чего я хочу, я представляю себе, ставлю перед собою, есть для меня предмет». (Гегель, соч., т. 7, стр. 34). ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 23, стр. 51-52. ↩︎
Там же, стр. 189. ↩︎
В принципе то же понимание мы находим у В. А. Лекторского, который считает объектом лишь ту часть объективной действительности, «которая реально вступила в практическое и познавательное взаимодействие с субъектом, которую субъект может выделить из действительности в силу того, что обладает на данной стадии развития познания такими формами предметной и познавательной деятельности, которые отражают основные характеристики данного объекта». (В. А. Лекторский, Проблема субъекта и объекта в классической и современной буржуазной философии, М — 1965, стр. 25). А «так называемый предмет есть не что иное, как выражение определенного аспекта объекта. …Предмет не есть вещь, существующая рядом с объектом, а определенная форма деятельности с объектом (выделено нами — Г. Л.). Содержание предмета говорит не о нем самом, а об определенном аспекте внешнего объекта, то есть предмет «прозрачен» для присущего ему значения». (Его же, Принципы воспроизведения объекта в знании, В. Ф. — 1967, №4, стр. 49). Этим автор и утверждает понятие предмета как единство субъективного и объективного определения реальности. Однако он вряд ли согласится с таким нашим выводом. Говоря о тенденции в научном познании, «направленной на снятие идеализаций и на переход из плоскости «замещений» объекта предметами в плоскость самого объекта», В. А. Лекторский говорит, что специфическая задача, сознательно формулируемая на стадии науки, состоит в воспроизведении объекта без всяких посторонних прибавлений, а не в том виде, в каком он выступает в той либо иной частной цели или задачи действующего субъекта». (Там же). Но это, конечно, совсем не значит, что наука вынесена рамки человеческого бытия, она, наоборот, как раз и ставит специфически человеческую цель постижения объективных закономерностей действительности, по логике которых в дальнейшем должна будет двигаться практическая деятельность, которая в своих человеческих целях «постоянно опирается на содействие сил природы» (К. Маркс и Ф. Энгельс. т. 23, стр. 52). Постижением же последних и занимается наука как форма теоретической деятельности. Иначе наука бессмысленна. А всеобщая задача ее как раз и положена необходимостью реализации «частных целей и задач действующего субъекта».
По существу те же самые различения лежат и в основе понятий «объект исследования» и «предмет исследования». «…Все то, что познается, поскольку оно еще не познано и противостоит знанию, мы называем объектом исследования. Те же самые вещи, явления, процессы, их стороны и отношения, поскольку они уже известны, с определенной стороны зафиксированы в той или иной форме знания, «даны» в ней, но подлежат дальнейшему исследованию в плане этой же стороны, мы называем предметом исследования». (Г. П. Щедровицкий и Н. Г. Алексеев, О возможных путях исследования мышления как деятельности, Доклады АПН РСФСР, т. 3, 1957, стр. 44). В этой связи см. также «Лекции по методике конкретных социальных исследований» под редакцией Г. М. Андреевой, МГУ — 1972, стр. 9-11, А. М. Коршунов, Теория отражения и творчество, М — 1971, стр. 153-157. ↩︎
«В процессе практической деятельности та или иная сторона … объекта выступает как существенно важная именно потому, что это определено самой природой объекта. Значение деятельности в том и состоит, что в ней „снимается“ внешность объекта, обнаруживаются внутренние, скрытые от прямого наблюдения его свойства». (А. М. Коршунов, Теория отражения и творчество, М — 1971, стр. 155). ↩︎
«… Действительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений…» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 3, стр. 36). «Богатый человек — это в то же время человек, нуждающийся во всей полноте человеческих проявлений жизни, человек, в котором его собственное осуществление выступает как внутренняя необходимость, как нужда» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, стр. 596). ↩︎
Существуют формы жизни — не только растительной,— использующие в процессе удовлетворения своих жизненных потребностей естественные процессы окружающей среды, оставаясь пассивными в двигательном отношении («Движения — это почти единственная форма жизнедеятельности, путем которой организм не просто взаимодействует со средой, но активно воздействует на нее, изменяя или стремясь изменить ее в потребном ему отношении». — Н. А. Бернштейн, Очерки по физиологии движений и физиология активности, М — 1966, стр. 275). Эта форма взаимодействия организма со средой обусловлена тем, что условия его существования даны в такой определенности, которая сразу и непосредственно тождественна определению их потребностью. Поэтому здесь нет необходимости в опосредствующей их реализацию активности. Активность, следовательно, есть результат противоречия определений предмета, его объективной определенности и субъективного определения потребности. ↩︎
«Познавая объективный мир, человек непосредственно имеет дело не с объектом, а с предметом исследования. Последний лишь идеальный образ объекта, отражение (выделено нами — Г. Л.), воспроизведение некоторых его сторон и аспектов.
К тому же в предмете исследования, так или иначе, находят свое выражение стремления субъекта, его интересы и т. п. Поэтому в известной степени справедливы слова Гейзенберга, говорящего: «… То, что мы наблюдаем,— это не сама природа а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов». (А. М. Коршунов, Теория отражения и творчество, стр. 153-154). Именно теоретический или практический вопрос, т. е. способ отражения реальных противоречий бытия субъекта и есть первоначальное — субъективное — определение предмета в форме знания. ↩︎
«Чувственно-практическая деятельность отдельного индивида не может служить реальным воплощением универсальной деятельности общества. Вместе с тем такое воплощение необходимо диктуется законами самой этой общественной деятельности. То, что индивид не может осуществить реально, он осуществляет идеально. Мышление и является той деятельностью, которая разрешает это противоречие». (Л. К. Науменко, Диалектика активности познания, А-т, канд. дисс., стр. 15). ↩︎
«Механизм их (высших человеческих потребностей — Г. Л.) порождения, по-видимому, состоит в ставшем теперь возможным сдвиге потребностей (имеются в виду биологические потребности — Г. Л.) на звенья, опосредствующие все более усложняющие связи человека с миром, с действительностью». (А. Н. Леонтьев, потребности, мотивы и эмоции, стр. 11). ↩︎
«Его (человеческого индивида — Г. Л.) непосредственное индивидуальное бытие снято в его бытии чисто социальном, всецело сотканном из связей с другими человеческими индивидами, и одновременно — бытии историческом, вобравшем в себя результаты всего прошлого прогресса человеческой культуры». (Г. С. Батищев, Деятельностная сущность… «Проблема человека в современной философии», стр. 92-93). ↩︎
«… Реальное отношение человека к среде становится опосредствованным — через идеальное ее отражение, которое практически осуществляется в языке». (С. Л. Рубинштейн, Проблемы психологии в трудах К. Маркса, Советская психотехника» —1934, т. 7, №1, стр. 9). ↩︎
«Когда я подвергаю нечто каким-нибудь превращениям, то я делаю это нечто существенно другим». (К. Маркс и Ф. Энгельс, соч., т. 2, стр. 115). ↩︎
«… В своей практической деятельности человек не только создает предметы. Вместе с предметами он создает и понятия предметов. Поэтому практический процесс его деятельности одновременно оказывается и процессом познания, а само познание не чем иным, как формой и частным случаем процесса предметно-практической деятельности». (Н. Н. Трубников, О категориях «цель», «средство», «результат», стр. 35). ↩︎
«… Люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления». (К. Маркс и Ф. Энгельс, соч., т. 3, стр. 25). ↩︎
«Вступая в прямое соприкосновение с предметной действительностью и подчиняясь ей, деятельность видоизменяется, обогащается; в этой ее обогащенности она и кристаллизуется в продукте. Осуществленная деятельность богаче, истиннее, чем предваряющее ее сознание». (А. Н. Леонтьев, Деятельность и сознание, В. Ф. — 1972, №12, стр. 130). ↩︎
«Когда я выгибаю из проволоки или рисую, скажем, пятиугольник, то я необходимо сопоставляю имеющееся у меня представление с предметными условиями, с этапами его реализации в продукте, внутренне примериваю одно к другому». (Там же, стр. 129). ↩︎
«Понятие выступает здесь (т. е. в теоретической деятельности — Г. Л.) как такая форма мыслительной деятельности, посредством которой воспроизводится идеализованный предмет и система его связей, отражающих в своем единстве всеобщность, сущность движения материального объекта. Понятие одновременно выступает и как форма отражения материального объекта, и как средство его мыслительного воспроизведения, построения, т. е. как особое мыслительное действие. Первой момент позволяет человеку сознавать в процессе мышления независимое от него существование объекта, который дан как предпосылка деятельности. Эта предпосылка придает понятию момент пассивности, созерцательности, зависимости от объективного содержания. И вместе с тем иметь понятие о данном объекте — это значит мысленно воспроизводить, строить его. Такое действие построения и преобразования мысленного предмета является актом его понимания и объяснения, раскрытия его сущности» (В. В. Давыдов, Виды обобщения в обучении, стр. 268-269). ↩︎
«Единство исчерпывающих определенностей содержания равно понятию…» (Гегель, Наука логики, т. 3, стр. 270). ↩︎
«… Формирование знания об объекте в ходе, прежде всего материального взаимодействия с внешним миром есть процесс, зависимый от субъекта. Но привносимое в знания, в его формы, хотя и зависит от субъекта, тем не менее, оно, в конечном счете, детерминировано практикой и через нее объективным миром. С этой точки зрения, всякое знание — истинное и ложное — осуществляется в формах, которые столь же субъективны, как и объективны. Формула: «Знания субъективны по форме и объективны по содержанию» — ошибочна. Признание объективности формы, как и содержания, не исключает субъективности того и другого…» (А. М. Коршунов, В. В. Мантатов, Эвристическая роль знаков, Ф. Н. — 1973, №3, стр. 49). См. также, А. М. Коршунов, Теория отражения и творчество, стр. 199-200. ↩︎
«…Мы имеем здесь (в рефлексии — Г. Л.) нечто удвоенное: во-первых, некое непосредственное, некое сущее, и, во-вторых, то же самое как опосредствованное или положенное. Но то же самое происходит, когда мы рефлектируем о предмете…» (Гегель, Соч., т. 1, стр. 192). ↩︎
Человеческая предметность субъективно определена уже и тогда, когда человек имеет дело непосредственно с веществом природы,— она определена общественно-историческими потребностями человека, отраженными в его сознании. В этом отношении природная вещь, если она не способна удовлетворить потребности общественного «организма» или если нет средств превратить ее в форму, способную удовлетворить их, не может выступить в качестве предмета деятельности (практической и теоретической) и, следовательно, приобрести «культурную» форму. ↩︎
«Благодаря … производству природа оказывается его (человека) произведением и его действительностью. Предмет труда есть поэтому опредмечивание родовой жизни человека: человек удваивает себя уже не только интеллектуально, как это имеет место в сознании, но и реально, деятельно, и созерцает самого себя в созданном им мире.» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 566). ↩︎
«Заблуждение … начинается только там, где ограниченно верному способу действий придается универсальное значение, там, где относительное принимается за абсолютное. … Чем более узкой была та сфера природного целого, с которой имел дело человек, тем больше мера заблуждения, тем меньше мера истины». (Э. В. Ильенков, Вопрос о тождестве мышления и бытия в домарксистской философии, «Диалектика — теория познания Историко-философские очерки», стр. 31). «… Каждый специалист склонен переоценивать значение своей области… Если ему посчастливилось найти решение проблемы, то он легко переоценивает важность полученного результата и применяет его к тем случаям, где господствуют совсем другие отношения (выделено нами — Г. Л.)». (М. Планк, Единство физической картины мира, М — 1966, стр. 195). ↩︎
Выраженное здесь различие понятий мышления, знания и сознания требует пояснения. Как формы идеального эти категории тождественны, но как самостоятельные определения процесса взаимодействия субъекта с объектом они различны. Знание есть мысль, сделавшая себя своим предметом, есть снятый и фиксированный результат рефлексии мысли. Оно присутствует в мысли как «материал» ее, как мысленная абстракция самой мысли до момента неподвижности и выступает сознанию своей содержательностью. Когда я знаю предмет как определенный этот, я мыслю его и тем самым его также осознаю, т. е. отличаю его от себя как субъекта этой мысли и ставлю себя в этом отличии в определенное отношение к нему. Поэтому лишь через мышление существуют знание и сознание, которые в нем же находят и свою действенность. ↩︎
Разумеется, логическое не порождает в буквальном смысле, не продуцирует как нечто предшествующее своих особенных форм в реальную действительность. Наоборот, оно отражает всеобщее закономерности бытия особенных форм объективных явлений. Но сами эти законы лежат в основе последних, проявляются в них. ↩︎
Именно поэтому сознательная деятельность человека направлена не только на удовлетворение наличной потребности, но я на производство средств своего осуществления. ↩︎
«… Истинная природа предмета … осознается лишь посредством некоторого изменения». ( Гегель, Соч., т. 1, стр. 50). ↩︎
«Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность… (выделено нами — Г. Л.)». (К. Маркс и Ф. Энгельс, соч., т. 3, стр. 24). ↩︎
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 29. ↩︎
Там же. ↩︎
«… Значение — это ставшее достоянием моего сознания (в большей или меньшей своей полноте и многосторонности) обобщенное отражение действительности, выработанное человечеством я зафиксированное в форме понятия, знания или даже в форме умения как обобщенного «образа действия», «нормы поведения и т. п.». (А. Н. Леонтьев, Проблемы развития психики, стр. 290). «Значение отражается, фиксируется в языке и приобретет благодаря этому устойчивость». (Там же, стр. 288). ↩︎
«… Природа индивида определяется его принадлежностью к виду и представляет собой отражение достижений определенного этапа филогенетического развития… Поэтому … рассмотрение взаимодействия отдельных организмов с внешней средой безотносительно к их природе представляет собой совершенно незаконную абстракцию. Ведь то, что является для организма его средой, и то, как эта среда выступает для него, зависит от природы данного организма; от природы организма зависят и те изменения его, которые могут возникнуть онтогенетически, под влиянием среды… Человеческий индивид, как и всякое живое существо, тоже выражает в свойственных ему особенностях черты своего вида — достижения развития предшествующих поколений». (А. Н. Леонтьев, Проблемы развития психики, стр. 356-357). ↩︎
«… Животное … тоже производит. Оно строит себе гнездо или жилице, как это делают пчела, бобр, муравей и т. д. Но животное производит лишь то, в чем непосредственно нуждается оно само или его детеныш…» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Из произведений, стр. 566). ↩︎
«… Способность, умение мыслить невозможно «вдолбить» в виде суммы правил, рецептов, как теперь выражаются,— алгоритмов… В виде алгоритмов в его (человека — Г. Л.) голову можно «вложить» лишь механический, т. е. очень глупый ум,— ум счетчика-вычислителя, но не ум математика». (Ильенков Э. В., Школа должна учить мыслить, «Народное образование»,—1964, № I, (приложение), стр. 2). ↩︎
Убожество мысли, в частности, заключается в паразитировании на языке, элементы которого (слова) могут быть носителями действительных понятий лишь тогда, когда сам язык «культурно» усвоен. ↩︎
«Стержнем учебного предмета служит его программа, т. е. систематическое и иерархическое описание тех знаний и умений, которые подлежат усвоению. Программа, фиксирующая содержание учебного предмета, определяет методы преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения и другие моменты учебного процесса. И, что наиболее существенно, указывая состав усваиваемых знаний и способ их координации, программа проектирует тот тип мышления, который формируется у школьников при усвоении ими предлагаемого учебного материала… Традиционная же система обучения, хотя и декларирует принцип научности образования, вместе с тем не обладает, на наш взгляд, адекватными средствами его целенаправленной реализации. Содержание и методы традиционного обучения ориентированы по преимуществу на привитие школьникам основ и правил эмпирического мышления — этой весьма важной, но в настоящее время не самой эффективной формы рационального познания». (В. В. Давыдов, Виды обобщения в обучении, стр. 4-5). ↩︎
«Ум, способность самостоятельно мыслить, формируется и совершенствуется в ходе индивидуального освоения умственной культуры эпохи. Он, собственно, и есть не что иное, как эта самая умственная культура, превращенная в личную собственность, в личное достояние, в принцип деятельности личности. Это — индивидуализированное духовное богатство общества». (Ильенков Э. В., Школа… «Народное образование» — 1964, № I (приложение), стр. 3). ↩︎
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, стр. 199. ↩︎
См. сноску на стр. 70-71. ↩︎
Всякое реальное отношение и форма деятельности в обществе отражается — истинно или превратно — людьми и это отражение закрепляется в понятиях, социальных институтах иди материальной предметности и тем самым принимает статус необходимости. Развитие, устранение или модификация того или иного отношения и связанной с ним деятельности происходит в той мере, в какой сознание проникает в сущность данного явления и в том направлении, в каком оказывается интерес господствующих в обществе реальных (классовых) сил, в чьих руках находятся материальные и духовные возможности овладения общественно-исторической культурой человечества, а следовательно, и возможности проникновения в сущность того или иного явления. Классовые отношения как отношения между людьми, находящимися в различном отношении к продукту человеческого труда, в котором (в продукте) опредмечены сущностные силы исторического человека и, следовательно, отношение к которому есть отношение к своей собственной сущности (различное отношение к продукту человеческого труда выражается в понятиях присвоения и отчуждения, т. е. в понятии собственности),— эти отношения, возникая первоначально через отношение к продукту (см., К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, стр. 569), выступают в обществе как следствие материального положения людей и непосредственно через это положение проявляются в сознании. Опосредованное постижение существа общественных отношений выступает исходным моментом для правильного теоретического осмысления своего классового положения и для становления научного классового сознания. Но именно этим определено социально-практическое действие человека, именно здесь выражены его человеческие потребности, отражающие существенные, а не частично-ограниченные, противоречия его общественного бытия. ↩︎
См. выше, стр. 102. ↩︎
Теоретическое обоснование его источников (отношение к бытию), способов его получения (гносеология) и существования (логика) суть предмет философии. ↩︎
«… В отличие от мышления, которое осуществляется в форме промышленной деятельности и в эксперименте и которое в силу этого жестко ограничено реальными предметными условиями, теоретическое мышление обладает принципиально беспредельными возможностями проникновения в объективную действительность, включая действительность, вовсе недоступную нашему воздействию». (А. Н. Леонтьев, К. Маркс и психологическая наука, В. П. — 1968, № 5, стр. 13). ↩︎
Ильенков Э. В., Школа… «Народное образование», — 1964, №1 (приложение), стр. 7. ↩︎