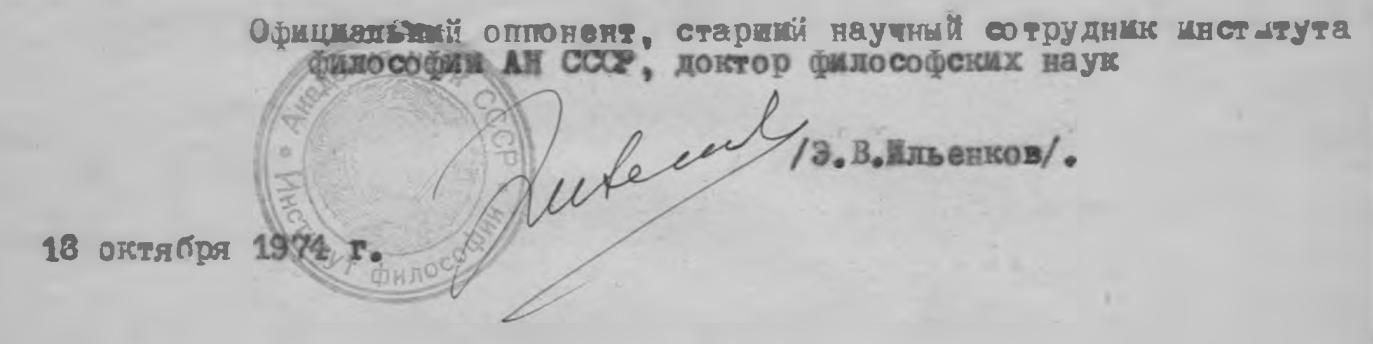Отзыв на кандидатскую диссертацию Г. В. Лобастова «Мышление и деятельность»
Э. В. Ильенков. 1974.
Исследование, проведенное Г. В. Лобастовым, представляется мне безусловно ценным в научном отношении, будучи проведенным тщательно, целеустремленно и весьма корректно. Прежде всего нужно отметить то обстоятельство, что предмет или тема исследования представляет собою не узко-ведомственную тему, могущую интересовать лишь узкого специалиста, а одну из коренных проблем мировоззренческого порядка, стоящую в центре философско-идеологической борьбы наших дней. Понятия, или, точнее, понимание сути дела, представляющие собой предмет исследовательского внимания автора, непосредственно касаются не только философии как таковой, т. е. Логики в специально-ленинском смысле этого слова, но и такой смежной с нею области, как психология, и, что еще важнее, педагогическая психология,— наука, связанная с организацией процесса воспитания и образования человека, как основной производительной силы общества. Учитывая это, не приходится тратить много слов на доказательство животрепещущей актуальности темы. Приходится доказывать другое,— а именно — необходимость анализа проблемы в самой общей форме ее постановки, в той самой форме, в какой ее и берет автор.
Главное достоинство представленной диссертации,— а тем самым и научных качеств ее автора,— я вижу именно в том, что проблема ставится здесь в общей форме, как раз в той форме, которая как раз и требует максимально-выверенной общефилософской грамотности и ясности позиций. Вопреки распространенному предрассудку, как раз в общей форме вопрос труднее всего и ставить, и решать, ибо тут легче всего съехать на повторение уже тысячи раз повторенных азов, и, соответственно, труднее всего обнаружить свое собственное творческое лицо, сказать что-то новое, свежее, не заезженное.
И наоборот, легче всего спрятать свое теоретическое безмыслие при изложении частной темы, создав иллюзию эрудиции, начитанности и специальной грамотности за счет нагромождения узко-специализированных терминов, подробностей и деталей. Это случается — увы — слишком часто, и, надо сказать прямо, не без влияния позитивистской философии, которая именно и старается внушить недоверие к разработке проблем в их общемировоззренческой форме, обзывая ее «метафизикой» и прочими обидными именами, и ориентируя на нагромождение частностей, на описание «деревьев», за которыми уже не видно «леса».
Большим достоинством работы Г. В. Лобастова является как раз умение автора протянуть ясные сквозные линии от общетеоретического плана анализа исходных понятий — до совершенно-конкретных проблем и фактов, от абстрактного к конкретному, от философии к психологии и педагогике. И не просто от философии, а от материалистической философии, от материалистического понимания связи мышления — с чувственно-предметной деятельностью, с трудом в самом прямом и точном смысле этого слова. Решая эту проблему, Г. В. Лобастов вплотную сталкивается с необходимостью свести теоретические счеты с перевернуто-идеалистическим изображением этой связи в таких классических системах, как системы Фихте и Гегеля, где «мышление», понимаемое как чисто-духовная деятельность, обрисовывается как изначальная и исходная форма деятельности человека вообще, а реальное преобразование естественно-природного материала, т. е. физический труд, как вторичная и производная форма той же деятельности, как работа по исполнению планов и замыслов, родившееся в стихии духа, «чистого мышления», как «реализация» духа в природе, в мире «вещей».
Должен сказать, что этот спор с действительными классиками, с действительно-умными представителями идеализма, хорошо понимавшими взаимную зависимость между идеальным и реальным (материальным) моментами человеческой жизнедеятельности, проводится им на весьма высоком уровне философской культуры.
Это — именно умный содержательный спор, который приводит к содержательным выводам относительно подлинной связи мышления и труда, а не ограничивается, как то частенько бывает, лишь дешевой руганью по адресу противников, изображающих эту связь в идеалистически-перевернутом виде.
Представляется мне удачным и то, что этот спор — теоретический спор с философскими системами прошлого — не вынесен в отдельный раздел, а осуществляется как сквозная линия всей работы, переплетаясь с рассмотрением современного фактического материала из психологии, из физиологии высшей нервной деятельности и педагогики. Этим автор убивает сразу двух зайцев,— с одной стороны, это позволяет ему уверенно выделять в философско-теоретических концепциях прошлого как раз те моменты, которые важны для понимания сегодняшних фактов, а с другой стороны — в самих этих фактах замечать не мелочи и подробности, а именно их всеобщие, теоретически-значимые характеристики. Делая это, автор обнаруживает, что он хорошо понял существо марксовой идеи соединения логического и исторического планов анализа проблем и умеет эту важнейшую методологическую идею применять в своем собственном исследовании. Считаю это большим достоинством диссертации и автора.
До сих пор я говорил о методологических достоинствах работы. Перейду теперь к ее оценке по содержанию, по существу тех выводов, которые с помощью указанных методологических принципов он извлекает из фактического материала и подытоживает в виде определений основных понятий, связанных с темой его работы. Я имею в виду такие понятия (категории), как «потребность», «цель», «средство», «условие», «предпосылка» и ряд других не менее важных категорий материалистической диалектики. В этом ряду находится и такое понятие, как понятие (понимание) самого понятия, как всеобщей формы мышления вообще, а тем самым — и понятие мышления вообще.
Опираясь, с одной стороны, на классическую философскую традицию (включающую, разумеется, и марксистско-ленинскую ступень ее развития, т. е. на материалистическую интерпретацию гегелевской Логики), а, с другой стороны, на современные материалы из области общей и педагогической психологии, на работы Выготского, Леонтьева, Эльконина, Давыдова, Г. В. Лобастов уверенно движется в проблеме, разворачивает свое очень четкое понимание проблемы понятия, проблемы связи понятия с языком. А это очень важный, не только теоретически, но и практически, аспект философской проблемы мышления, нужный не только логике, но и практической педагогике. Ведь известно, какой ущерб причиняет нашей школе, как начальной и средней, так и высшей, такая застарелая болезнь, как вербализм, т. е. чисто-словесное усвоение материала преподаваемых дисциплин. И надо сказать, что излечению этой старой болезни сильно препятствуют предрассудки, активно поддерживаемые позитивистскими и неопозитивистскими взглядами на мышление, на понятие, т. е. позитивистские концепции Логики, как науки. Понятие, как форма мышления, в этих концепциях более иди менее последовательно трактуется как «хорошо определенный термин», а мышление — как нечто вроде немой, «внутренней» речи. Тем самым мышление и понятие оказываются не формой отражения объективной реальности, с которой реально имеет дело человек и в деятельности, и в мышлении (в знании), а всего-навсего деятельности в слове и со словом, в языке и с языком. Против этого понимания, наносящего огромный вред научному образованию, автор выдвигает свою точку зрения на мышление, как на идеальную форму реальной, чувственно-предметной деятельности человека. Это и ведет к взгляду на понятие как на идеализированную «суть дела». На мой взгляд, это чрезвычайно точный и научно-плодотворный взгляд на понятие, и тут мне остается пожелать автору двигаться далее по пути конкретизации и детализации хорошо сформулированных им общих принципов подхода.
Содержательным и четким мне представляется также и анализ отношения между репродуктивным и творческим моментами в деятельности мышления, развернутый в 4-й главе, связанный с вопросом о путях воспитания интеллекта человека, как способности развивать далее усвоенное знание, а не просто повторять то, что сказано или написано другими людьми. Тут философия имеет прямой выход в практику образования, причем в самые острые и трудные его проблемы и трудности. Очень хорошо, что тов. Лобастов эти связи ясно видит и все время имеет в виду при разработке чисто-теоретических аспектов.
Полагаю, что сказанное дает мне полное право обратиться к Ученому Совету с рекомендацией присвоить Г. В. Лобастову искомую ученую степень кандидата философских наук, как человеку, доказавшему свою способность к серьезной теоретической работе в плане актуальнейших проблем, стоящих перед нашей наукой. Автор показал, что к такой работе он подготовлен самым серьезным образом, что он обладает нужным для нее теоретическим багажом, научной эрудицией и умением ее продуктивно использовать. Позиции, исходя из которых Г. В. Лобастов производит свой анализ, можно расценить как хорошо понятые марксистско-ленинские позиции, что и определило, как я понимаю, успех всего его исследования.
Думаю, что рукопись, при условии некоторой редакционной доработки, следовало бы рекомендовать к опубликованию.
По существу изложения вопроса у меня сколько-нибудь серьезных претензий и замечаний нет. Думаю, однако, что при доработке рукописи для печати автору следовало бы в ряде мест несколько популяризировать изложение, сделать его более доступным для широкого читателя, в том числе для педагога, для работника школы. Тут, естественно, нельзя предполагать у читателя ту эрудицию, которую обязаны иметь специалисты-философы. Второе, что хотелось бы пожелать автору на будущее,— это усиление критической струи, направленной против многочисленных современных толкований связи мышления (теоретической деятельности) и чувственно-предметной деятельностью, осуществляемой общественным человеком. Я имею в виду как откровенно-антиматериалистические концепции мышления (как то неопозитивистская концепция, паразитирующая на достижениях математики и математической логики, как «философия языка» в ее различных вариантах и пр.), так и те перекосы, которые случается с умами людей, более или менее к марксизму близких, но хорошенько его не знающих, и потому сползающих к идеалистическому пониманию «деятельности». Я имею в виду, в частности тех югославских философов, которые группируются вокруг журнала «Праксис». Думаю, что критическому разбору их позиций тов. Лобастов должен уделить больше внимания, нежели он это сделал в тексте диссертации.
Повторю еще раз, что считаю текст диссертации, представленный на рассмотрение Ученого Совета, вполне достаточным основанием для присвоения его автору, Г. В. Лобастову, искомой ученой степени кандидата философских наук по специальности «диалектический и исторический материализм». Уверен, что автор оправдает своей дальнейшей работой такое решение. Текст автореферата вполне точно воспроизводит основные идеи текста диссертации.
Официальный оппонент, старший научный сотрудник института философии АН СССР, доктор философских наук Э. В. Ильенков. 18 октября 1974 г.